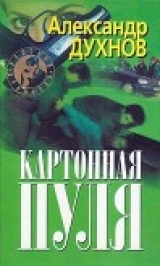
Текст книги "Картонная пуля"
Автор книги: Александр Духнов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
– Братцы, на помощь!
За то, что последние вопли умирающего долетят до ушей боевых товарищей, я не опасался. Своровскому казалось, что он кричит, на самом деле звук едва вырывался из гортани, и умирал тут же, ударяясь в ледяную стенку. Зато на его долгое отсутствие могли обратить внимание. Или там водка уже погасила все мозги?
– Пошли, – позвал я Самаковского.
– А этот?
– Пусть остается. Не с собой же тащить…
…Дверь бани легко подалась. Следующая звонко ударилась о препятствие. Передо мной схватилась за разбитое лицо обнаженная девица. Верно, собиралась искупаться в снегу или забеспокоилась по поводу Коли, а тут я деревянной плоскостью расквасил ей нос и рот. Сквозь пальцы уже проступала кровь… Что вы хотите: проституция – профессия мужественных женщин, как бы странно оно не звучало. За то и деньги платят. Не по любви же они здесь собрались?.. Девок пять или шесть отдыхали в креслах, закутавшись в простыни, стреляя глазами и припивая из фужеров вино или пиво. Так стреляют, когда соображают, кто кому достанется. И достанется ли что-то сверх тарифа? Так не доставайся же ты никому!
– Все на пол лицом вниз! – скомандовал Самаковский, пока я размышлял, как поступить – то ли извиняться перед побитой жертвой нашего внезапного появления, то ли заорать страшным голосом, то ли выстрелить в потолок.
Девушки попались сообразительные, не так чтобы все сразу рухнули с кресел, но так или иначе поползли на пол, лупая круглыми глазами…
…С веселым криком распахнулась деревянная дверь в парную:
– Колян, где пропадал?
С обнаженного тела атлетически сложенного бычка сбегали струйки пара. Сразу видно, железом балуется, вот и добаловался… Два ствола, оборудованных глушителями, мгновенно стерли с его лица красивую белозубую улыбку…
В глубине парной просматривались еще тела.
– Атас! – заорал атлет, отступая обратно в парную.
Мой глушак издал чмокающий звук, бычок выпучил глаза и, цепляясь за косяк, повалился на спину, сметая на пути деревянные перила, ограждающие каменку.
Я махнул Самаковскому на еще одну дверь, а сам через распластавшихся на полу девушек запрыгал к парной.
На полке, оторопев, решения судьбы дожидался коротконогий, заросший черной шерстью мужик, обличьем знакомый – один из тех, кто караулил меня в квартире Терехина.
К углам жались две подруги, визжа при этом запредельным образом, на сверхвысокой частоте. А парную между тем заполнял тошнотворный запах жареного мяса – мертвый атлет, шипя, поджаривался на раскаленных камнях.
Я дважды бесшумно выстрелил, и волосатый с верхней точки нагрева нырнул вниз головой.
…В соседнем помещении пахло салатом, пороховым дымом и… чемпионатом мира по шахматам… Возле окон притулились два больших клетчатых стола с бестолково собранными гигантскими деревянными фигурами – кому пришло в голову оснастить?.. Впрочем, шахматы – известная русская забава. Вот и недавно четырнадцатым по счету чемпионом мира стал простой русский парень по фамилии Халифман. Впрочем, двое других сугубо русских парней – Каспаров и Карпов – с таким подсчетом не согласны…
…За длинным столом с недоеденными яствами сидел лишь один человек – уткнувшись в блюдо с холодцом кудрявой головой.
…Самаковский дожидался меня возле деревянной лестницы на второй этаж и кровожадно оглядывался, водя смертоносным стволом из стороны в сторону.
Кудрявый мог бы спать в холодце, холодец – не худшая подушка для пьяных, но не спал, он был мертв, о чем свидетельствовали неподвижность позы и стекающая вниз кровавая клякса на стене за спиной. И раздробленная голова, если присмотреться, больше смахивала не на сферу, а на сдувшийся резиновый шарик или на неполный мешок зерна, который в советских кинофильмах в качестве последней надежды носили на плече беднейшие крестьяне… Хотя раны с моего места и не было видно.
– Я его узнал, – объяснил Самаковский, – это он мне сегодня по чайнику прикладом съездил.
– Они же все в масках были, – слабо возразил я.
– Ну и что? Я по глазам узнал.
В доме Самаковского орудовала совсем другая бригада, но, ясный перец, какой резон мне было его разубеждать?
– Должен быть еще один, – предупредил я. – Самый главный. Здоровый такой. Его бы надо живым… Вопросы к нему есть…
– Может, наверху…
Преимущество внезапности мы израсходовали полностью. Получалось, что нужно переходить к позиционным или разведывательным действиям.
– Смотри, – позвал Самаковский, но я уже и сам заметил…
Опомнившиеся подруги в простынях, а отдельные и вовсе нагишом, компактным табунком вывалились из бани и запрыгали по снегу в разные стороны…
…И тут сверху ударил автомат. Посуда на столе, стулья, забытые на стульях и на полу предметы мужского и женского туалета, гигантские деревянные шахматы запрыгали, словно поп-корн на сковородке.
Самаковский нырнул под стол, а я прижался к стене.
Очередь длилась бесконечно, секунд пять, а потом в свалившейся гулкой тишине и сообразил, что человек сверху не то спросонья, не то от бесконечной злобы и удивления расстрелял весь магазин. Если под рукой и имеется запасной, потребуется несколько секунд на перезарядку – три, четыре, пять. Достаточно, чтобы прыгнуть на лестницу и из мишени превратиться в охотника. Но я замешкался или сразу не решился, а через три секунды было уже поздно. А еще у него при себе мог оказаться второй ствол, так что я как раз и прыгнул бы под пулю.
Так или иначе, нужно менять позицию – с первой очередью мне повезло, а вторая стороной может не обойти. Подбросив ногой к лестнице оказавшегося на полу черного ферзя, я быстро перебежал в мертвую зону. Рядом тут же очутился Самаковский…
Двумя быстрыми одиночными выстрелами неизвестный снайпер, в котором я предполагал рано или поздно увидеть Корнищева, шахматную фигуру превратил в груду мелкой щепы. Значит, теперь он пользуется пистолетом…
Обстановка до боли знакомая. Я всегда верил в идею Гегеля про спиральное развитие и в ее предметное воплощение – бумеранг. Новый русский идет весь в синяках, тащит бумеранг. Его второй встречает и недоумевает: «Что за дурацкая палка? На хрен ты ее тащишь? Отчего не выбросишь?» – «А ты попробуй!»…
Все всегда возвращается. А теперешний эндшпиль прямо-таки мистически повторяет дебют. И даже также трое остывают с пулевыми ранениями, как и в прошлый раз в Заельцовском бору. Правда, нынче есть еще и утопленник, который тоже остывает и даже очень! Кстати, я сам-то не шахматист, но обстановка определяет терминологию.
– Сдавайтесь! – крикнул Самаковский. – Коттедж окружен!
«Первое отделение направо, второе налево, остальные за мной!» – чуть было не дополнил я, но шорох наверху заставил меня прислушаться.
То ли человека сверху (Корнищева?) напугал Сергунин блеф, то ли человек дочухал, что нету ему смысла дожидаться на втором этаже неизвестно чего…
– Убегает, – догадался Самаковский и первым бросился на лестницу.
Я едва поспевал следом.
Самаковский всегда казался странным. Эти его «Сникерсы», Зюганов… Не ожидал от него такой прыти, думал, так, тыл прикроет и то ладно. Что-то не припомню, чтобы раньше Сергуня рвался на амбразуру. А он в людей стреляет, словно кедровую шишку шелушит! Может, случая не представилось заметить?.. Просто Самаковский любое дело старается делать хорошо. Построил дом – чтобы правнукам достался, полюбил коммунистов – всей душой, согласился на стрелку – значит, надо работать по полной программе.
…Выстрела я не услышал. Сработал глушак, или из моей головы еще не выветрился гром автоматной очереди. Я решил, что Самаковский споткнулся на последней ступеньке, и воспользовался непредвиденным обстоятельством, чтобы его обогнать – дело мое, я и должен бежать впереди.
Сергуня лежал, как срубленная ветвь, и не думал подниматься…
…Моим глазам открылся пустой коридор, застеленный серым ковровым покрытием с пятнами от пролитых напитков и тошноты…
– Серега, – негромко позвал я и похлопал его по плечу.
…Плечо странное. Твердое.
…В торце коридора – большая дверь в широкое ярко освещенное пространство. А вдоль коридора – по три закрытые двери друг против друга…
– Серега! – я сделал попытку перевернуть его на спину.
…Самаковский нехотя подчинился, и при этом стал съезжать вниз по лестнице…
…Шесть дверей в отдельные номера, одна еще подрагивает на петлях…
…Самаковский мертв. Он умер, даже не сообразив, что жизнь кончена. Не понял, что его любимые коммунисты остались, а он их больше никогда не увидит. Ничего больше не увидит – ни коммунистов, ни демократов, ни свой плотный завтрак, ни жену Иру, ни свою дочку… Я не могу отыскать ранение, только чувствую теплую влагу под рукой… Влажной рукой я отбираю у Самаковского ствол и прячу его в карман куртки – на всякий случай. Да и вообще не привык я оружием разбрасываться.
…Если тот тип надумает выглянуть в коридор, я успею выстрелить, главное – одним глазом следить за дверью…
С той стороны раздался звон разбитого стекла и женский визг. Неужели он, словно Фокс из «Места встречи», сначала девушку выбросил в окно? Я ж говорю, все повторяется. Или, вернее, Гегель говорит. Сейчас он прыгнет в снег и умчится на «мерсе» в непроглядную ночь. И до конца жизни не избавиться мне от его преследований. Если уж он из-за двух зуботычин завелся не на шутку, то после сегодняшней расправы и вовсе с катушек слетит. И до конца жизни… Его или моей.
Покинув Самаковского, я вбежал в номер. Разбросанная постель… В угол между оконной шторой и шкафом забились три полуголые подруги и лупают глазками. Окно, действительно, разбито, и сквозь него холодный язык тянет февральская ночь.
А вот и Корншцев, Илья Корнеевич, тысяча девятьсот шестьдесят восьмой, судим. Теперь-то я его сразу узнал. Тем более, что он был в майке, как и две пятилетки назад, когда я видел его перед собой на ринге.
Илья Корнеевич прятался за дверью, и когда я появился, пытался прибить меня той же дверью. Я как будто пытался увернуться, но все же удар пришелся в плечо, и «Беретта», выпавшая из безвольной руки, улетела под кресло, на котором кучей валялись юбки, платья, жакеты, свитера, а сверху – горячий автомат Калашникова, укороченный… И все же я успел отправить спасительный удар левой нижней конечностью в сторону Ильи Корнеевича, и в свою очередь уже противоположный ствол, вращаясь, словно упомянутый бумеранг, взмыл под потолок и приземлился по другую сторону двуспального сексодрома в аккурат под ноги вздрогнувшей полуголой троицы.
Как в доисторические времена, два мужика остались друг против друга с голыми руками. То есть так… Илью Корнеевича украшала единственно длиннющая, как у игроков НБА, майка да кроссовки с незавязанными шнурками, зато штаны отсутствовали полностью – человек в возникшей суматохе предпочел не отвлекаться на подобные мелочи.
Описанный наряд не то, что не скрывал, а, наоборот, красноречиво подчеркивал сформированное тысячелетиями тело бойца-убийцы и всю имеющуюся в наличии мощь. Тяжеловат, конечно, для тридцати лет, но с другой стороны, чем это туловище можно убить?
Корнищев стоял против меня горой открытых для обозрения, подернутых жирком мышц. Гладиатор! И напротив, про мои руки нельзя было сказать, что они голые. Футболка, пуловер, финская куртка… И в кармане куртки последний подарок Самаковского – именной «пээм», девять миллиметров.
Некоторое время мы оба изучали возможность добраться до «Береты» под креслом. Для обоих расстояние получалось одинаковым… Вот мы прыгаем, катимся кубарем… Получается малоэстетичная борьба в партере.
Рот Корнищева растянулся в нехорошей улыбке. Всем своим затянутым в тяжелую броню мозгом человек ощутил близкую возможность реванша, к которому рвался десять лет и всю жизнь.
– Ну, что, баран, добился своего? Вот и встретились! – сладострастно объявил Корнищев. – Думаешь, ты чемпион?
– Да какой я чемпион? Это ты чемпион, а я просто рядом стою.
– Думаешь, думаешь!
– Значит, это правда, что ты забыть не можешь нокаут одна тыща девятьсот восемьдесят девятого года?
– А зачем мне его забывать?
Тоже верно! Какая у меня цель в жизни? Пить с друзьями водку, знакомиться с девушками и зарабатывать деньги, чтобы иметь возможность пить и знакомиться. А Корнищев – человек серьезный. И цели у него серьезные – не прощать обиду. Чем не образ жизни?
– Хочешь меня убить? – уточнил я.
– А ты как думаешь? – усмехнулся Илья Корнеевич.
– Вот и я чувствую, что пришел мой смертный час. Может, перед смертью, я имею в виду, перед моей смертью, скажешь, кто заказал Треухина с Настей?
Своим маленьким мозгом Корнищев сообразил, что над ним издеваются и бросился вперед, словно ракетный аэроплан палубного базирования. Годы у меня уже не те, реакция не та. Да что оправдываться? Пропустил бросок, засуетился – вроде, потянулся к карману и увернуться хотел, а в итоге не успел ни того, ни другого. Грохнулся затылком об пол, а сверху бетонной плитой навалился кемеровский чемпион.
Если выберусь живым из-под надгробной плиты, брошу пить, буду тренироваться.
То ли он задушить меня хотел, то ли шею переломить. Но я тоже в свое время на тренировках на шею внимание обращал не хуже, чем любой борец, а уж борцы-то понимают всю важность укрепления шейных позвонков… Корнищев неумолимо сжимал клешни на моем горле.
– Г-х-х-х, – только и мог просипеть я.
– Ничего, ничего, – прохрипел надо мной сизый от натуги Корнищев, – скоро тебе будет хорошо…
Я наконец добрался до «пээма» Самаковского и выстрелил через куртку. Жуткий Илья Корнеевич дернулся всем телом, как иногда вздрагивают во сне, но хватку не ослабил. Я выстрелил еще.
Шумно выдохнув изо рта вонючую воздушно-капельную инфекцию, Корнищев отвалился в сторону.
– Эй, друг, – позвал я, восстановив функции горла, – погоди, не умирай. Назови заказчика. Кто заказчик?
В глазах непобедимого чемпиона отражалась бесконечная пустота.
– Fly не будь сволочью, – уговаривал я. – Ты все равно умрешь. Какое тебе до него дело? А мне еще жить да жить. Эй!
Мой голос догнал его перед чудовищными вратами, мутная капля ненависти зародилась в пустой глазнице и скатилась к виску.
Страшно умирать или нет? Например, я достиг, чего хотел. Пью и знакомлюсь. А несчастный Илья Корнеевич умер, так и не утолив свою обиду. Гонялся, гонялся и… Печальный конец…»
Глава 26
Третий глаз открылся около четырех часов ночи.
На диване в своей квартире я припивал черный кофе с водкой из пол-литровой кружки, закусывая черствой краюхой бородинского хлеба. У себя я держу только бородинский, он может храниться целый месяц, и как будто только вчера сорвали с грядки – очень удобно для человека, который не знает, когда в следующий раз окажется дома.
Обнаружив давно забытую незаконченную бутылку водки в холодильнике, я сказал себе: все кончилось. Некого больше бояться, не от кого прятаться. Конечно, я не узнал имени заказчика. Но кого это теперь волнует? Треухин аннулировал заказ, а Терехину доложу, что убийство не имеет отношения ни к комбинату, ни к политике, а чьи-то персональные гуси вряд ли представляют интерес для имиджмейкера. Настя Треухина так или иначе уезжает…
Нерешенными пока остаются две проблемы: Зиновий и официальное милицейское расследование кровавой мясорубки в Боровом. Конечно, мне никогда не добиться от губернского племянника того, чего добился Коля Остен-Бакен от польской красавицы Инги Зайонц, но есть ощущение, что опасаясь шантажа, по крайней мере в ближайшее время Зиновий меня трогать не будет. Что касается ментовки… Это вечный страх. Как говорится, от тюрьмы и от сумы… Страх – он же как боль, сигнализирует о неполадках в организме и жизни. А если страх вечный? Стоит ли прислушиваться к вечному страху?
Остается Самаковский. Вернее его жена. Вернее то обстоятельство, что мне придется смотреть ей в глаза. Неизбежные и в чем-то стандартные отходы производства – такой мыслью я пытаюсь себя приободрить. Цинично? А кто сможет придумать лучшее оправдание? Ну, виноват я, ну сам когда-нибудь полягу… Или по глупости, или тоже за какую-нибудь сволочь, что, впрочем, одно и то же.
И вот я пью кофе с водкой, и передо мной мигает экраном телевизор, в котором открывает рот… эта, как ее?.. Не помню, как фамилия. Линда, что ли? Или Алсу? В коротком платье. У нее еще такой клип есть – возле холодильника в шерстяных носках…
Я включил ящик автоматически, думал настроиться на музыкальный канал. Не потому, что хотел послушать музыку, а так, чтобы что-то невоенное мелькало перед глазами. Тем более, что и звук сразу выключил.
Третий глаз как раз и включился, когда я пил кофе, а Линда поджимала ноги в носках. Только что жизнь представлялась в виде далекого, туманного и загадочного Альбиона, где я не буду никогда, и вдруг сознание насквозь прорезала молния, осветив затененные уголки, и сразу все стало понятным, будто одним движением руки фокусник сдернул черное покрывало с задрапированного предмета.
…Я захожу в квартиру Константина Альбертовича Воронова, он же Котяныч… Глянцевый блеск интерьера слепит, поэтому я сразу и не обратил внимания на ту единственную подробность, которую должен был заметить…
Диван, столик, второй столик с компьютером в противоположном углу… Над компьютером на стене две фотографии… Меньше всего я был занят разглядыванием фотографий! Взгляд лишь скользнул… но оказывается, сознание сработало, что твой эс-девяносто, в смысле «Никон», от которого не может ускользнуть ни одна деталь из захваченных объективом.
Объектив захватил… Снимок приближается… Группа загорелых детей в два ряда на фоне всемирно известной горы Аю-даг. Следующий этап увеличения, и во втором ряду я вижу светловолосую красавицу с тонким носом, в зеленом сарафане с белыми цветами, которые… цветы превращаются, превращаются цветы… в луговые ромашки.
Чтоб мне подавиться, ни красавицы, ни ромашек я раньше разглядеть не мог ни физически, ни физиологически. К фотографии я не подходил ближе, чем на четыре шага. Откуда же они выросли – ромашки? Загорелой красавице лет пятнадцать-шестнадцать, и это Настя Треухина, больше и быть некому.
А сбоку, у самой кромки снимка притулился молоденький бородатенький… Котяныч. Сроду я не интересовался его образованием, а ведь он, вроде, однажды, было дело, обмолвился, только я значения не придал и только теперь вспомнил… Опять же южные пейзажи на стенах, тот же самый романтический период. Период первой влюбленности. Первой и последней. Нет никаких сомнений, что именно они подружились друг с другом в Артеке и полюбили на долгие два года – третьекурсник новосибирского худграфа и юная дочка начинающего миллионера. Потом дочка разлюбила студента, у студента треснул шифер…
Ради безумной любви художник выбросил в мусорную корзину кисти и краски, купил пистолет… Да что они все, эти бандиты?! Вот и Анатолий Тимофеевич Баринов из поселка Малиново тоже увлекался живописью – узкие глаза изображал… Какая связь между живописью и криминалом? Вроде, никакой. Зато между живописью и шифером связь непременно есть. Все эти поэты, живописцы… вполне способны накрутить в своей башке нечто неразрешимое или смертоподобное…
Значит, выбросил кисти, купил пистолет, устроился на работу к Настиному отцу, чтобы быть ближе к объекту страсти… Все складывается, как мозаика, пазл по-научному.
Когда речь заходила о Насте, Котяныч менялся, а я в этот момент, как дурак, смотрел мимо. Он же весь аж синел… Вот так Котяныч! Маньяк хренов!
Сначала решил ликвидировать любовника своей возлюбленной, а потом и возлюбленную – чтоб в дальнейшем исключить саму возможность измены…
А тут еще я. То есть, когда после похорон Настя убежала ко мне, Константин Альбертович мог окончательно обезуметь, потерять надежду и… Включить так же и меня в список смертников. А может быть, он отчасти и стимулировал команду Корнищева насчет меня.
Настя оказалась Корнищеву не по зубам. Настя исчезла, чего маньяк совершенно вынести не мог. Он организовал наезд на мать, нанял нового исполнителя – в плаще. И опять произошел прокол… Ему оставалось лишь одно – проследить неверную возлюбленную в Москве.
О чем он думал, когда я неожиданно явился к нему? Только не о банде Корнищева. Он и думать тогда не мог ни о чем другом… Только о том, что Настя уезжает в Америку, где полно сексуально озабоченных… негров, которым его девушка будет с удовольствием отдаваться… Эти самые негры у него в глазах и стояли пачками.
* * *
Первый рейс из Новосибирска в Москву уходит в шесть утра с минутами. Воронов улетел вчера вечером…
В половине пятого звонком из машины я поднял с постели Владимира Антуаныча Михальцова.
– Антуаныч, – сказал я. – Серпуховской вал, дом семнадцать, квартира тринадцать. Нужен телефон! Срочно!
– Некогда сейчас. Давай днем разберемся.
– Ладно, давай днем. Только телефон мне нужен немедленно. Антуаныч! Понимаешь, очень надо!
– Тебе всегда очень надо.
Тут я сообразил, что голос Михальцова не похож на голос пожилого человека, едва оторвавшего тяжелую седую голову от подушки. Половина пятого, а он как будто уже зубы успел почистить и выпить чаю с лимоном…
– Не спишь, что ли? – удивился я.
– С вами поспишь! Боровое – твоя работа?
– Какое еще Боровое?
– Ага, невинный такой! Сроду ничего не знает! У вас даже фамилии похожие: Боровое-Бобровое…
– Ей-богу, Антуаныч, то, что ты говоришь, это даже обидно…
– Ладно, – не стал спорить старый мент. – В общем, бойня в Боровом. Несколько жмуров. И меня позвали зачем-то…
– Понял… Так как насчет телефона?.. Только имей в виду, Серпуховской вал – это в Москве.
Через полчаса Михальцов перезвонил, чтобы продиктовать семизначный номер. В этот самый момент утомленная ночным дежурством кассирша оформляла мой билет на Москву.
Телефон в квартире номер тринадцать не отвечал.
Еще раз я позвонил от трапа – и с тем же результатом.
* * *
В соседних креслах шумно, с чувством собственного достоинства обосновались две полные тетки с тугими икрами и явными лидерскими задатками, как сразу выяснилось, москвички. Само собой, Новосибирск – глухая деревня. И я об этом могу говорить совершенно спокойно, но когда то же самое озвучивают посторонние лица, тем более тетки, меня это, уж не знаю почему, достает. Во-первых, недолюбливаю умных икроножных теток, во-вторых… Может, это и есть патриотизм, про который говорят, что у русских его не осталось?
Одна из соседок за сорок лет жизни не смогла освоить букву эр, поэтому вместо Новосибирска у нее получался Новосибийск.
– Вот именно, вы еще Бийска не видели, – пробормотал я себе под нос.
Вот там город еще тот…
Тетки, не то бухгалтеры-аудиторы, не то политологи-экономисты, как не трудно было понять, возвращались с научно-методической конференции, которая, ясный перец, была бы совсем фуфло, если бы не их, теткино, участие.
…Я, как мог, свернулся в кресле. Сквозь полудрему, образуя бесконечные окружности, до меня доносилась однокоренная терминология, нечто из утиной жизни: кредит, креативный, крестьянство, кремлевский, кретин…
Под орнитологическое кряканье полудрема превратилась в сон, из которого восставал голубой Леша Своровский. Голубой не по половой ориентации, а по цвету кожи, и даже синий, с изморозью на губах. И не из сна он восставал, а из квадратной полыньи. Оставляя отпечатки босых ног в снегу, шел на меня, растопырив подернутые сосульками руки и напевая песнь из Земфиры – весь такой из себя креативный…
…Коровы-москвички меня разбудили… Засобирались в туалет и задели икроножными мышцами заснувшего спутника. Судя по хронометру, я отсутствовал семь минут.
* * *
Звонок от трапа в «Шереметьево» опять же наткнулся на нескончаемые длинные гудки.
Я не хотел думать о десятичасовой форе Воронова.
* * *
Наглость московских специалистов частного извоза может соперничать с их же застенчивостью.
На выходе с летного поля, как водится, таких специалистов столпилось десятка три, позвякивающих ключами и жаждущих исполнить свой долг.
– Серпуховской вал, – объявил я первому попавшемуся.
Вот тут и проявилась застенчивость.
– Девятьсот, – объявил он с интонацией, живо напомнившей мне покойничка Андрея Миронова из старинной ленты «Берегись автомобиля», когда Галина Волчек хотела купить из-под прилавка заморский «Грюндиг».
Утренний таксист назвал сумму и первый же ее устыдился, уточнив:
– В смысле рублей.
Он бы еще запросил девятьсот девяносто девять.
– Поехали, – без колебаний согласился я.
А дальше уже пошла окончательная, то есть предельная застенчивость:
– Сейчас, погоди, – сказал он, – может, еще кому-то в ту же сторону…
Тут и я не выдержал, проявил исконную сибирскую скромность – схватил мужика за отвороты куртки и, дыша нечищеными зубами рот в рот…
В общем, попутчиков дожидаться не стали…
* * *
Дверь, маркированная табличкой с номером тринадцать, оказалась незапертой и открылась бесшумно.
Внутри пахло моргом. Конечно, я опоздал и сейчас передо мной откроется… Перемазанное кровью, резиновое то, что осталось от живой девушки Насти, которую однажды мне довелось поцеловать.
Я сделал шаг и увидел странный пейзаж. Настя сидела на диване живая и здоровая, но экипированная довольно экстравагантно. Белая блузка расстегнута до половины, так что виден краешек кружевного бюстгальтера. Одна нога голая, но в туфле на высоком тонком каблуке, вторая – в чулке.
Она тоже меня увидела, но я сообразить не мог, какие чувства отражаются на ее лице.
Перед ней на полу в беспорядке валялось множество предметов дамского туалета, от платьев до нижнего белья и скомканных колготок.
Продвинувшись в комнату еще на полкорпуса, я наткнулся на направленный на меня ствол и, разумеется, Котяныча, сидящего на стуле с гнутой спинкой у невысокого элипсообразного столика в противоположном от.
Насти углу комнаты. Получилось, что мы держим друг-друга на мушке.
– Заходи, дядя!
Я так и не понял, удивился Воронов моему появлению или ожидал чего-то в этом роде. Он умный, а умные умеют предугадывать. А я так точно не удивился, встретив Константина Альбертовича. Последний сегмент мозаики с изображением его вооруженной фигуры занял последний промежуток художественно-документального полотна под названием «Маньяк избавляется от приятелей своей бывшей возлюбленной, а в конце убивает и саму возлюбленную».
А ведь сегмент-то не последний. Умертвив предмет страданий, он направляет ствол в свой висок… Или наоборот, педантически уничтожает отпечатки пальцев и иные доказательства своего присутствия, возвращается к нормальной жизни, знакомится с другой девушкой, женится, воспитывает сына и дочку, выходит на пенсию…
Или я стреляю первым…
Воронов шибко умный, но лицо синее, а шея раздулась, как у одной рыбы, не помню названия. Вернее, у нее не только шея раздувается, она делается похожей на теннисный мяч, когда ее достают из воды. Вот именно, Котяныч сейчас напоминал теннисный мяч, хотя сам по себе он довольно сухопарый паренек. А в глазах мерцает красноватый огонек, то ли признак переутомления, то ли отблеск далеких костров, что пылают в преисподней.
Несмотря на явное возбуждение, стрелять он, похоже, не собирается. По крайней мере не в эту самую секунду.
– Ребята, чем вы тут занимаетесь? – спросил я.
– Развлекаемся, – ответил Котяныч. – Вот смотри… А теперь второй чулок сними.
Последняя фраза предназначается Насте, хотя цепкий, окрашенный в багровые тона взгляд Котяныча по-прежнему нацелен на меня.
Настя не шелохнулась.
– Стесняется, – пояснил Воронов. – Тебя стесняется. А до тебя тут такой театр одного актера был, вернее актрисы. Жалко, ты к началу опоздал. Мы с ней за ночь почти весь гардероб перемерили. В разных комбинациях…
Гардероб Котяныча выглядел так, будто сам он и не думал раздеваться. Пиджак, галстук… Разве что верхняя пуговица рубашки расстегнута, чтобы шея не потекла через край. То есть получается, что физически они не того… В смысле он ее не трогал. Неужели всю ночь только смотрит?
Я читал, так бывает. И слово еще есть такое. Вуайеризм, что ли… Наверное, считает ее оскверненной, поэтому сам не прикасается, а наказывает, как умеет. На расстоянии.
– Ты ведь с ней тоже спал? – неожиданно переменил тему Воронов.
– Нет.
– Врешь. А она сказала, что спал.
– Ничего я не говорила, – слабо запротестовала Настя.
– А ты пока помолчи. Когда надо будет, тебя спросят.
– Костя, ты бредишь, – осторожно заметил я. – Проснись и все пройдет.
– Сам ты бредишь. Ты и не жил-то никогда по-настоящему.
– А ты жил?
– Я-то? Само собой! Еще как! Я жил в огне. Вы оба даже представить не можете, каково это – жить в топке. Когда в огне – это и есть настоящая жизнь, а когда в холодильнике, это самый сон и есть.
– Что-то не замечал за тобой раньше… Костя, ты же спокойный, рассудительный…
– А что ты вообще замечал? Воображаешь себя проницательным!.. А ты сюда вообще-то к Насте приехал? Развлечься? Или все-таки догадался? Или, может, ребята в Боровом рассказали? Кстати, как там у вас все прошло? Ты там был?
– Был. Душевно прошло. Кое-что ребята рассказали, кое-что додумал.
– И чем там кончилось?
– Все устроилось, все нормально. Давай и здесь все мирно решим.
– Как это?
– Уберем волыны и разойдемся по-хорошему в разные стороны. Ты мне не нужен, я тебя топить не буду… Я тебе не нужен… Девушка пусть уезжает…
– Мирно не получится. Я тебе, может, и не нужен. Может, и ты мне не нужен. А девушка никуда не поедет.
– Это ты к чему клонишь?
– Н-не знаю пока. Думаю.
Девушка никуда не поедет… Не собирается же он под пистолетом вырвать у нее обещание выйти за него замуж! Конечно никуда не поедет. И я никуда не поеду! Обожравшись эротическим шоу, он выпишет ей последний билет. В прозекторскую судебной экспертизы, И мне за одно – билет в один конец и в том же направлении.
– Настя, а что в самом деле, сними ты этот чулок, жарко же, – подыграл я Котянычу в расчете хоть на мгновенье отвлечь его внимание.
Как назло, в тот же миг позади раздался звук неясного происхождения, может, донесся через стену из соседской квартиры – не то зашуршало, не то заскрипело… Вместо того, чтобы контролировать реакции Воронова, я сам обернулся.
– Не надо дергаться, – раздался голос над ухом, после чего в то же ухо уперся твердый предмет, в котором без труда можно было угадать ствол.
Краем глаза я заметил, что человек, сумевший подкрасться почти бесшумно, одет в белый плащ.
– А эту штуку давай сюда.
Досадуя на свой недоразвитый слух, но сохраняя при этом неподвижность головы, я расстался с «Береттой».
– Вот так – хорошо, – ухмыльнулся Воронов. – А знаешь, ведь еще вчера я сомневался насчет тебя, потому что не был уверен… насчет тебя и Насти. Когда ты в одиночку собрался на Корнищева, я решил, вот пусть судьба и рассудит. Вообще-то я ставил против тебя пять к одному. Но всякое в жизни случается… Все-таки что там в Боровом произошло? Да ты не ерепенься! Чего уж теперь из себя Зою Космодемьянскую изображать? Давай рассказывай все, как есть… Да мне собственно наплевать. Сегодня вечером сам все узнаю…








