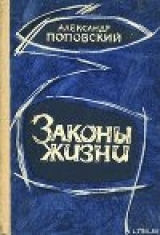
Текст книги "Пути, которые мы избираем"
Автор книги: Александр Поповский
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
Примирение
Шевелева решила продолжать свою работу. Она проследит, действительно ли пучки выделяют неодинаковые вещества и этим достигаются различные влияния на мышцу. Заодно она выяснит природу этих химических соединений. Жаль, что учитель не объяснил ей, как промывать шейный узел, как из оттекающей жидкости выделять накопившиеся в ней вещества. Никто другой этой методике ее не научит, никто не сумеет помочь. Ничего не поделаешь, придется самой…
То были трудные дни в жизни молодой аспирантки. Приступив рано утром к работе, она нередко приходила в себя, когда часы возвещали полночь. Ее усталые руки отдыхали, но долго еще напряженно трудилась голова. Ночь становилась пособницей дня, в ее тишине зарождались идеи, которые завтрашний день осуществит. В этом безудержном труде не было радости – творческой награды исследователя. За успехом неотступно следовали тревога, мысли о том, что она ничего еще не добилась, время уходит, ей не поспеть к сроку, которого, кстати сказать, никто ей не ставил. Когда усталость брала верх и закрадывалась жажда покоя, она подстегивала себя мыслью о том, как важны ее опыты, как удивится и обрадуется Быков, убедившись, что она это время не проводила без дела и продолжала работать над узлом. Особенно понравятся ему ее кривые – Быков знает толк в этих тщательных записях регистрирующего аппарата и любовно уснащает ими свои статьи.
Так шли недели, миновал месяц, к концу шел второй. Молодая аспирантка усердно работала. Во многом она с трудом разбиралась, многое одолевала на ходу, не всегда хватало опыта, знаний. Недоставало и того, кто так искусно и с пользой возвращал ее к действительности. Некому было сказать ей: «Куда вы несетесь, не чуя земли! Остановитесь, Вероника Сергеевна, довольно! Ну где ваши факты? К чему эти головокружительные планы?» Она соскучилась по его беседам, ярким обобщениям, при свете которых тупики приобретают перспективу… Ее работа над шейным узлом шла успешно. Давно была усвоена методика исследования. Аспирантка перевязывала у кошки сосуды, снабжающие и отводящие кровь от узла, и пускала в опустевшую артерию питательный раствор. Оросив шейный узел, жидкость из артерии переходила в вены и оттекала из единственной веточки в пробирку. Сделав орган независимым от общего круга кровообращения и регулируя его питание по своему усмотрению, аспирантка намеревалась искать в растворе, омывающем узел, вещества, образующиеся в каждом из пучков нерва.
Таков был инструмент физиологического эксперимента. Дальнейшее ничего нового не заключало. К нервным пучкам подводили электроды и раздражали электрическим током нервную ткань. После каждого раздражения Шевелева собирала оттекающую жидкость и изучала ее. Так был получен желанный ответ. Химический анализ подтвердил, что пучки, вызывающие сокращение третьего века, выделяют уксуснокислый холин, а пучок с тормозящим влиянием – вещество, подобное адреналину.
Не ошиблась ли она? Возможно ли, что нерв выделял неоднородные продукты? Нет ли тут упущения? Строго говоря, для природы ничего невозможного нет, но научные решения следует принимать осторожно.
Опыт повторили с небольшим изменением. Электроды подвели к трем пучкам, вызывающим возбуждение третьего века, и включили электрический ток. Четвертый – тормозной – при этом не раздражали. Зато в раствор, питающий узел, пустили адреналин – продукт, схожий с выделениями четвертого пучка. Результат был такой же, как если бы одновременно раздражали все четыре пучка; возбуждение неизменно умерялось торможением.
Этим наблюдением было попутно разрешено другое недоразумение. Кибяков в свое время, исследуя раствор, оттекающий из шейного узла после раздражения идущего к нему нерва, обнаружил, как известно, в найденном им веществе свойства, подобные адреналину. Открытие Кибякова получило признание в стране и за границей, однако некоторые исследователи утверждали, что в растворе содержится не адреналин, а уксуснокислый холин. Открытие Шевелевой примиряло эти противоречия – в выделениях нерва оказывалось и то и другое.
В один из мартовских дней, когда аспирантка, все еще предоставленная самой себе, сидела с низко надвинутым на глаза шлемом и расщепляла лежащий на пластинке симпатический нерв, подливая время от времени кошке эфир, в дверь постучались и вошел Быков. Он был в аккуратно застегнутом халате, чисто выбритый, свежий. И движения и взгляд выражали сдержанную благожелательность.
– Я не помешал вам? – спросил ученый. – Вы, кажется, заняты. Я зайду позже.
– Нет, нет, что вы!..
Он нисколько ей не мешал. Она вовсе не занята, положительно не занята ничем. Опыт закончен, осталось несколько слов внести в протокол…
Аспирантка порывисто придвигает ученому стул и, словно опасаясь, что он снова исчезнет и не скоро покажется, просит его:
– Садитесь, пожалуйста, я слушаю вас.
Он не может сесть, пока она стоит, им уж лучше побеседовать стоя.
– Как идут ваши дела? Много успели? Дела? Хорошо, превосходно. У нее много новостей для него… Она чуть не проговорилась, что два месяца уже ждет его прихода. Каждый день она себе говорила: «Быков, вероятно, сегодня придет, не может же он пренебречь такими материалами. Ему необходимо познакомиться с ними».
– Я приготовила доклад. Хотите, прочту вам?
Он берет из ее рук доклад и, бережно сложив его, говорит:
– Я прочту позже. Расскажите, что вы успели сделать?
Ученый внимательно выслушивает ее и признательно кивает головой.
– Вы окончили аспирантуру, можете писать диссертацию. Времени вам осталось немного, завтра последний ученый совет в нынешнем, сорок первом году. Надо завтра же работу подать.
То есть как это – подать? У нее ни строки не написано, она над этим не подумала еще…
– Написать диссертацию за один день? – не верит девушка своим ушам.
На это следует его спокойный ответ:
– Я объяснил уже вам, что завтра последний ученый совет…
– Но почему именно в нынешнем, сорок первом году?
– Потому что наука, – отвечает он ей в тон, – не может ждать. У нее свои планы, независимые от ваших капризов.
Ученый мягко берет аспирантку за плечи, приводит ее к себе в кабинет и так же мягко усаживает в кресло:
– Устраивайтесь и пишите здесь.
Назавтра Шевелева вручила ученому материалы диссертации. Труд вчерне был готов.
– Готовьтесь защитить диссертацию, вам отпущено пятнадцать дней.
Пятнадцать дней? Она не справится в такое короткое время. Какие основания спешить? С нее довольно того, что работа была сделана за ночь. К защите она намерена готовиться всерьез.
– У вас скверный характер, – напомнил он ей, – я заявляю это вам уже не впервые.
– Простите меня, Константин Михайлович, – говорит она, – я буду стоять на своем.
– Аспирантка Шевелева, – произносит он строго, – я предлагаю вам исполнить приказ! Кстати, о самой диссертации – я просил вас не философствовать. Физиология – наука, основанная на фактах, а вы позволили себе всякого рода отвлечения. Взяли бы пример с Павлова и Гарвея, с этих подлинных рыцарей факта.
Первого июля, в один из тех дней, когда самолеты врага обрушили на город огонь и металл, аспирантка с противогазом через плечо явилась защищать свою диссертацию. Труд обнимал сорок шесть страниц и назывался: «Механизмы передачи возбуждения в верхнем шейном узле».
В три часа дня оппонент поздравил аспирантку с удачей, и ей присудили ученую степень.
В дни голода и блокады она продолжала занятия. В институте давно уже никого не осталось, уехал и Быков с Морской академией, а молодая кандидатка биологических наук не оставляла работы. В вечерние часы она готовила для фронта сестер, а ночами проверяла затемнение на улице и гасила зажигательные бомбы на крыше.
Судьба привела ее на Урал, на скромное положение вычислителя геофизической обсерватории. Полем ее деятельности был краешек стола, а инструментом исследования – логарифмическая линейка. Ей поручили тему и направили с экспедицией в Среднюю Азию. Спустя год в «Известиях Академии наук СССР» появилась ее первая работа о смешиваемости атмосферы по вертикали, а вслед за тем и вторая – об определении скорости ветра на различных высотах по наземным данным. Ее назначили на должность старшего научного сотрудника, определили инженером, а вскоре и старшим инженером…
Любила ли Шевелева свою новую профессию? Разумеется, любила. Она так же забывалась за своей новой работой, как и за физиологическим опытом. И здесь, как и там, мысли не давали ей ни минуты покоя. За успехом следовали тревога и опасения: она мало чего добилась, почти ничего, время уходит, ей не поспеть уже к сроку, которого, кстати сказать, никто ей не ставил. От этих волнений, как и от тех, в Ленинграде, она освобождалась лишь в театре, где ее сердце, склонное к тревогам, обретало покой.
Пять лет Шевелева ревностно служила метеорологии, все более отдаляясь от шейного узла и от многого другого, что недавно еще составляло смысл ее жизни. Ночь перестала быть пособницей дня. Из палатки, затерянной в песках Средней Азии, она ночами смотрела на беспредельное небо, унизанное звездами, на лунный диск, осаждаемый облаками, ловила скорбные звуки далекого комуза и думала, что прошлое уже не вернется, с физиологией покончено, и навсегда. Жаль, что через ее жизнь прошла великая радость, истинное счастье, которое, вероятно, уже не повторится…
Старший инженер Шевелева
Вернувшись из эвакуации в Ленинград, старший инженер Шевелева с прежним рвением продолжала свои метеорологические исследования. В Институт экспериментальной медицины она не показывалась и не обнаруживала намерения вернуться туда. И академик Кочин, представивший к печати ее исследование по метеорологии, и сотрудники геофизической обсерватории не заметили в молодой девушке каких-либо перемен. Поговаривали даже, что старший инженер разрабатывает новую значительную тему.
До известной степени это было действительно так. Перемены наступили после того, как друзья из физиологической лаборатории, случайно встретив Шевелеву, привели ее в институт. Быков пригласил девушку к себе, рассказал о том, что было проделано в эвакуации, расспросил о ее успехах в метеорологии и просто предложил:
– Погуляли, и довольно, пора за дело браться. Когда вы придете на работу?
– На работу? Хотя бы завтра, – ответила она шуткой, уверенная почему-то, что и он пошутил.
– Соскучились, я вижу. Что ж, приходите завтра. Я, кстати, прикажу вашу комнату оборудовать. Договорились?
– Нет, Константин Михайлович, не договорились, – рассмеялась она, – ведь мы с вами шутим.
– Почему? – не понял он. – Я совершенно серьезно говорю.
Откуда он взял, что она склонна вернуться в лабораторию? Она просто пришла проведать друзей.
Быкову пришлось повторить вопрос.
– Я не смогу, Константин Михайлович… У меня, по правде сказать…
– Ладно, – благодушно перебил он ее, – приходите в четверг. Так и быть, погуляйте недельку.
Быкову изменила присущая ему проницательность, он смущение девушки принял за выражение покорности. Уверенный в своей помощнице, мог ли он подумать, что снова ее потерял!
– Я не решила еще, заниматься ли мне физиологией… Как ей трудно было эту фразу произнести! Бывают же на свете нелегкие признания.
– Заниматься ли вам физиологией? – недоумевал ученый. – Чем же другим?
– Я говорила уже вам, что работаю инженером-метеорологом.
Ученый не считал физиологию единственно достойной наукой, но с метеорологией он встречался лишь на страницах газет, где компетенция этой науки исчерпывалась сводкой погоды… Он решительно не понимал, как можно физиологию, науку, объемлющую психологию и философию, ставить рядом с наукой о погоде….
– Неужели вы так увлечены этой… вашей метеорологией? Прогрессируете, Вероника Сергеевна! – Ученый уже не скрывал своего раздражения. – То скакали с кафедры на кафедру, теперь наловчились – из института в институт…
К черту деликатность! Надо же объяснить этому взбалмошному созданию, что она великое дело приносит в жертву капризу.
– Как вам угодно, составляйте себе на здоровье таблицы и сводки, сомневаюсь только, моя милая, чтобы вы в этой области сделали погоду…
Его обидная речь и колкие шутки причинили девушке боль. Она опустила глаза и тихо сказала:
– Вы напрасно так судите о метеорологии, наши работы помогали авиации во время войны.
– Возможно, не спорю, – небрежно заметил ученый, не склонный в тот момент признавать какие-либо заслуги за метеорологией. – Однако, прежде чем бросить якорь на чужом берегу, извольте исполнить свой долг перед физиологией… Ваша диссертация никому не известна, ее надо напечатать. Этот труд принадлежит не вам одной, на него справедливо претендует наука. Не желаете или не можете работать, отдайте ваши материалы другим, они извлекут из них пользу.
Ничто так не способно тронуть чувствительное сердце, как напоминание о нравственном долге. Над жизнью Шевелевой царило его строгое веление. Выпадали ли на ее долю заботы о ближнем, трудилась ли она во имя науки, для блага грядущего, ее сознание и воля всегда были покорны голосу долга. Слова ученого, звучащие как предостережение и упрек, не могли оставить ее равнодушной. Она с тревогой подумала, что в судьбе ее снова произошла перемена, кто еще знает, как и чем это кончится.
Прежде чем уйти, Шевелева прошла в свою рабочую комнатку, в которой провела три с лишним года. Все в ней было на месте – транспарант на дверях, колпак для усыпления животного, – но она могла бы поклясться, что маленькая комнатка стала еще меньше. Как уместить свою мысль, витавшую до сих пор в атмосферном океане между небом и землей, в этом крошечном уголке лаборатории!
Вернувшись домой, девушка раскрыла учебник физиологии, пролежавший пять лет на дне чемодана, и не отложила его, пока не прочитала до конца. На следующий день она впервые после пяти лет проглядела свою диссертацию, и с этого момента ее судьба была решена…
В конце 1945 года Быков предложил Шевелевой новую тему. Она записала указания ученого и тут же решила эти опыты не проводить. Она займется разработкой собственной темы, важной и срочной. Быков обязательно одобрит ее.
Надобность в этой работе возникла давно, еще задолго до написания диссертации. Началось с исключения, с незначительного факта, грозившего опрокинуть самое открытие. Размеры опасности были велики, ассистентка учла их и тем решительней отодвинула задание Быкова.
В прежних опытах наблюдалось – и не раз, – что нервный пучок, призванный тормозить сокращения третьего века, почему-то не задерживал мышцу века, а возбуждал. Адреналин, выделяемый этим пучком, действовал так же, как уксуснокислый холин, – как продукт пучков, вызывающих возбуждение. Наблюдалось это обычно, когда опыты затягивались и нервные аппараты уставали. Что происходило тогда в шейном узле, какие причины лишали адреналин его угнетающего действия на мышцу, было неясно. Проверочные опыты снова подтвердили, что одно и то же химическое вещество в различное время по-разному себя проявляет.
Пусть переутомление, рассуждала Шевелева, отражается на состоянии нерва, но какие перемены в нем наступают? То ли адреналина выделяется мало, то ли свойства его становятся иными? Нужен ясный ответ, иначе исключение опрокинет самое правило и все, что связано с ним.
То был критический момент. Многообещающий и опасный, он вызывал у ассистентки душевный подъем, доступный лишь тем, кто способен научное искание возвысить до страсти, до самоотречения.
Мысль о двойственном влиянии нервного пучка оттеснила от Шевелевой круг обычных интересов. Возникшая загадка требовала объяснения и все настойчивей и решительней напоминала о себе. В эти трудные дни ассистентка быстро исчерпала себя. Исполненная решимости, она явилась к Быкову и твердо сказала:
– Мне кажется, что дальнейшие опыты напрасны. Было бы целесообразно на этом остановиться.
Он придвинул ей стул и спокойно спросил:
– Вы обдумали свое предложение?
– Да.
– Обстоятельства иной раз диктуют нам остановиться, но подлинный ученый пуще смерти боится заминки… Солдату положено держать порох сухим, а ученому – нервы взвинченными. Темперамент – вещь надежная, но одного притока крови к покровам недостаточно даже для потоотделения. Требуется еще, чтобы нервы были возбуждены… Наука тоже нуждается в спортивной форме, нельзя нам успокаиваться и остывать.
Опыты продолжались. Им предшествовали следующие соображения Шевелевой. Раз импульсы осуществляются определенными химическими веществами, не все ли равно, будут и они накапливаться в шейном узле при раздражении нерва или их будут вводить извне? Она оставит электроды в покое 1 обратит шейный узел в арену борьбы химических продуктов. Так будет легче добраться до истины.
По-прежнему у кошки перевязывали сосуды, снабжающие отводящие кровь от узлах и пускали в опустевшую артерию питательный раствор. Оросив шейный узел, жидкость переходила из артерии в вены и оттекала из единственной веточки в пробирку. Новым было то, что в этот циркулирующий раствор добавляли уксуснокислый холин или адреналин самых разнообразных пропорциях. Уксуснокислый холин, как правило, вызывал сокращение третьего века. Зато адреналин в одном случае умерял возбуждение мышцы, а в другом – угнетал. Найти прямую зависимость между вводимым веществом и ответом организма не удалось. Это был тупик, и, сколько Шевелева ни повторяла себе, что по ту сторону тупиков лежит дорога к широким открытиям, положение от этого не менялось.
Невеселые думы все чаще одолевали ассистентку. Если пучок, который принимали за тормозной, способен, как и прочие три, вызывать возбуждение, что прибавили новые исследования к ранее известным? Так ли уж важно, что нерв состоит из четырех пучков, если их действие однородно?
Лишь тот, кто осуществил мечту своей жизни, кто робкую догадку наделил чертами действительности, кто вкусил радость исполненного долга, поймет чувство исследователя, который сразу потерял все, что обрел…
Быков между тем после долгой отлучки вернулся в Ленинград. Он не забыл о поручении, оставленном ассистентке, и при первой же встрече спросил:
– Как ваши опыты? Интересных добились результатов?
– Не могу похвастать. Я сильно запуталась и перестала что-либо понимать.
Опытный физиолог, не раз видевший себя на вершине удачи и не раз вынужденный отрекаться от того, что недавно казалось бесспорным, он сочувственно кивнул ей головой.
– На чем вы застряли?
– Я утонула в шейном узле, – последовал двусмысленный ответ.
Она рассказала ему о своих затруднениях, о сомнениях, не решенных в диссертации, и чем больше он слушал ее, тем напряженней о чем-то размышлял.
– Вы пробовали, говорите, вводить в узел уксуснокислый холин и адреналин? В каком сочетании?
Он остался недоволен ответом.
– Надо комбинировать то и другое в самых различных пропорциях, – сказал Быков. – Тут имеет значение каждая тысячная доля миллиграмма.
Нелегкий урок задал ученый помощнице. Слишком много ответов предстояло получить от верхнего шейного узла. Каждая новая комбинация химических веществ с разницей в сотую долю миллиграмма требовала сноровки, внимания и времени. Все должно было решаться как можно быстрей – в станке лежало теплокровное животное, которое долго под наркозом оставлять нельзя. К концу дня у девушки от напряжения болели глаза, от паров эфира кружилась голова и ноги подкашивались от усталости. Это было не только испытание терпения, но и тяжелый физический труд.
Тридцать дней длились поиски нужной комбинации. Мрачные опасения не давали ассистентке ни минуты покоя. Ей казалось, что сочетаниям не будет конца, а потраченный труд напрасен. От этих дум ее руки не опускались, а двигались еще быстрей, работа становилась более напряженной и страстной.
Иногда в настроении ассистентки происходила перемена. Она длилась недолго, но всякий раз выбивала ее из колеи. В, разгар эксперимента, хлопот и раздумья ей начинало вдруг казаться, что решение близко, еще один опыт, другой – и шейный узел раскроет свою тайну. Возбужденная кажущейся удачей, она легковерно доверялась фантазии, все необыкновенно вдруг упрощалось, важное казалось необязательным. Она была готова многим пожертвовать, от многого отказаться. Кропотливые расчеты оскорбляли ее чувства. Чего стоит будничная регистрация явлений в сравнении с предстоящим успехом? Зачарованная, она забывала делать записи в тетрадь наблюдений, не запоминала сочетаний химических веществ, применяемых в опыте. Тем печальней было возвращение к действительности.
Ученый, снисходительный к слабостям девушки, осторожно низводил ее на землю. Физиолог, говорил он, тот же художник: преувеличивая, он невольно создает карикатуру, прикрашивая – идеализирует. Надо быть реалистом, выдвигать на первый план то, что наиболее характерно.
Время умиротворяло взвинченные чувства, образ мыслей принимал реальные очертания, и поиски комбинации продолжались. Ученый напряженно следил за ходом ее опытов, нередко сам принимался за эксперимент и терпеливо ждал результатов.
Они скоро стали известны, и, как это часто бывает в физиологии, вместо одного тупика возник другой, не менее устойчивый и крепкий.
В результате двадцати четырех комбинаций, долгих месяцев труда и исканий выяснилось, что так называемый тормозной пучок нерва ничего тормозить не способен. Химические продукты, выделяемые им, могут только создавать известные взаимоотношения между пучками нервов, но не действовать самостоятельно. Торможение третьего века зависит не от концентрации адреналина в узле, а от количества уксуснокислого холина, того самого вещества, которому, наоборот, свойственно вызывать возбуждение. Немного его в узле – и адреналин своим появлением действует возбуждающе; велика концентрация уксуснокислого холина – и уже ничтожная доля адреналина угнетает мышцу третьего века. Действие адреналина зависит от состояния органа, на который он влияет, от того, в какую среду он попал и какое соотношение сил застал в организме.
Таков итог. О таких успехах говорят, что они никого не вводят в заблуждение, но, подобно Млечному Пути, никуда не ведут. Исследователь вправе поздравить себя с удачей, но наука, увы, себе этого позволить не может.
Так ли уж важно знать физиологу, что адреналин, сопутствуя уксуснокислому холину, усиливает или ослабляет его деятельность, регулируя при этом неизвестные соотношения? Как он «сопутствует» и какие именно возникают соотношения, экспериментатор не знал, как и не знал, где искать на эти вопросы ответа.
Из множества планов, щедро рожденных фантазией ассистентки, один имел шансы уцелеть. Его внутренняя логика была убедительна и могла стать преддверием предстоящих исканий.
Из двух неизвестных, рассуждала ассистентка, – среды, в которой развивается физиологический процесс, и адреналина, определяющего этот процесс, – первое неизвестное относится к понятиям непостоянным, и экспериментировать им нелегко. Зато второе постоянно и легко поддается исследованию. Природа адреналина изучена, с него она и начнет.
Что известно об адреналине? Каковы его свойства, достоинства и пороки?
Этот вопрос ассистентка обратила к литературе. Она бродила по библиотекам, делала выписки из книг, рылась в собственных записках, собранных разновременно по различному поводу. Все значительное и маловажное, удачное и неудачное в своих и чужих экспериментах, все, что касалось адреналина, копила она.
У адреналина наряду с общеизвестными свойствами есть и другие, менее очевидные и даже лишенные определенности. Так, например, появление адреналина в крови приводит к выходу из печени сахара в состоянии, годном для питания мышц. Адреналину свойственно также повышать жизнедеятельность организма – ускорять кислородный обмен. Бывает, однако, и по-другому: присутствие адреналина приводит иной раз не к повышению, а к снижению обмена. И в целом организме, как и в шейном узле, пути адреналина неисповедимы.
Таковы удивительные свойства вещества, выделяемого одним из пучков в нервном стволе.
Шевелева приняла на веру, что и в шейном узле адреналин проявляет себя так же, как в прочих частях организма: повышает кислородный обмен и освобождает сахар, чтобы снабдить им мышечную ткань. Какое из этих двух свойств способствует торможению или возбуждению, должен был ответить опыт.
Снова у ассистентки были два неизвестных; оба имели отношение к адреналину, вернее, к тому, какое из его свойств преобладает в шейном узле.
Изучение вещества, выделяемого нервным пучком, превратилось в математическую задачу. Определенное сменялось неопределенным, недавно еще бесспорное – неизвестным, органические продукты уступали место искусственным, а выделение нервной ткани – впрыскиванию извне химических продуктов. Все находилось, выражаясь словами Гераклита, «в состоянии неостанавливающегося течения, в котором нет ничего определенного, в котором не за что ухватиться, где все ускользает из рук, где все меняется, переходит одно в другое, где, словом, нет бытия, а есть лишь становление».
Ученый и его помощница все дальше уходили от нервных к физико-химическим комбинациям. Единственно неизменным оставался шейный узел – крошечный плацдарм для поисков истины.
Бывают у исследователя минуты прозрения, мгновения, исполненные пророческой силы. Память, оплодотворенная страстным напряжением, обнажает сокровища, погребенные временем, и мысли, двинутые порывом, скрепляются в образ, в идею. Есть люди, чья мысль загорается только от жара своего горячего сердца и поддерживается высоким накалом чувств.
Шевелевой пришло на память вычитанное где-то сообщение, что адреналин не только освобождает сахар из печени, но извлекает его также и из других тканей. Этот, казалось, незначительный факт поднял бурю в душе ассистентки. Нельзя ли задачу с двумя неизвестными решать раздельно? Расчленить оба свойства адреналина и каждое в отдельности проверять?
Вот как развивалась мысль Шевелевой.
Если действие адреналина сводится к освобождению сахара из тканей для нерва и для мышцы третьего века, нельзя ли подменить адреналин в шейном узле препаратом сахара – глюкозой? В этом случае возбуждение и торможение проявятся так же, как если бы в шейный узел вводили адреналин или раздражали электрическим током тормозной пучок нерва. Если же здесь действует другое начало адреналина – особенность его повышать кислородный обмен, – то с этим справится препарат щитовидной железы тироксин. Пусть эти химические продукты, примененные в отдельности, ответят, почему так называемый тормозящий пучок столь непоследовательно возбуждает и угнетает третье веко подопытной кошки.
Первым попробовали тироксин. Его ввели в шейный узел, когда нервный проводник, доведенный до усталости, перестал сокращать мышцу третьего века. Влияние тироксина не прошло бесследно: замершее веко оживилось и под действием тока стало сокращаться. Так продолжалось недолго. Возбуждение скоро сменилось торможением, тироксин утратил свое влияние на мышцу.
Затем в шейный узел ввели препарат сахара. Третье веко отозвалось ускоренным сокращением. Усталость исчезла, словно в организм влили свежие силы. И этот подъем продержался недолго – чем больше глюкозы вводила ассистентка, тем медленнее восстанавливалась утраченная энергия.
Как это объяснить? Орган как будто в полном порядке: приток кислорода благодаря тироксину повышен, питание глюкозой достаточно, – какая же сила оттесняет возбуждение, вызванное электрическим током, и обращает тироксин и глюкозу в средства, парализующие мышцу третьего века?
Задача с неизвестными не была решена, механизмы нервных пучков все еще оставались неразгаданными.
На помощь исследовательнице снова явились затерянные и забытые сокровища памяти; пришли как нельзя более кстати, и маленькое сердце, одержимое великим терпением, исполнилось новых надежд.
Биохимики, изучающие свойства нервного волокна в пробирке, наблюдали следующего рода явления. При растирании нерва в соляном растворе, чтобы извлечь из него уксуснокислый холин, количество этого холина нарастало, как только к нему прибавляли глюкозу. Было также замечено, что подвергнутая расщеплению глюкоза порождает продукты, из которых образуется уксуснокислый холин.
Эти факты принесли с собой решение: они разъяснили ассистентке механизмы возбуждения и торможения. Прежняя загадка предстала в следующем виде.
Раздражение током вызывает в нервных пучках, идущих к шейному узлу, отделение уксуснокислого холина и адреналина. Первый поддерживает возбуждение, а второй освобождает сахар из окружающих тканей, чтобы это возбуждение питать. Накопленная глюкоза становится, таким образом, не только источником энергии, но и материалом для нарастания уксуснокислого холина и возбуждения в нервном узле. Так длится до тех пор, пока не наступит перевозбуждение проводника и не упадет его способность проводить раздражение мышцам. Новое прибавление адреналина уже не угнетает, а возбуждает мышцу. Извлекая из окружающих тканей глюкозу, адреналин увеличивает собой количество уксуснокислого холина, который, конечно, не дает торможению улечься…
И возбуждение и торможение способно при известных условиях осуществляться одним и тем же химическим веществом.
Не только адреналин, подытожила Шевелева, но и уксуснокислый холин не всегда верен своей природе. И он вместо возбуждения вызывает угнетение третьего века, если этому предшествует длительное раздражение пучков. Все законы в физиологии относительны; двойственная способность нерва поднимать жизнедеятельность и задерживать ее оказалась условной… Чем сложнее механизм, тем легче разрушить его; зато сложность позволяет ему тонко приспосабливаться к меняющимся условиям среды. Снабдив нервы способностью поднимать и задерживать жизнедеятельность тканей, природа создала контрольный механизм, ограждающий клетку от продуктов перевозбуждения.
Свойственна ли эта механика только нерву шейного узла?
Нет, отвечает Быков. Механизмы, открытые на шейном узле, характерны для всей центральной нервной системы. Смена возбуждения и торможения в головном мозгу осуществляется теми же средствами и в той же последовательности, как и в шейном узле.
В каждом физиологическом и патологическом процессе, подытожил Быков, одновременно играют роль твердое и жидкое, нервы и кровь. Жизненные явления можно сравнить с удивительной музыкой, полной прекрасных созвучий и потрясающих диссонансов. Только в совместном действии всех инструментов заключается гармония, и, в свою очередь, только в гармонии заключается жизнь…
Снова встретились ученый и его ассистентка, чтобы подсчитать свои трофеи, успехи и неудачи. Обсуждалось новое задание, о котором мы расскажем, когда оно осуществится. Что было предметом беседы? Разумеется, нерв, столь близкий сердцу ассистентки, и шейный узел, занимающий все помыслы Быкова…








