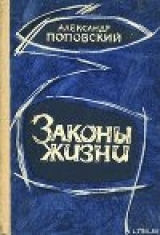
Текст книги "Пути, которые мы избираем"
Автор книги: Александр Поповский
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Глава седьмая
Лицом к лицу с природой
В поисках самого себя
– Пошлите меня куда угодно, хоть на Камчатку, только избавьте от физиологии труда! Я не могу и не хочу ею больше заниматься.
Физиолог Слоним произнес это твердо, с той ноткой решимости в голосе, которая не оставляет места для сомнения. Он не был постоянным сотрудником Быкова, они только встречались на одном из заводов, где оба изучали физиологию труда. Просьба молодого человека озадачила ученого своей неожиданной настойчивостью. Куда его устраивать? Профессор руководил тогда маленьким отделом прикладной физиологии, где, кроме него, было место лишь для служителя. Время от времени к нему в лабораторию приходили поработать физиологи. «Платить мы вам не будем, – предупреждал он их, – зато вы усвоите учение об условных рефлексах». Среди добровольцев помощников бывал и Слоним, однако к условным рефлексам он интереса не проявлял. Теперь он просит помощи, готовый отказаться от физиологии труда и заняться исследованием временных связей – делом столь же нелюбимым и нежеланным. Что с ним случилось? Почему вдруг?
– Извините, я вас не понимаю. Как можно пренебрегать таким благородным занятием, как исследование человеческого труда? В нашей стране, где труд так почетен, какое основание сторониться, избегать его изучения? И на Камчатке вы, кстати, встретитесь с тем же. Неладное вы задумали, мой друг.
Слоним решительно покачал головой:
– Мне кажется, Константин Михайлович, что я полностью себя исчерпал. Я не смогу быть полезным этому делу… Не будем вдаваться в подробности, как и почему, мы не вправе заниматься наукой, к которой утратили интерес.
Молодой человек был взволнован и, как показалось ученому, немного растерян.
– Подумайте еще раз, – сказал ему Быков, – физиологии труда предстоит великое будущее… Впрочем, как вам угодно… Чем вы хотели бы заняться?
– Меня не привлекает лаборатория, – ответил тот. – Физиологию я предпочел бы изучать в естественной среде, в самой природе.
Ученый удивился:
– То есть вне лаборатории и рабочей обстановки?
В ответ прозвучало решительное «да».
В этом не было ни капли здравого смысла. Отказаться от приборов и аппаратов, от удобств лабораторных приспособлений, столь облегчающих научный труд! О, этот малый – изрядный чудак. Впрочем, он не слишком оригинален. Легче пренебречь благами науки, чем обогащать ее трудом и усердием.
– Любопытно узнать, – заинтересовался ученый, – как же вы представляете себе работу в естественной среде?
– Я не сижу в лаборатории, у собачьего станка, – последовало не слишком логичное объяснение. – Это мне не под силу.
Быков улыбнулся. Этот бледный и худощавый молодой человек с внешностью горожанина, ни разу не бывавшего в лесу, питал страстную привязанность к природе. Рассказывали, что он проводит обычно свой отдых в горах, проделывает пешком по многу километров, ночуя в походной палатке. Страх и лишения не способны удержать его от самых опасных переходов. В пустыне Каракумы он гоняется за жуками и выслеживает ящериц в барханах. Удивительно ли, что он в близкой его сердцу природе готов уместить все храмы науки, изучать физиологию в песчаной степи и на снежных вершинах Тянь-Шаня?
– Объясните мне, прошу вас, – повторил ученый, – как вы представляете себе занятия физиологией в природной среде.
Слоним коротко ответил:
– Не знаю.
Быков вспомнил, как сухо и холодно этот помощник принимал его советы прилагать учение Павлова к исследованиям физиологии труда и с какой охотой изучал средства облегчить труд штукатуров, выясняя преимущества терки перед лопаткой, и сказал:
– Мне кажется, что вы еще себя не нашли. Физиология, по-видимому, не ваша стихия.
На это последовала длинная тирада, безудержное и страстное признание:
– Я не спорю, Константин Михайлович, возможно и так, но физиология, которая не объясняет, как приспособляются животные к своему образу жизни, как изменяются отправления организма, как вообще осуществляется жизнь на земле, – действительно не моя стихия. В природе, то разгораясь, то затухая, пылает извечный огонь, идет борьба и утверждение одних за счет других. Все, что живет, неотвратимо стремится куда-то вперед. В беспрерывной суете идет вытеснение, переход с места на место, чтобы из худшего прошлого перейти к лучшему будущему. Победители расширяют свой жизненный круг, но в новых условиях терпят лишения: наследственные свойства животных, некогда утвердившиеся в другой обстановке, не соответствуют отвоеванной среде. Климат, пища и средства ее добывания ломают и рушат врожденные свойства, изменяют частично органы и функции. В результате зарождается новый животный вид… Где эти закономерности изучены физиологами, укажите мне? Скажете, что это не наше дело, происхождением видов занимаются другие? Не могу согласиться.
Все это он произнес одним духом, с той страстной горячностью, когда кажется, что напряжение мысли и накал чувств достигли своего предела…
– Те, кто экспериментирует на кроликах, свинках и белых мышах, – продолжал он, – могут думать, конечно, что эти лабораторные создания – копии тех, которые населяют природу, но это не так. Исследуя физиологические механизмы собаки, голубя и песца, ученые упускают из виду, что различные животные пользуются ими по-разному. Нельзя закономерности, установленные на одних организмах, так легко распространять на другие. Без учета природных особенностей животного все наши расчеты неверны. Вот вам характерный пример. В зимний день я выгоняю в лес собаку. У нее превосходная шерсть, она сильна, здорова, и все же судьба ее предрешена: если она не найдет дорогу домой, то погибнет от голода. Иное дело выпущенный на волю песец, так похожий на нашу собаку. В лесу он наловит себе птиц. Или будет охотиться за рыбой; не поймает живую – найдет мертвую, выброшенную на берег реки. Наша собака в лесу будет мерзнуть, а песец разляжется брюхом кверху, словно стужа ему нипочем. У обоих как будто одинаковые нервные механизмы и физиологические функции, а каковы результаты? Судьбу животного решают не только его физиологические свойства, но и биологические, и в первую очередь – способ добывания' пищи. Он перестраивает на свой лад жизненные отправления организма. В лаборатории этого, конечно, не учтут: там поставят в станок песца и собаку, чтобы на одинаковые раздражения получать одинаковые ответы…
Речь была еретична, ее обличительная манера и страстное звучание не могли скрыть рискованность некоторых положений.
– Не очень вразумительно, – задумчиво проговорил ученый, – и все потому, что вы не нашли себя. Ищите, я вам помогу.
Быков не ошибся – Слоним действительно не нашел еще себя.
За тридцать лет своей жизни он о многом успел передумать, многое узнать: побывал на медицинском факультете, оставил его и ушел на биологический; разочаровался и в том и в другом и все же стал врачом. Вскоре он бросил медицину и занялся гигиеной труда. Его последним увлечением была физиология труда, от которой он также решил отказаться. Молодой человек переходил от одной крайности к другой, бессильный умерить свой душевный разброд.
Своим друзьям он говорил:
– Эти науки, несомненно, важны и интересны, но меня они почему-то не занимают. Мне, здесь попросту скучно и не по себе.
На медицинском факультете ему понравилась анатомия. Организм оказался слаженной конструкцией; кости и мышцы точно подсчитаны и размещены по полкам анатомического музея. Это соответствовало склонности Слонима к системе и порядку. Природу он любил не только изучать, но и систематизировать. Его коллекция жуков и бабочек не знала себе равной среди прочих других. Всюду ему хотелось видеть четкие соотношения, запечатленные в строгих пределах. В истории его привлекала хронология. В ее точных границах перед ним вставали пространство и облик эпохи, которые он таким образом явственно чувствовал и ощущал. Все, что не поддается классификации, будь то музыка, литература или словесность, не могло его занять. Многообразна его библиотека, обширны ее пределы и велик его интерес к ней. Ведь помимо всего книги можно располагать в таком и этаком порядке, нумеровать, шифровать и каталогизировать…
Все учебные предметы, кроме анатомии, оставили Слонима равнодушным. Занятия по физиологии казались однообразными и утомляли его. И вчера и сегодня все тот же нервно-мышечный препарат лягушки, над которым всю жизнь провел знаменитый Введенский, чьему примеру следовать призывают студентов. Ненамного привлекательней были атрибуты другой физиологической школы. Чудесный пособник науки, помогший Павлову в его великих открытиях – собака с выведенной наружу слюнной железой, – Слонима не заинтересовал. Он отказывался от советов запасаться терпением, подсчитывать капли слюны и заносить эту арифметику в дневник наблюдений.
Не обрадовали молодого человека и занятия по биологии. Диплом позволял ему выбрать любое направление – стать зоологом, палеонтологом, микробиологом. Увы, мысли его были заняты не тем, иные думы смущали его воображение. «Есть на свете счастливцы – они огибают экватор, охотятся в джунглях, изучают зверей в природе и в неволе. На каком факультете получили они свою специальность?…»
Рано отчаиваться, мир клином не сошелся, он вернется к медицине, прослушает курс и будет медиком-естествоиспытателем. Многие врачи древности совмещали то и другое, а некоторые к тому же и философию. Ничего невозможного в таком решении нет: разве экспериментальная медицина – не ветвь биологии?
Пример древних ненадолго вдохновил Слонима. Гигиена труда, которой он занимался, еще будучи студентом, не пришлась ему и теперь по душе. Почетное звание санитарного медика, посещение заводов и обследование на них условий труда, писание актов – все это тоже не для него.
Молодой человек решил уйти на военную службу. Там, в здоровой обстановке труда и дисциплины, его мысли улягутся, чувства станут ровней и найдется разумный выход.
Этому плану не суждено было сбыться – военное ведомство отказалось числить у себя солдата весом в пятьдесят два килограмма. Неудачник принял другое решение. Он будет медиком, обыкновенным практикующим врачом. Вопрос о профессии решен раз навсегда!
В туберкулезном диспансере молодой дебютант поначалу проявил себя успешно. Он научился искусно брать кровь из вены, и эту способность вскоре отметили, что, однако, не помешало ему влить однажды лекарственный раствор мимо вены в ткани и ухудшить состояние больного. От неудачливого медика поспешили отказаться.
Тогда Слоним увлекся физиологией труда, той самой наукой, от которой впоследствии выразил желание бежать на Камчатку. Случилось это не сразу. Вначале как будто все шло хорошо. Он с интересом изучал влияние тяжелых работ и высоких температур на человека, чтобы научным анализом прийти на помощь рабочим. Исследователь мог по количеству поглощенного организмом кислорода и выделенной углекислоты определить, сколько в тканях сгорело вещества, израсходовано калорий и сколько понадобится пищи для восстановления нарушенного баланса. Газообмен указывал, в какой степени трудовая операция обременительна для человека и выполнима ли вообще.
Слоним уверовал в могущество метода исследования и ждал от него всяческих чудес. В сообществе с другими экспериментаторами он даже написал о своих успехах объемистый труд.
Напрасно Быков убеждал его изучать у рабочих временные связи, возникающие в процессе труда. Слонима эти просьбы неизменно смущали: он читал о слюнных временных связях, знал, что они успешно изучались на собаках, но как их связать с газообменом, с состоянием рабочего, разгружающего фарфор?
Когда трудоемкие работы стали выполняться машинами, увлечению Слонима пришел конец. Искусство рабочего сводилось теперь не к физическому напряжению, а к сноровке и ловкости. Чтобы изучать эти новые формы труда, нужна была новая методика. Три года Слоним искал ее и, разочарованный, обратился за помощью к Быкову…
Был 1932 год.
Молодой физиолог и ученый встретились снова. Они сидели в лаборатории – той самой, где ничтожное число штатных сотрудников было обратно пропорционально объему заданий, – и беседовали. Слоним жаловался на судьбу. Опять ему приходится все начинать сызнова. Годы уходят без утешительного итога. Физиология труда для него, Слонима, была ошибкой, этак можно и всю жизнь погубить.
Слоним мог бы этого не говорить – Быков понимал молодого человека и всячески хотел ему помочь.
– Я кое-что придумал. Полагаю, Абрам Данилович, что это вас устроит. Поезжайте в Сухуми – изучать физиологию обезьян. В питомнике много различных животных, там в некоторой степени естественная среда. Изучайте приспособительные механизмы у зверей, сочетайте в себе натуралиста и физиолога, но избегайте чрезмерного любования природой. намерен вас в чем-либо стеснять; я следую в этом отношении примеру моего учителя – Ивана Петровича Павлова. Ищите себя.
Встреча завершилась сюрпризом, значение которого один лишь Склоним мог оценить. В его распоряжении будут птицы и звери обезьяны и рептилии в их естественной среде, а может быть, даже и скорпион… Он сможет ставить опыты, изучать животных в вольерах, где условия жизни приближаются к природным. Он избавится от города с его гнетущим шумом и сумятицей, от театров и Филармонии, посещение которых отнимает много времени, избавится наконец от временных связей, от необходимости объяснять ими свои наблюдения. А что важнее всего – у него будет свобода действий. Есть ли на свете благо превыше свободы!
– Я с радостью поеду, если вы направите туда и Ольгу Павловну Щербакову, – осторожно произнес молодой человек.
Это была его жена, долгое время работавшая помощницей Быкова.
– Хорошо, я согласен, поезжайте вдвоем.
Слоним находит себя
Молодой исследователь прибыл в Сухуми и остался доволен тем, что увидел. В его распоряжении были вольеры с животными, свобода действий и опытная помощница. Оставалось наметить план и приступить к его осуществлению, а Слоним почему-то не очень спешил впрягаться в работу. Он с завидным спокойствием слонялся по прямым, заново отстроенным улицам, по ботаническому саду, среди субтропических насаждений Синопского парка, подолгу оставался у моря и штудировал историю города. Словно целью его было изучение памятников старины, он интересовался всем, что относилось к столице абхазов в бытность ее милетской колонией Диоскурией, римским городом Севастополис и генуэзским поселением. От его пытливого взора не ускользнули ни руины крепости византийской архитектуры, ни остатки Великой абхазской стены. Наблюдения записывались, подкреплялись свидетельством литературы и обогащались фантазией натуралиста.
Так проходили недели и месяцы, а работа над животными в желанной обстановке естественной среды не начиналась. Слоним бродил между клетками обезьян, наблюдал поведение зверей, подолгу глядел на морские просторы под крутыми холмами питомника – и ничего не предпринимал.
Странное поведение молодого человека не было случайным.
В течение всей своей жизни Слоним питал нежную склонность к животным. Замкнутый и малообщительный в детстве, он дарил свою привязанность природе, скупо представленной в его квартире. С годами любовь эта крепла; кроме аквариума, собак, коллекции бабочек и садков с лягушками, в доме стали появляться клетки с пернатыми, банки с тритонами, жуками-плавунцами. Молодой любитель природы мечтал о квартире, где водились бы мокрицы и тараканы, над которыми так интересно вести наблюдения. Животные не были здесь предметом эксперимента, они заменяли мальчику детскую компанию. У каждого обитателя была своя ласковая кличка, и обращались с ним здесь как с другом. Они жили тут подолгу, и юный природолюб не забывал своих питомцев и после их смерти.
В сознании мальчика, а затем юноши утвердилось представление об этом окружении как о чем-то сугубо близком и родном чуждом задачам науки. В каждой области знания – свое отношение к живым организмам: зоология, исследующая сходства и различия животных видов и многое другое, пользуется для этого сопоставлением тканей, черепов и костей; физиология, изучающая деятельность живого организма, прибегает к опытам, которые либо обрекают животное на гибель, либо некоторое время сохраняют его. В Сухуми Слоним столкнулся с животными, обитающими почти в естественной обстановке, столь напоминавшей ему домашнюю. Как примирить привычное представление о животных-питомцах с отношением физиолога к подопытному зверьку? Как сочетать пассивное созерцание с действенным экспериментом? Слоним горячо убеждал себя, что пора взяться за дело, медлить дольше нельзя, но что именно делать и с чего начинать, положительно не мог придумать. От прежних намерений перенести науку в природу, изучать физиологию в среде зверей, решительно ничего не осталось. Положение было трудное, скажем прямо – незавидное. Психологи определили бы такое состояние чем-то вреде психического кризиса.
Тем временем Щербакова нашла себе работу и даже сделала попытку увлечь этим делом своего руководителя.
Несколько лет назад Быков пригласил студентку Щербакову исследовать трудовые процессы на заводе «Красный треугольник». Надо было так наладить работу, чтобы она протекала без резких сдвигов, ритмично. С тех пор метроном и секундомер стали спутниками ее творческой жизни. В Сухумском питомнике Ольга Павловна занялась изучением суточного ритма – сменой деятельности и покоя – у самых различных животных. Она верила, что эти исследования послужат на пользу биологии, физиологии, медицине, и не без основания. Ведь суточная ритмика свойственна всем позвоночным. Спим ли мы ночью или работаем днем, остаемся ли круглые сутки в постели или не отдыхаем вовсе – в организме покой сменяется бодрствованием, колеблется уровень температуры, кровяного давления, количества сахара в крови, изменяется деятельность желудочно-кишечного тракта, почек и печени. Колебания эти извечны, как приливы и отливы на морском берегу.
Прежде, однако, чем Слоним успел увлечься работой помощницы-жены, он возненавидел условия, в которых работа протекала. В лаборатории стоял несмолкаемый рев, стук и скрежет, издаваемый множеством животных. Три макаки-лапундр, два макаки-резус, два огромных гамадрила, два медведя, шакал, несколько собак и грызунов выражали свое самочувствие всяк на свой лад. Подавленный и раздраженный, Слоним как-то сказал Щербаковой:
– Кажется, Гёте заметил, что там, где кончается слово, начинается музыка.
– Тут происходит наоборот, – деловито ответила она, – музыка предшествует слову.
Она чувствовала себя в этой стихии как нельзя лучше. Когда Слоним предложил ей перенести свою деятельность куда-нибудь в вольер или в отдельное помещение, она сказала:
– У нас действительно шумно, ни подумать, ни почитать невозможно. Измерять температуру и потоотделение можно было бы и в другом месте, со временем оно так, вероятно, и будет, но долг наш – прежде всего узнать животных, а для этого они должны быть у нас на виду.
Население питомника пришлось ей по душе, и она скоро к нему привязалась. Проводила ночи без сна у изголовья больной обезьяны, выхаживала и лечила ее всякими средствами. Она умела подмечать малейшую перемену в самочувствии зверька – как он выглядит, как ест, всем ли доволен.
– По праву старшего научного сотрудника я должен тебе заметить, – сказал как-то Слоним жене, – что ты обратила лабораторию в Ноев ковчег. Так дольше продолжаться не может.
Она не спорила с ним, но порядка не изменяла. Население лаборатории пополнилось ежами, лесными и полевыми мышами, енотовидными собаками, дикобразами, собакой динго и барсуком. Исследовательница аккуратно измеряла у них температуру, изучала двигательную активность, частоту дыхания и физико-химические изменения в различное время суток. Слониму эти работы казались бесполезными. Так ли уж важно, сколько прыжков проделает за день или ночь гамадрил, по имени Храбрый, или его подруга Виринея? Сколько этих сальто придется на первую и сколько на вторую половину дня? Поучительно, конечно, что в знойные дни обезьяны проявляют благоразумие и предпочитают не делать вертикальных движений, столь тягостных в жаркую пору, но куда эти опыты ведут?
Щербакова не прерывала своих занятий. Она не теряла надежды собственным примером повлиять на упорствующего мужа и время от времени применяла для этого средства научного воздействия.
– Я не представляю себе проблемы более заманчивой, чем суточная и годичная ритмика. Для биолога это сущий клад.
Так как он не спешил ни возражать, ни соглашаться, она неторопливо развивала свою идею.
– Все сложные организмы проникнуты влиянием этой периодичности. Собака динго, которая водится в Южном полушарии, не поддается акклиматизации и в наших широтах приносит потомство холодной зимой – в пору, когда в Австралии стоит жаркое лето…
На Слонима это не производило ни малейшего впечатления. Он отводил глаза от клеток, из которых неслись лающие крики гамадрилов, и коротко отвечал:
– Неинтересно.
Щербакова привыкла к таким ответам и с чувством человека, выполняющего некий моральный долг, продолжала выкладывать свои соображения:
– Сидящий в темной коробочке таракан, лишенный возможности отличать время суток, обнаруживает характерную для него подвижность именно ночью. То же самое повторится с совой, запертой в темный чулан. Свойственная птице привычка к ночной охоте подскажет ей наступление сумерек. Суточные колебания роста, присущие растению, проявят себя также и в затемненной комнате, где свет и мрак не сменяют друг друга. Те же суточные колебания обнаружит и стебелек, пробившийся из семечка в темном помещении, хотя солнечный луч еще ни разу не упал на него.
Щербакова тщательно собирала подобные сведения, чтобы, при случае преподнести их ему. Не замечая его недовольства, она рассказывала:
– Персик, посаженный на жарком острове Мадейра, верный своей природе, сформированный в другом климате и среде, через год периодически сбрасывает свои листья; сосны цветут. через три года, яблони – ежегодно; два раза в секунду сокращается мышца нашего сердца; через каждые два с половиной часа пищеварительные железы выделяют свой сок в кишечник. Легкие человека наполняются воздухом через три-четыре секунды; у различных животных сроки эти разны, зато всегда определенны и ритмичны. Короче, ритмика – это образ жизни, продиктованный условиями внешней среды.
– Меня не надо убеждать, – холодно останавливал он ее, – я найду свою тему.
Зачем ее искать, не понимала она, когда кругом их так, много! Недостаточно еще изучены зимняя и летняя спячки животных. Неполно исследована суточная смена активности и покоя у человека, мы все еще не знаем, какие механизмы вызывают чередование бодрствования и сна. Можно ли оставаться равнодушным к таким исключительно важным вопросам?
Он все-таки убедил ее перенести некоторые опыты за пределы лаборатории и для этой цели помог оборудовать домик в глубине парка. Здесь Ольга Павловна не только исследовала смены периодов деятельности и покоя у обезьяны, но и научилась эту ритмику изменять. Затемняя помещение днем и освещая его ночью, она перестроила с течением времени ритмику обезьян: подвижность, свойственная им в течение дня, стала проявляться во второй части суток. И температура тела, и дыхание, и другие особенности суточных чередований изменялись при этом. Происходило и наоборот: особенности дневной жизнедеятельности проявлялись ночью. То, что казалось врожденным, обнаружило явную зависимость от условий внешней среды.
Выяснилось также, как этот ритм вырабатывается в молодом организме и как переиначивается, когда окружающая обстановка меняется. Именно зрительный аппарат и возникающие в нем раздражения служат сигналом для всяческих перемен в суточной ритмике организма. Ведь только сменой освещения и ничем другим были достигнуты все перемены в состоянии обезьян…
Таковы были успехи помощницы Слонима, маленькой настойчивой женщины, которую в питомнике звали «маленьким комендантом». Она вела упорную борьбу со своим старшим научным сотрудником, искусно командовала стадом диких и полудиких зверей и всегда добивалась успеха. Ее верным оружием было терпение, которого Слоним не одобрял. Из всех высоких проявлений человеческой натуры примеры труда и терпения извечно служат укором бесплодным мечтателям.
Один только раз Ольга Павловна не сдержалась.
– Ты напоминаешь мне рыцаря, – сказала она, – закованного в латы в век пороха и атомной энергии. Так легко оказаться за пределами современности.
– Уж не считаешь ли ты меня донкихотом? – спросил он.
– У каждого времени свои донкихоты и рыцари, – с той же серьезностью, с какой она обсуждала результаты опытов, ответила Щербакова. – Рыцарь, подобный Карлу Великому, одним ударом рассекающий всадника с лошадью, разгибающий без труда четыре подковы, способный за обедом поглотить четверть барана, двух кур и гуся, в наше время смешон…
Слоним не заметил, как благотворное влияние жены сказалось на нем. Исподволь она приучила его к мысли, что наблюдения над животными можно сочетать с серьезным научным делом, что любовь и терпение, проявленные при этом, нельзя отделять от самого опыта.
– Не изучив их, – настаивала она, – мы не сможем полагаться на добытые результаты. Животное надо изучить и понять, в книгах об этом не слишком много написано.
Слоним занялся задачей, весьма схожей с той, которая решалась на фарфоровом заводе, где он исследовал действие высоких температур на состояние человека. Только теперь задача ставилась шире: какими средствами организм отстаивает свою нормальную температуру в различных условиях внешней среды; как удается ему на полюсе и на тропиках держать в равновесии тепло своего тела. Все это было недостаточно изучено, и Абрам Данилович, следуя своей склонности водворять всюду систему и порядок, увлекся теплообменом.
Организм животного нуждается в постоянном притоке всякого рода веществ: кислорода, воды и продуктов питания. Претерпев различного рода превращения, эти вещества становятся источником тепла. Ни на минуту не останавливается круговорот обмена: вещества воспринимаются из окружающей среды и после сложных изменений возвращаются природе. Человек поглощает в день до пятисот литров кислорода, который способствует сжиганию жиров, белков, углеводов и не пощадит самого организма, если приток питательных средств не восстановит потери. В течение суток дыханием выделяются один килограмм углекислоты и три килограмма воды. Все клетки тела вовлечены в газообмен. Помещенный в герметически закрытый сосуд, кусок живой мышцы продолжает поглощать кислород и выделять углекислоту. Установлено, что в течение дня химические процесса организма образуют теплоту, достаточную, чтобы вскипятить двадцать семь литров воды. Обратив эту тепловую энергию в двигательную, физики подсчитали, что она способна поднять полмиллиона килограммов на высоту одного метра. Через организм человека в его короткий век проходит более семидесяти пяти тысяч литров воды, семнадцать с половиной тысяч килограммов углеводов, две с половиной тонны белков и тысяча двести шестьдесят килограммов жиров.
Организм животного может приспособиться к окружающей температуре, либо повысив свой обмен веществ, либо соответственно его снизив. Внешнее охлаждение диктует ему усиленно потреблять кислород, чтобы ускорить горение жиров, белков и углеводов, получить необходимое тепло. В нагретой среде газообмен падает и горение веществ замедляется. Несколько иначе это происходит у человека. Лишенный жирового слоя и волосяного покрова животных, он представляет собой самый обнаженный из организмов, снабжаемых теплой кровью. Теплота его тела уравновешивается не столько химическими средствами – изменением газообмена, повышением и снижением обмена, веществ, – сколько физическими, и главным образом деятельностью кровеносных сосудов и потоотделительной системы.
Вот как это происходит.
Охлаждение тела вызывает потребность в некотором повышении питания. Дополнительная пища, однако, лишь частично усиливает воспроизводство тепла, остальное довершают мышцы, составляющие третью часть нашего веса, печень с ее большой химической лабораторией, органы пищеварения, почки, легкие и даже мозг. Каждый орган, каждая ткань в отдельности собирает тепло из своих многочисленных клеток – печей слабого горения. Когда охлаждение становится значительным, в движение приходят мышцы и непроизвольным дрожанием образуют дополнительное тепло. Нельзя двинуть пальцем без того, чтобы не увеличить теплоту в организме. Бегуны доводят температуру тела до сорока и выше градусов. Солдаты с грузом амуниции в течение пяти-шести минут похода дополнительно нагреваются на полградуса.
Большую услугу оказывает человеку его кожа – два и семь десятых метра ее площади густо пронизаны кровеносными сосудами. Артериолы, снабжающие кровью эту площадь, обладают чувствительными кранами. От холода они закрываются, и отдача тепла во внешнюю среду уменьшается. Высокая же температура, наоборот, увеличивает просветы сосудов, и кожные покровы, способные отдать три четверти тепла своего тела, усиленно начинают его излучать. Этому способствует и потоотделение. Из пятисот желез, расположенных на каждом квадратном дюйме кожи, выделяется жидкость, одна капля которой уносит из тела тепло, достаточное, чтобы нагреть две другие капли влаги выше точки кипения воды.
Эти механизмы глубоко экономны, они делают человека в известной мере независимым от погоды и климата. Не слишком многое изменится от того, будут ли его окружать полярные льды Арктики или джунгли жарких тропиков; он не нуждается в столь повышенном питании зимой, как нуждаются в нем звери и домашние животные.
Медики изучили способность человека защищаться от охлаждения в различную пору его жизни. Наиболее уязвимы пожилые люди, а также дети вскоре после рождения. Большая часть недоношенных младенцев погибает от охлаждения при обычной комнатной температуре.
Этим исчерпывались знания Слонима о теплообмене. Не многим больше мог он рассказать о так называемых регуляторах, столь различных у животного и у человека. Как было ему не увлечься теплообменом? Эти механизмы, различные у человека и позвоночного животного, как бы являли собой утвердившийся в природе разлад. Слониму предстояло искать этому непорядку объяснение, найти последовательность там, где ее, казалось, не было.
Уже первые опыты должны были смутить молодого физиолога. Не так легко выяснить отношения между организмом и температурой внешней среды. Усложняющих обстоятельств много. Как, например, удержать обезьяну в резиновой маске, когда нужно определить ее нормальный газообмен? Всякий эксперимент должен протекать в непринужденной для подопытного организма обстановке, иначе гамадрилы или макаки, возбужденные необычным состоянием, начнут усиленно поглощать кислород, и опыт тем самым будет испорчен. Совершенно очевидно, что метод исследования, годный для собаки, не годится для обезьяны и тем более для шакала или дикобраза.








