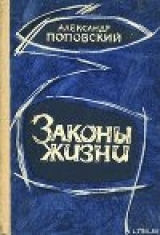
Текст книги "Пути, которые мы избираем"
Автор книги: Александр Поповский
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
Годы исследований убедили Промптова, что сами инстинкты не всегда свободны от влияния опыта. Некоторые формы поведения, известные как наследственные, не могли бы развиться без поддержки приобретенного опыта.
Примеров у Промптова было более чем достаточно.
Ласточка гнездилась на узкой полочке под коньком здания, и исследователь домогался узнать, сколько раз в день кормит она своих птенцов и надолго ли отлучается за пищей. Он подобрался к гнезду с намерением приделать жердочку – контакт для электрической проводки.
Работа близилась уже к концу, еще один удар молотка – и аппарат Морзе на квартире Промптова заговорит, но в последнюю минуту плохо рассчитанное движение разрушило у летка край гнезда. Из образовавшегося отверстия выглянули новорожденные птенцы.
– Какая неудача! – пожаловался Промптов жене. – Ласточка не станет в пору кормления исправлять гнездо – время для этого миновало… Из-за моей неосторожности погибнут птенцы.
Мысль об этом положительно изводила птицелюба. Его не раз видели взбирающимся по лестнице к карнизу дома, лазающим по дереву туда, где гнездам грозит свалиться. Для мухоловки он прибьет к стене консервную баночку, как бы приглашая ее свить тут новое гнездо. Заприметив вертишейку, он нанесет ей в дуплянку подстилки, – что с ней поделаешь, ни Стриж, ни вертишейка гнезд себе не вьют, устраиваются где и как попало… Надо же было такому случиться с ласточкой!
– Мы можем ей помочь, – предложила Лукина: – замажем отверстие глиной.
– Да, придется, – согласился он, обрадованный сочувствием помощницы.
На следующий день случилось нечто неожиданное: ласточка сама заделала отверстие глиной. Что бы это значило? Не находили этому объяснения супруги-исследователи. Птица «сообразила» починить брачное жилище, но ведь время для этого прошло, цикл гнездостроения миновал!
– Это исключение, – робко заметила Лукина. – Так, вероятно, не поступила бы другая.
Исследователь пожал плечами. Он таких исключений не наблюдал. Впрочем, возможно.
– Попробуем, – сказал он после некоторого раздумья, – проверим на опыте.
В тот же день была проделана такая же брешь в гнезде другой ласточки. И тут повторилось то же самое: птица закрыла ее глиной.
И третья, и четвертая, и пятая ласточки быстро исправляли повреждения. Щель промазывалась глиной, и даже форма летка там, где ее нарушали, восстанавливалась. Любопытно, что, пока шел ремонт, птицы не вылетали за пищей и не кормили птенцов.
Промптов мог убедиться, что городская ласточка исправляет свое гнездо не только до откладывания яиц, но и позже, во время выкармливания птенцов.
Другой вопрос, заданный ласточке, можно было выразить в следующих словах: «Если мы сделаем в гнезде лишний леток – еще одно входное отверстие, – согласишься ли ты пользоваться им?»
Птица ответила решительным «нет». Она наглухо заделала второе отверстие.
У исследователя и его помощницы возникла новая забота – придумывать задачи для ласточки.
– Птица, как мне кажется, – сказала Лукина, – не может нам уступить.
С этим Промптов не мог согласиться.
– Я хочу ее заставить пользоваться отверстием, искусственно проделанным в гнезде.
Заставить? Странное решение. А если ласточка заупрямится? Ведь бывает и так.
– Мы замажем глиной леток, – изложил Промптов свой план, – и откроем в гнезде другое отверстие. Если птица и на этот раз заделает отверстие, она невольно замурует своих птенцов. У нее будет выбор, пусть выходит из положения.
Ласточка обнаружила удивительную гибкость в своем поведении – она воспользовалась брешью как летком, хотя расположение его не соответствовало обычному месту.
Когда прежний леток был размурован, ласточка заделала временный вход.
Только жизненная практика могла подсказать птице правильное решение. Инстинкт явно подчинился влиянию накопленного опыта, так называемым временным связям.
Другой случай подобного рода был не менее нагляден.
Птицы, как известно, склонны привязываться к определенным местам – дереву, скворечнику, дуплу – и из года в год к ним возвращаться. Зяблик, к примеру, в продолжение многих лет вьет свое брачное жилище на одной и той же развилке. Эта привязанность, однако, не отражается на типе гнезда, свойственном виду птицы, на его форме и месте расположения. Хохлатая синица, обитательница низеньких трухлявых пеньков, нарушила это правило. Когда Промптов впервые приметил ее, она, верная своему обыкновению, гнездилась в невысоком полуразрушенном пеньке на лесосеке. Спустя год, пока птица кочевала после вывода птенцов, произошла перемена: пенек убрали, участок расчистили и начали возводить дом. Кругом стало людно и шумно, слышались звуки пилы, стук и грохот, а птица не оставляла лесосеку. Неподалеку от того места, где находился пенек, уцелела высокая береза. Хохлатая синица нашла в ней дупло и на высоте двадцати метров поселилась. На уровне, противном ее природе гнездиться, она вывела птенцов и добывала им пищу в тех же местах, где добывала ее в прошлом году. Снова обстоятельства внешней среды оказались сильнее инстинкта.
И еще одно любопытное свидетельство. Врожденная склонность к перелету удивительно своеобразна у птиц. В этом инстинкте пернатых много неясного, противоречивого и нецелесообразного. Так, известно, что некоторые птицы, направляясь на юг, избирают такие ни с чем не сообразные маршруты, что летят лишние тысячи километров. Эти маршруты, как стало известно, извечно отражают былую историю расселения пернатых – птицы, некогда жившие в Сибири, летят из Европы в Индию через Сибирь.
И даже на этом инстинкте сказалось влияние опыта: некоторые виды пернатых создали вторичные, более выгодные пути перелета. Они значительно короче.
Занявшись переоценкой того, что прежде казалось бесспорным, Промптов встретился с фактом, вначале удивившим его самого. Некоторые формы поведения, считавшиеся врожденными, в ряде случаев оказались благоприобретенными.
Ученый взял под сомнение склонность так называемых «оседлых птиц» к кочевкам без определенного направления. Эти передвижения происходят обычно в пределах сравнительно небольших районов, но порой распространяются на довольно значительные. Какова же природа этих кочевок? Связаны ли они, как и перелеты на юг, внутренним состоянием птицы или определяются причинами внешней среды?
Этот вопрос поныне еще не решен, но полагают, что кочевки некоторых пернатых предопределяются деятельностью желез внутренней секреции и относятся к свойствам наследственным.
Прежде чем приступить к изучению природы кочевок, Промптов изложил свои соображения помощнице.
– Я думаю, – сказал он, – что обстановка и главным образом недостаток пищи вызывают сезонные передвижения. С осенними перелетами они ничего общего не имеют.
Лукина в этом не сомневалась: из собственного опыта она знала, что ни одна из синиц, населяющих ее скворечники, не покидала насиженного места. Правда, их было немного, но не проверять же всех синиц в лесу!
Ученый и его сотрудница находились в то время на дачном участке в шестидесяти километрах от Ленинграда. Здесь на оборудованных кормовых столиках, обильно покрытых подсолнухом и коноплей, проводились опыты, тут же время от времени шел отлов и кольцевание прилетающих птиц.
– Наши наблюдения в этих местах убедили меня в моих предположениях, – рассказал Промптов. – Слишком часто попадали в наши сети синицы, окольцованные нами однажды. Что их удерживает здесь? Почему они не кочуют, как прочие? Некоторые остаются тут круглый год. Не потому ли, что наши столики доставляют им вдоволь питания?
Затем последовала программа, рассчитанная на несколько лет. Они будут круглый год оставлять на столиках корм, вылавливать и кольцевать синиц. Если кочевка этих птиц объясняется только недостатком питания, им незачем покидать гостеприимное место. Так ли это, выяснится с течением времени: в сети все чаще начнут угождать одни лишь окольцованные синицы.
Для исследователя и его помощницы наступила хлопотливая пора. Столики привлекали множество синиц. «Запомнились мне эти солнечные сентябрьские дни, – записала в свой дневник Елизавета Вячеславовна. – Липы стояли в саду сияюще-желтые, вперемежку с покрасневшими кленами. Тихо падали листья на землю, а кругом задорно и звонко перекликались большие синицы. И до сих пор я не забыла, как дрожали от волнения руки, когда вынимала из западни первую пойманную птицу. Это была хохлатая синица. Сначала она изо всех силенок пробовала вырваться, щипала мне пальцы. Потом притихла и теплым пушистым комочком лежала у меня в руке. От страха она совсем приплюснула хохолок к головке, а клювом больно вцепилась мне в палец и держит. Я ей надела первое кольцо из связки № 55131 и тихонько разжала пальцы». За двадцать месяцев было окольцовано сто пятьдесят восемь птиц. Многие с тех пор по десять раз угождали в сети и после каждого вылова с новой меткой выпускались на волю.
Искусственно созданное благополучие сделало синиц оседлыми. Промптов узнавал своих пленниц по тем меткам, которые он делал во время каждого вылова. И причудливо остриженный хвост, и лишние кольца на обеих ногах, и даже номер серии он зачастую отлично распознавал биноклем.
Ученому удалось удержать синиц от кочевок. То, что принималось за врожденное, оказалось целиком приобретенным, иначе нельзя было это объяснить. Будь эти перелеты наследственными, никаким благополучием нельзя было бы синиц удержать на месте.
И еще один случай такого же рода. Он заставил ученого потрудиться и о многом серьезно подумать.
Гнездящиеся птицы с глубокой тревогой встречают приближение кукушки. Навстречу непрошеной гостье несутся взволнованные выкрики из гнезд, некоторые самки налетают на нее и даже пытаются ее клюнуть. У них достаточно для того оснований: кукушки разоряют их гнезда, выбрасывают и губят птенцов; подкладывая свое яйцо, злодейка уносит яйца наседки, разбивает и поедает их.
Все в этих действиях целесообразно. Оставить свое яйцо среди чужих, уже насиженных, значит обречь кукушонка на то, чтобы вылупиться последним. Легко ли будет приемышу расправляться с уже подросшими птенцами? Иначе сложится его судьба в разоренном гнезде. Самка, лишившись собственных птенцов, вновь отложит яйца и начнет их высиживать. Первым вылупится кукушонок, и тем верней будет его победа в гнезде.
Инстинктивна ли неприязнь пернатых к кукушке или возбуждение птиц связано с опытом, с действиями хищницы, причинившей им в прошлом вред?
Промптов решил свести пеночек-весничек с кукушкой, подсмотреть и подслушать, к чему это приведет. Водворив на макушке небольшого деревца чучело с машущими крыльями и движущимся хвостом, он из засады приводил его в движение и записывал поведение пернатых.
Обнаружив кукушку, самец пеночки-веснички переставал насвистывать свое «фюить-фюить», поднимал свою зеленоватую, с легкой желтинкой головку, срывался с ветки и, стремительно приблизившись к воображаемому противнику, начинал издавать тревожное «и-пи-пи-пи-пи-пи». Все более и более возбуждаясь, пеночка вздрагивала, взмахивала крыльями, потрясала ими, а иногда, налетая на чучело, теряла скорость полета и почти падала наземь. На крики самца откликалась и самка. Она вылетала из гнезда, невольно тем самым обнаруживая свое брачное жилище. И крики и поведение птиц в каждом случае повторялись так одинаково, что Промптов и его помощница по первым же звукам узнавали нередко «кукушечью тревогу» в лесу.
И после того, как чучело было унесено, птицы долго еще не успокаивались. Ученый делал все, чтобы не дать этому возбуждению улечься. Он куковал кукушкой, воспроизводил тревожные выкрики пеночек, вновь и вновь поднимая затихавшую тревогу.
Пеночки-трещотки принимали кукушку еще более враждебно. После гневных криков, порханья и скачков они налетали на чучело, щипали и клевали его, садились ему на спину и на голову. Не оставалось сомнений, что реакция эта наследственна и, как все инстинктивные проявления, не зависит от «недоброй воли» птиц. Так же безотчетно они вьют гнезда, высиживают и защищают птенцов.
– Мне кажется, – сказала участвовавшая в этих опытах Елизавета Вячеславовна, – что нерасположение наших птиц к кукушке – свойство приобретенное. Ничего врожденного в их поведении нет.
Промптов, занятый в это время раззадориванием пеночек-трещоток, перестал насвистывать и удивленно взглянул на помощницу. Его вдумчивая подруга, осторожная в своих заключениях, вероятно, имела причины, чтобы так заявить. Впрочем, вряд ли она права.
– Нет ничего легче, как отрицать, – тоном неудовольствия и назидания произнес он. – Веснички и трещотки держатся другого мнения.
– Я наблюдала нечто подобное, – с прежним спокойствием продолжала Елизавета Вячеславовна, – несколько лет назад. Это случилось зимой на нашем дачном участке. Разметая у проруби снег, я вдруг слышу «пич-пич», и сразу же застрекотало несколько голосов. Пухляки закричали «кее-кее», затараторили хохлуши, принялись вопить оба поползня. Такой тревоги, помнится, еще ни разу не бывало в городке, и я побежала узнать, в чем дело. Уже издали я заметила, что у кормушек в саду ни одной птицы нет, все они – в лесу. Так и мелькают там по нижним веткам, кричат, но на землю не спускаются. Добежав до садовой калитки, я открыла ее и замерла от удивления: из леса навстречу выходит лисица! Увидев меня, она, насторожив уши, остановилась. Я стояла неподвижно. Лисица постояла, посмотрела и направилась в сторону от меня. Над ней с криками и стрекотанием порхали птицы. Непрошеный гость уходил в лес, а пернатые стаями преследовали ее. «Как дружно ополчились они на лисицу! – подумала я. – А ведь на собак они внимания не обращают». Не думаю, чтобы перед лисицей у них был врожденный страх. Я видела не раз, что молодые птицы даже кошек не боятся, и только беспокойство и предупреждающие крики старых птиц прививают им этот страх. Возможно, что кое-кому из них уже были известны лисьи проделки. Они первые закричали, а остальные стали им подражать… То же самое, полагаю, повторилось в нашем опыте с кукушкой.
Предположение Елизаветы Вячеславовны скоро оправдалось: не все пеночки-веснички и не все пеночки-трещотки относились враждебно к кукушке. Иные в это время спокойно пели и прыгали, склевывая с ветвей возле самого чучела насекомых. Не приходили в возбуждение от вида кукушки и зарянки.
Встреча с врагом не у всех пернатых рождала одинаковое отношение. Ничего свойственного всему виду птиц ученый не обнаружил. Наследственный враг вызывал у одних тревогу и страх, а других оставлял спокойными. То, что внешне выглядело врожденным, оказалось целиком приобретенным.
…Удачи и ошибки привели Промптова к мысли, что поведение пернатых надо изучать прежде, чем на них отразилось влияние внешней среды. Только тогда инстинкт предстанет в своем натуральном виде. Благодарная задача, но кто наблюдал его таким? Кто поручится за то, что врожденный ответ организма уже не подвергся какому-нибудь влиянию? Предмет исследований ученого был лишен очертаний, содержание и форма – расплывчаты и неопределенны. И все же Промптов-механизатор, Промптов-натуралист горячо увлекся предстоящим делом. Ему предстояло разобраться в механизме, который по сложности не знает себе равного: отделить извечное – врожденное, от преходящего – приобретенного.
Изучение инстинкта в его естественном виде проводилось ученым в самой природе, там, где он является на свет. Метод исследования этой чисто физиологической задачи ничего физиологического не содержал. Все сводилось к наблюдению и сравниванию. Повседневная жизнь в гнезде должна была служить предметом изучения, а опыты – контролем. Действующими лицами были птичка-зарянка, пеночка-весничка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка и другие пернатые. Все они в своих гнездах усердно трудились на благо науки, Ученый перекладывал яйца от одной птицы к другой и терпеливо выжидал результатов. Так случилось, что серая мухоловка, свившая себе гнездо на крыше старой бани, и зарянка, поселившаяся под гнилым пнем в лесу, оказались связанными узами научного опыта. Под мухоловкой лежали яйца зарянки, а под зарянкой – яйца серой мухоловки. Пеструшка тем временем высиживала горихвосток, а пеночка-весничка – пеночек-теньковок, и наоборот.
Смена воспитателей никаких перемен в инстинктах птенцов произвести не могла, такой цели никто и не ставил. Было важно другое: проследить, какие черты, характерные для вида, сохранятся у потомства в несвойственных ему условиях существования и как поведут себя приемные родители.
Зная природу изучаемых птиц – воспитуемых и воспитателей, – исследователь мог безошибочно отграничить врожденные черты вида от того, что впоследствии будет приобретено.
Пришли долгожданные дни, и в гнездах вывелись первые птенцы. Промптов узнал об этом по половинкам скорлупок, заботливо вынесенным самкой наружу. Сильный бинокль и кипрегель – зрительная труба геодезистов – раскрывали взору все, что творилось в птичьей семье. Первое время мухоловка подолгу грела птенцов-зарянок, вылетая лишь затем, чтобы схватить мелькнувшее поблизости насекомое. Самец не забывал исполнять свой долг – приносить подруге питание, но сам не кормил птенцов. В этом виноваты были приемыши – их шипение и цыканье, не похожее на писк малюток мухоловок, отпугивали его. И у птенцов были причины чувствовать себя неважно. Корм явно не соответствовал их вкусам. Вместо нежных улиток и членистоногих, живущих во мху и под отсыревшими листьями, им приносили жесткокрылых кузнечиков, шершавых стрекоз. Время сгладило эти нелады – приемные родители привыкли к шипению зарянок, а те, в свою очередь, приспособились к жесткому корму и глотали его, как птенцы-мухоловки. Самка выносила в клюве помет из гнезда, что свидетельствовало о благополучии приемышей.
Пришло время, и Промптов надел кольца на ножки зарянок, и вдруг случилось нечто, встревожившее птичью семью. Птенцы ранним утром выбросились из гнезда и спрятались в траве возле бани. Вдали маячил лес, и инстинкт звал их туда – в чашу. Сколько раз исследователь ни возвращал птенцов на место, они выскакивали и исчезали в траве. Врожденная склонность выбрасываться из гнезда усиливалась еще тем, что их манил к себе лес. Птенцов выпустили на волю, и две недели спустя в сети попала одна из этих зарянок – ее узнали по кольцу на ноге. Воспитание мухоловок мало отразилось на ней. Подобно своим сородичам, она издавала отрывистое «тик-тик-тик», выскакивая из-под елки, не семенила, а прыгала, вздергивала хвостик и кланялась – поскачет и снова отвесит поклон.
Тем временем в лесу, в ямке под елочкой, длинноногая зарянка вывела мухоловок. Ни сырая обитель под гнилым пнем, среди влажного мха, ни расположение гнезда, противное природным склонностям мухоловки, не помешали птенцам тут прижиться. Они вместо мух питались улитками и становились все более похожими на мухоловок. Сквозь узкую искусственную просеку Промптов, глядя в бинокль, мог убедиться, что и характер полета, и движения по земле, и способ преследования и схватывания насекомых птенцы не заимствовали у приемных родителей – зарянок. Могло ли быть иначе? Ведь свойства эти зависят от нервно-мышечных сочетаний, которые были врожденными. Иначе обстояло с пищей: приемыши без труда свыкались с характером корма, с растительной и прочей обстановкой, чуждой их естественной среде.
Удивительно скоро самка-зарянка привыкла к птенцам чужого вида, откликалась на их зов, образовала временную связь на поведение, несвойственное ее собственным птенцам. Кое-чему научились и птенцы-мухоловки: тревожный свист зарянки, высокий и протяжный, оказывал на них свое действие – они умолкали и тесней прижимались друг к другу в гнезде. Это была не врожденная, а приобретенная – временная связь.
У мухоловки-пеструшки вывелись птенцы горихвостки. Хриплый крик выкормышей, столь несхожий с писком птенцов мухоловки, нисколько не отпугивал пеструшек-родителей. Зато питомцы оставались верными себе. Когда Промптов, подражая горихвостке, издавал около гнезда тревожный позыв, птенцы тотчас умолкали. К тревожным же позывам мухоловки, ее характерному «пик-пик», приемыши оставались равнодушны.
Благополучие в гнезде продолжалось недолго. Все было ладно в птичьей семье лишь до первого вылета птенцов. Приемыши покинули гостеприимное гнездышко, приемная родительница отыскала их в листве и поспешила накормить. В этот момент произошло нечто неожиданное: из ближайшей рощи донесся зов горихвостки, гнездившейся там. Выкормыши откликнулись и один за другим стали перепархивать туда, откуда слышался клич. Напрасно кричала обеспокоенная кормилица – птенцы не вернулись к ней. Врожденные свойства птиц – откликаться движением на призыв – оказались сильней связи, образовавшейся между ними и мухоловкой.
В инстинктах пеночек-теньковок, высиженных пеночкой-весничкой, обнаружились свои особенности.
Есть у пеночки-веснички и у других птиц врожденное свойство отводить врага от гнезда. Распустив крылья и хвост, птичка, как подстреленная, ковыляет по земле, подпрыгнет и, чуть припорхнув вокруг посягателя, вдруг взметнется, чтобы вновь потащиться по земле, увлекая за собой врага дальше и дальше от птенцов. Заслышав крики матери, питомцы утихают и безмолвно прижимаются к гнезду. Блаженны пеночки-веснички, устроенные так, что крики родительницы вызывают у них именно такой ответ, но что делать теньковкам, у которых врожденные свойства иные? Удивительно ли, что всякий раз, когда беда приближалась к гнезду, приемная мать надрывалась, а пеночки-теньковки еще пуще шипели и дергались в гнезде…
Промптов многое увидел и узнал, и на его глазах пробуждались инстинкты, анализ отделял врожденное от приобретенного. Но как далеко еще было до исследования инстинкта в его естественном виде!..
Осенью 1940 года в творческой судьбе Александра Николаевича Промптова произошел крутой перелом. Он связал свою судьбу с институтом эволюционной Физиологии, основанным Павловым в Колтушах. В лабораториях академика Орбели долго недоумевали: что могло привести натуралиста-птицелюба в «столицу условных рефлексов»?
– Я хотел бы, – объяснил он, – изучать механизм образования инстинкта. Есть много общего в формировании наследственных задатков у человека и у певчей птицы.
Такое сравнение настроило многих на благодушно-шутливый лад.
– Вы хотите сказать, – возразили ему, – что врожденная способность к пению и у тех и у других возникает только со временем?
Промптов пожал плечами и промолчал. Он не любил, когда о его питомцах позволяли себе говорить несерьезно.
– Не мне вам доказывать, – сказал орнитолог, – что человеческий организм является на свет с несовершенной нервной системой. Органы чувств новорожденного почти полностью бездействуют. Наследственные задатки, способные проявляться у многих видов животных уже с момента рождения, у человека полностью завершаются значительно позже. Такими же беспомощными начинают свою жизнь и птенцы. Голые, глухие и слепые, они даже не имеют постоянной температуры. В эту пору их инстинкты столь пластичны и гибки, что ими можно, как мне кажется, произвольно управлять. Если наши рассуждения верны, то все это должно изучаться строгими методами, материалистической методикой Павлова. Только так и не иначе…
Он сыт по горло благоглупостями зоопсихологов, их произвольным толкованием поведения птиц, идеалистическими вывертами, чуждыми подлинной науке…
Идея изучать развитие инстинкта по мере того, как он обрастает временными связями, тем, что мы называем жизненным опытом, была встречена академиком Орбели с интересом. Павлов, изучавший природу условных рефлексов, их свойства регулировать, тонко направлять и сдерживать врожденные механизмы, не нуждался в детальном исследовании инстинктов. Работы Промптова могли бы восполнить представление о том, как согласует свою деятельность в сложном организме врожденное и приобретенное.
Так случилось, что физиологические закономерности, установленные Павловым на собаках, стали предметом дальнейшего изучения на птицах.
Истинному таланту присуща страстная склонность изменять и совершенствовать свои методы исследования, не задерживаясь и на тех, которые в свое время были плодотворны. Промптов решительно отложил свой бинокль и кипрегель и перенес свои наблюдения из природы в лабораторию. Не то чтобы результаты, добытые в лесу у гнезда, не удовлетворяли его, он и впредь не откажется изучать птиц в их естественной обстановке. Одержимый жаждой познать механизмы инстинкта, он задумал проследить поведение птенцов, лишенных влияния родителей, изучить их в лабораторной обстановке. В этом случае, казалось, врожденное предстанет в своем истинном виде, ничто постороннее его не заслонит.
Вряд ли кто-нибудь усомнится, что стройка гнезда, высиживание и выкармливание птенцов – деятельность глубоко инстинктивная, но где именно в этой деятельности врожденное восполняется приобретенным? Новый метод позволит выяснить, в какой мере инстинкты зависят от опыта, приобретаемого птицей в гнезде.
Работа предстояла нелегкая. Воспитывать птенцов со дня их рождения – невероятный по сложности труд. Промптову это известно. Некоторые пернатые – жаворонки, трясогузки, луговые и лесные коньки – ни при каких обстоятельствах не размножаются в неволе…
Исследователь и его подруга стали собирать насиженные и свежеснесенные яйца зерноядных птиц и подкладывать их своим лабораторным питомцам – канарейкам. В то же время выкармливались насекомоядные птенцы, вынутые из гнезд родителей.
Три века назад канарейка была вывезена с Канарских островов и с тех пор размножается в клетках. Неволя глубоко изменила ее: она стала менее подвижной, ручной и даже утратила отдельные врожденные свойства. В меру спокойная, уравновешенная, птица оказалась серьезным подспорьем для опытов по высиживанию чужих птенцов.
В лаборатории закипела работа. Десятки птенцов величиной с жука каждый с утра до вечера непрерывно напоминали о себе, настойчиво требуя пищи. Каждые пять минут пинцет вкладывал им в клюв крошки творога или муравьиные яйца. Когда крайний в ряду птенец, получив свою долю, умолкал, наступала пора кормить первого. Воспитателям не оставалось времени ни передохнуть, ни отлучиться из лаборатории. В трудах и заботах проходили недели.
Так явились на свет искусственно вскормленные птицы, выращенные вне своей обычной среды. Они не слышали ни песен сородичей, ни сигналов родителей о приближающейся беде, их не учили добывать себе пищу и спасаться от врагов. Их поведение определялось инстңнктами и навыками, усвоенными обитателями клеток. Эти заимствования, чуждые характеру вида, легко обнаруживали себя. Зная природу своих питомцев, Промптов мог без труда отличить навеянное от врожденного.
Как же вели себя эти птицы? Отразилась ли на них искусственная среда и отсутствие влияния родителей?
На этот вопрос ученый долго лишен был возможности ответить: помешала война. Пришли суровые дни блокады Ленинграда, институт опустел, сотрудники ушли кто на фронт, кто на заводы. Нечем стало кормить подопытных птиц, и Промптов, сохранив лишь десятка два выкормышей, выпустил остальных на волю. С этими питомцами он переселился в город. Осада становилась все более жестокой, на улицах разрывались артиллерийские снаряды, с самолетов обрушивались фугасные бомбы, а ученый-птицелюб, голодный, усталый, бродил в поисках корма для птиц. Он обходил рынки или добывал у знакомых отходы зерна и мучных червей для насекомоядных. Птенцам не хватало пищи, и ему приходилось делить с ними свой скудный паек. Он створаживал молоко и кормил творогом птиц – никто и ничто не могло убедить его поступить иначе. Когда для канарейки понадобились куриные желтки – птица пережевывает их и кормит ими птенцов, – ученый стал продавать свой паек хлеба, чтобы покупать яйца. Изредка из Колтушей присылали для птиц творожную лепешку. За ней приходилось далеко ходить, пересекать по снежной тропе Неву. И все же в те дни, когда выдавали этот паек, не было, казалось, в Ленинграде счастливее Промптова и его верной подруги.
В ту жестокую пору орнитолог-натуралист готовился стать физиологом. Давалось это ему нелегко. В валенках и в пальто, обессилевший от голода и холода, он сидел у окна, к которому в солнечные дни подвешивали клетки с озябшими птенчиками, и штудировал Павлова, переводил свои представления с языка натуралиста на язык физиолога.
Думал он и о том, как важно сейчас научно обосновать учение об инстинкте. Враг извратил толкование этой великой жизненной сущности, обратил созданную им химеру против человека и свободы. Именем этой лжи он сеет смерть и несчастья: потоком льется невинная кровь, восходит пламя костров, гибнут люди в газовых камерах. Всюду, где солдат с оружием отстаивает родную страну, должен стать рядом ученый, чтобы силой знания и любви к своей родине разить лицемерную нацистскую ложь.
Ухаживать за птицами приходилось Промптову одному. Елизавета Вячеславовна уже с утра отправлялась на завод и возвращалась домой поздно ночью. Весной работы стало еще больше. Справедливость не позволит нам умолчать о незаметном помощнике, который в те дни облегчал заботы ученого. Это был холостой самец – лесной конек, невзрачная серовато-коричневая птичка с трескучей трелью «кле-кле», со склонностью гнездиться под моховой кочкой на земле и своеобразно парящим полетом. Обуреваемый инстинктом носить птенцам корм, он охотно замещал воспитателя. Его сажали в клетку к выкормышам и ставили чашку с пищей. На такого кормильца можно было вполне положиться: он ничего не съест, не бросит свой пост, пока не скормит последнюю крошку.
Такой родительский жар свойствен не только лесному коньку. Самцы ткачиков и ремезов вьют гнезда для будущего потомства, черный дятел в дупле устраивает брачное жилище и даже участвует в насиживании…
Итак, лесной конек получил на свое попечение нескольких птенцов и чашку, полную творога. Промптов весь день не был дома. Прошло много времени, прежде чем он вернулся. Зрелище, представившееся его глазам, было. не из отрадных. Скормив весь творог, аккуратный служака принялся выдергивать у питомцев перья и совать им в рот вместо пищи…
Вечерами ученый и его неутомимая подруга много говорили о птицах. Она читала ему выдержки из дневника, он рассказывал о своих наблюдениях. Так возникла новая тема: «Наблюдения над птицами в дни осады Ленинграда». В этой работе описывалось, как город заселялся пернатыми по мере того, как люди его покидали. Птицы – обитательницы лесов и полей – заполнили улицы. В проломах стен вили гнезда' горихвостки, между рельсами трамваев суетились трясогузки. У Казанского собора, в кустарнике, серая славка высиживала птенцов. На осажденную твердыню нагрянули ласточки, птичка каменка селилась в развалинах домов. Исчезли воробьи – нахлебники человека.








