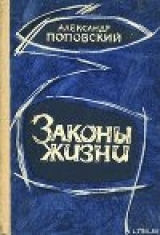
Текст книги "Пути, которые мы избираем"
Автор книги: Александр Поповский
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
Ассистентка находит погрешности в человеческой природе
Новые опыты ничем не отличались от тех, которые проводились в горах, где Быков представлял собой испытуемого.
– Приготовьтесь к опыту! – властно звучала ее команда.
Исследуемый вставал, чтобы исполнить ее приказание. В ход пускался метроном, и тотчас следовала вторая команда:
– Начинайте работу!
Человек взбирался на табурет, спускался на пол и вновь поднимался. Физическое напряжение все более нарастало, учащалось дыхание, росло потребление кислорода. Упражнение повторяли шестнадцать раз; за словесным приказанием следовал стук метронома. На семнадцатый раз звучание аппарата уже задолго до начала упражнения резко повышало дыхание, потребление кислорода усиливалось. Каково бы ни было положение испытуемого, чем бы ни был он занят или увлечен, звуки метронома расширяли его легкие, потоки кислорода устремлялись к тканям.
– Вот это то самое, что нам надо, – с удовлетворением заметил Быков, когда маленькая ассистентка на двух испытуемых показала ему силу временной связи. – Пойду расскажу Ивану Петровичу, он любит интересные факты.
Павлов выслушал Быкова и задумался.
– Интересные факты, что и говорить. Не то еще узнаете. Главное – не зазнаваться, не успокаиваться. Размахнулись вы, батенька, широко, хватит работы на целую жизнь.
Назавтра Быков сообщил ассистентке мнение Павлова:
– Иван Петрович одобрил вашу работу; так, говорит он, и должно быть. Поздравляю. В вашем распоряжении важные материалы, можете их опубликовать.
Она немного подумала.
– Я хотела бы эти материалы еще раз проверить. Позвольте мне повременить.
– Не возражаю, – ответил он, – в физиологии все возможно: следующие опыты могут принести с собой исключения.
Профессор не сомневался в силе ее доказательств, через голову ученицы он видел путь, который ей предстоит. Больше всего обрадовала его осторожность Ольнянской. Она напомнила ему собственное недоверие к себе, нелюбовь к поспешным решениям.
– Можно повременить, как хотите. Позвольте только в связи с этим привести вам историческую справку. Известный вам Гарвей сообщил о своем открытии кровообращения в Лондонской королевской коллегии в 1615 году. Обнародовать же свой труд он согласился лишь в 1628 году – тринадцать лет спустя… Похвально, конечно, но нас вы, надеюсь, так долго не заставите ждать?
Однажды сотрудница явилась к ученому глубоко взволнованная и огорченная.
– У моих новых испытуемых не образуются временные связи. Метроном не изменяет их газообмена.
Это было невероятно: человек обречен образовывать временные связи до последнего вздоха. «Отсеченная гильотиной голова, – шутил Быков, – некоторое время еще живет и, кто знает, возможно, образует временные связи».
– Вы бы для проверки посмотрели сами, – попросила аспирантка.
Она не может без него вернуться к себе, виновники неудачи ждут ее в лаборатории.
Он пригласил девушку сесть и долго расспрашивал о подробностях неудавшегося испытания.
– Не сообщали ли вы им, зачем мы проводим эти опыты?
Она отрицательно покачала головой.
– Я предупреждала их, чтобы они серьезно относились к нашему делу. Это важные исследования, и результаты целиком зависят от них. Объяснила им, кстати, что в течение суток мы вдыхаем около пятнадцати тысяч литров атмосферного газа.
– Только? Не сообщили ли вы им также, что в легких человека насчитываются сотни миллионов пузырьков микроскопических размеров? Вы имели случай рассказать им, что миллиарды капилляров пронизывают организм и что общая протяженность их в полтора раза больше окружности земного шара.
– Зачем? – удивилась она.
– Чтобы осложнить свою работу и даже сделать ее бесполезной.
– Я полагаю, – со вздохом сказала она, – что они это знают и без меня. В руках у одного из них я часто видела книги о Павлове, и мы с ним даже беседовали о природе временных связей.
Сообщение помощницы не пришлось по вкусу ученому.
– Совершенно излишне, – заметил он, – чтобы испытуемые знали физиологию лучше нас. Вообразите, что известная улица или какой-нибудь уголок на земле навевает вам радость и служит источником приятных чувств. Вас приводят туда и предупреждают: «Мы знаем, что вам здесь бывает хорошо, позвольте нам в этом убедиться». Как вы полагаете, много ли шансов к тому, что желанная радость проявится? Вместо возбуждения наступит торможение – вас охватит чувство обиды. Нечто подобное наблюдается у ваших исследуемых: временные связи у них образуются, но кора полушарий задерживает их проявления.
– Как же быть дальше? – упавшим голосом произнесла девушка. – Придется сызнова начинать, с другими людьми?
– Зачем? Растормозите испытуемых, и вы получите другие результаты. Повысьте возбудимость коры хотя бы кофеином или спиртом, и торможение ослабнет.
В следующий раз аспирантка перед опытом угощала испытуемых чаем. Вместе с сахаром в стакан незаметно опустили кофеин. Быков не ошибся: временные связи в тот день проявились, звуки метронома обрели власть над газообменом испытуемых.
Начатые работы были продолжены на заводе, где Ольнянская в свое время встретилась с Быковым. Она предвидела значительные трудности, знала, как нелегко будет добиться поддержки мастеров и бригадиров. Начальник цеха, сухой и упрямый человек, не любит, когда отвлекают бригаду от дела. Как еще отнесутся рабочие? Ничего не поделаешь, надо ко всему быть готовой, хотя бы пришлось и с теми и с другими поспорить.
– Чем вам так понравился наш шинный завод? – спрашивали ее. – Ставили бы свои опыты в лаборатории.
На это она отвечала:
– Мне нужна повседневная жизненная обстановка, то, что называется естественной средой. Искусственная подводит меня. Нравится мне также надевание камер на болванки. Где и как я могла бы наблюдать исследуемых за такой трудоемкой работой?
Строгая и деловитая, не склонная к шуткам и болтовне, когда дело касается науки, она требовала уважения к своей работе, просила, настаивала, порой сердилась, пока ей не уступали.
Весной 1930 года между Ольнянской и Быковым произошел такой разговор.
– Некоторые обстоятельства меня здесь удивили, – не скрывая своего смущения, начала она, – я хотела бы послушать ваше мнение… Тут кроется что-то не совсем понятное, но что именно, трудно решить…
Ученый предложил ей перейти от общего к частному и передвинуть заключение ближе к концу.
– Мы обычно узнаем, – методически, с расстановкой продолжала она, – о потраченной нами энергии по количеству поглощенного организмом кислорода и степени его окисления в клетках. Мы привыкли считать, что потребление этого газа растет во время работы и падает в состоянии покоя. – Ольнянская говорила подробно, объясняла каждый термин, точно отвечала на экзамене. – Сейчас я наблюдаю нечто другое. На моих глазах совершенно нормальные люди, будучи в покое, поглощают кислорода больше обычного.
Она является по утрам на завод, отбирает из бригады рабочих и измеряет у них газообмен. Так как выдыхаемая углекислота есть результат сложнейших химических процессов организма, им определяют тяжесть нагрузки и количество затрачиваемой рабочим энергии.
Раздается гудок, бригада приступает к работе, и тут начинается то самое, что так поразило ее: исследуемые рабочие продолжают сидеть неподвижно, а дыхание их учащается, как и у тех, кто работает. Точно гудок подсказал одинаково всем: поглощайте кислород, будет трудное дело. Подготовительные операции окончены, бригада приступает к основному делу, а потребление кислорода у работающих и неработающих одинаково растет.
Бригадир прерывает наблюдения ассистентки:
– Кончайте опыт, пора взяться за дело.
Он обращается к ней, рабочих это как будто не касается, а дыхание у них учащается. Снова чье-то влияние повысило газообмен.
– Погодите, погодите, – просит она бригадира, – тут что-то не так… Я только проверю.
– Вы задерживаете нас, освободите людей, – настаивает он.
– Подождите немного, я сейчас кончу, – сердится она. – Не мешайте мне, я занята научной работой!
В эту минуту ему лучше оставить ее в покое. Маленькая сотрудница не уступит, будет просить, пообещает управиться как можно скорей, не остановится перед тем, чтобы резко оборвать его, но опыты доведет до конца.
«Как тут разобраться? – недоумевает Ольнянская. – Рабочие не волнуются, это видно по всему, наоборот – они смеются, довольные своим положением, а газообмен нарастает, словно они уже порядком потрудились».
– Приходите завтра, – говорит она испытуемым, – только пораньше, часов за шесть до начала работы.
Она смутно догадывалась, в чем тут причина.
И за шесть, и за восемь, и за десять часов газообмен у них был повышен. Она просила их прийти в выходной день. Они пришли утром в лабораторию, надели дыхательные маски, готовые сидеть неподвижно, сколько им прикажут. В этот день газообмен был нормальный. Рабочих повели в мастерские. Вид бездействующего цеха не оказал на них влияния: вдыхание кислорода не превышало естественной нормы.
– Я понимаю это так, – закончила Ольнянская свои объяснения. – Настраиваясь на ту или иную работу, мы как бы подготовляем организм к ожидающему его испытанию. Объясните мне, пожалуйста, как это перевести на язык физиологии? Какие механизмы тут действуют?
Ученый внимательно выслушал ее. Она давно уже кончила, а он все еще о чем-то размышлял.
– Почему вы молчите? – нетерпеливо спросила она. – Уж не думаете ли вы о чем-нибудь другом?
– Нет, нет… Да, так что же вы хотите?
Мысли его действительно были заняты другим. Профессор подумал, что завод может стать еще одним местом для научных исканий. Наблюдения девушки интересны, хотя о них рано судить.
– Чем объяснить эту несообразность? – не отступала она. – Вы согласны, что это именно так?
– Согласен, конечно, вы правы. Мало ли какие несообразности бывают на свете! Известный вам Гарвей родился в «день всех глупцов» – первого апреля. Тот, кто сдвинул с места небесный свод и опрокинул теорию Птолемея, Исаак Ньютон, занялся к старости комментариями к откровениям апостола Иоанна и примечаниями к апокалипсису. Все ли возможно объяснить?
– Не шутите, пожалуйста! – просила его девушка. – Вы должны мне ответить, правильно ли я рассуждаю.
Он ответил ей другой аллегорией:
– Фридрих Энгельс говорил: «Здравый человеческий смысл, весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования».
Историко-философские упражнения профессора свидетельствовали, что под внешним спокойствием скрывается напряженная работа мысли. Он цитировал ей ученых и мыслителей и с серьезным видом преподносил их премудрость.
– «Жизнь коротка, – легкомысленно вещал он, – путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно…»
И после короткой паузы:
– Ничего несообразного я не увидел. В организме, где селезенка, печень, почки и кровеносная система образуют в головном мозгу временные связи с явлениями и предметами внешнего мира, газообмен не может представлять собой исключение. Это особенно наглядно у людей, подвергнутых гипнозу. В зависимости от того, внушают ли им, что они выполняют более или менее тяжелую работу, у них колеблется потребление кислорода. Мне пришла мысль предложить вам разработать этот вопрос в лабораторном эксперименте… Я думаю, что ваше сердце, – закончил он, – на этот раз вас не подвело.
Исполненная благодарности к тем, кто своим терпением и выдержкой помог ей завершить исследование, маленькая ассистентка, прощаясь с рабочими, обратилась к ним с прочувствованной речью.
– У нас, советских физиологов, – сказала она, – живет добрая традиция: высоко ценить тех, кто нам помогает в нашей нелегкой работе. Иван Петрович Павлов нередко ставил своего служителя Ивана Шувалова в пример нерадивым ассистентам. Восхищение ученого способностями этого человека было столь велико, что он рекомендовал его обществу физиологов, и те избрали служителя членом своей научной организации. Для другого служителя, Ивана Трофимовича, великий физиолог исхлопотал привилегию именоваться «ученым-мастером». Такова традиция нашей школы. Она могла утвердиться лишь в нашей стране, где одинаково почетен и умственный и физический труд. Позвольте мне от всего сердца пожать вам руку, товарищи…
Научные пути Ольнянской весьма усложнились. Она окончила биологическое отделение университета, занималась физиологией труда, теперь ей предлагают работу, граничащую с медициной.
– Вряд ли я справлюсь. Вы забываете, что я не врач.
Ответ профессора отличался изобилием цитат и исторических справок.
– Нашли о чем беспокоиться! Ни Пастер, ни Мечников не были врачами. Первый начал кристаллографом, а второй – этнографом и зоологом. Ученый Дюма обратился к Пастеру с просьбой исследовать болезни шелковичных червей. Тот отказался: он не знает медицины и не хочет совать свой нос в чужие дела. Дюма ему на это ответил: «В этом и вся прелесть, что вы не медик, – у вас не будет иных выводов, кроме тех, которые вы получите из собственных наблюдений». Величайшая революция в самых основах врачебной науки за тридцать веков ее существования произведена именно этими людьми, чуждыми врачебной профессии…
Уверены ли вы в своих опытах?
Весть о работах Ольнянской обошла всю страну. За границей к ним отнеслись с недоверием. Изменение газообмена под влиянием временных связей казалось невероятным. Кора полушарий, возможно, влияет на отдельные органы, врачи это подметили давно, но что мозг регулирует дыхание клеток, контролирует горение в них, с этим решительно не соглашались. За границей о работе Ольнянской писали: «Если приведенные факты окажутся верными, это будет равносильно перевороту в физиологии».
Ученые имели основания не слишком доверять молодой ассистентке. Считалось бесспорным и непререкаемым, что деятельность дыхательных механизмов независима от больших полушарий мозга. Потребление кислорода и выделение углекислоты – величины постоянные и строго зависят от веса, возраста и роста людей. Нельзя произвольно ни удвоить, ни утроить поглощение и выделение этих газов. Некоторые отечественные ученые осудили работы молодой ассистентки. На конференции специалистов в Москве много резкого было сказано по адресу ученицы и учителя.
– Уверены ли вы в своих опытах? – спросил Быков. – Не ошиблись ли вы? Проверьте еще раз.
Ассистентка не пожалела ни времени, ни труда, повторила все опыты, проделала их заново.
– Вот и отлично! – проверив ее материалы, заметил Быков. – Мы доказали, что временные связи вносят изменения в то, что принято считать «основным обменом». Это наше убеждение. Теперь мы можем продолжить изыскания. В ваших наблюдениях, если я не ошибаюсь, повышенный газообмен держался у рабочих неделями. Повторите это в лаборатории на подопытных животных.
– Но мы не ответили нашим критикам, – недоумевала ассистентка.
– Это и будет ответом, лучшего придумать нельзя.
– Я понимаю, – соглашалась она, – но мы не должны молчать… Следует этим людям дать решительный отпор. Не щадить их самолюбия…
Вот уж с этим он не согласен. Откуда такая непримиримость?
– Я наших критиков не считаю своими врагами. Не знаю, как вы. Мы члены одной научной семьи – скорее братья, чем недруги. Не видели вы, Регина Павловна, жестоких людей, не видели и мучеников науки… Преследуемый и осмеянный немецкими учеными, выбросился из окна своего дома автор закона о сохранении и превращении энергии Р. Майер. Противники заключили его в дом умалишенных, откуда он вырвался с трудом. Ту же судьбу разделил австриец Земмельвейс, подаривший человечеству первые идеи об антисептике. Изгнанный из города, где он спас тысячи женщин от родильной горячки, он умер в доме умалишенных. Критики, как видите, бывают разные. Парижский парламент осудил книгу Вольтера как «скандальную, противную религии, добрым нравам и уважению к власти» на сожжение рукою палача у подножия большой лестницы здания парламента. С нами подобное не может случиться, выходит, что нам и враждовать не с кем… Вы послушайте, как отзывается о своем английском окружении кроткий и деликатный Фарадей…
Ученый порылся в боковом кармане, развернул записную книжку и прочитал:
– «Как слабо, суеверно и лишено веры, – пишет он в одном письме, – слепо и трусливо наше общество, как оно смешно, если его оценивать по уму составляющих его людей. Сколько несогласий, противоречий и глупостей! Когда я беру среднее значение из многих людей, встречавшихся мне в последнее время, и принимаю это среднее за норму, то в отношении послушания, наклонностей и инстинкта склонен собаку ставить выше их…»
Что оставалось ей возразить? Она склонила голову и опустила глаза.
Шли годы. Маленькая ассистентка неутомимо трудилась, но никто не встречал ее сообщений в журналах, она не печатала их.
Всегда озабоченная, по горло занятая делом, она становилась все более точной в экспериментах, суровой и требовательной к себе. Этому отчасти способствовал Быков. Выслушав обычно ее сообщения, он просматривал листы протоколов, неизменно спрашивал ее, уверена ли она в своих опытах, на закралась ли ошибка в расчетах. Легко сказать «уверена»! Ведь это физиология, в которой все вероятно и возможно… В оправдание своей осторожности он говорил о том, как величественно сложен организм, как легко поскользнуться и сбиться с подлинного пути. Взволнованная его предупреждением, она все более проникалась недоверием ко всякому заключению, недостаточно обоснованному строгим доказательством, ко всему, что способно зародить подозрение у Быкова.
Убедившись, что девушка почти не покидает лабораторию, ученый стал поручать ей хозяйственные дела: поговорить с одним, помочь другому, приглядеть, распорядиться, – одним словом, быть хозяйкой отдела. На ней лежала обязанность обеспечить лабораторию всем необходимым – инструментами, химикалиями и даже выписывать корм для собак. К ней стали обращаться вначале сотрудники, затем представители администрации.
Она помогала соблюдать правила охраны труда, обходила лаборатории свои и чужие и, обнаружив нарушение, спешила его устранить. У нее хватало времени разрабатывать программы научных заседаний, производственных совещаний, заботиться о том, чтобы никто не ускользнул от исполнения общественного долга. Она проводила эти работы с той же уверенной осторожностью, с какой ставила опыты и изучала газообмен…
Робкая, исполнительная, она умела быть твердой, проявляла настойчивость, а порой и упрямство. Быков, не расположенный ко всякого рода капризам, сердился, возражал, долго и упорно с ней не соглашался и, махнув наконец рукой, нередко уступал. Особенно сказался ее характер в случае с прибором, причинившим ученому немало забот.
Это был обыкновенный измерительный прибор, крайне важный для ее опытов. Принадлежал он университету и неизвестно каким образом обосновался в лаборатории Быкова. Один раз в году, когда на кафедре физиологии лекции приближались к разделу «Дыхание», Ольнянская теряла душевный покой. Из университета поступало строгое требование вернуть аппарат, не задерживать практических занятий студентов. Ассистентка не спешила с ответом. Тогда с напоминанием являлся Быков. Он просил ее поторопиться. Она давала обещание вернуть аппарат и все-таки не возвращала. Проходило время, раздел «Дыхание» на кафедре сменялся другим, и об аппарате забывали. На следующий год история вновь повторялась.
Однажды Быков вызвал ассистентку и твердо сказал:
– Отошлите прибор, не задерживайте его больше, я вас прошу.
Он ждал возражений, жалоб и просьб и был удивлен ее согласием.
– Хорошо, – сказала она, – я сделаю.
– Вы будете аккуратны? – переспросил ученый.
– Да, да, обязательно.
Маленькая ассистентка обратилась в управление института, в чьем ведении находилась лаборатория Быкова, с просьбой сообщить ей, числится ли за университетом какое-либо оборудование, принадлежащее институту. Ей важно это узнать, и как можно скорее.
Предположения ее оказались правильными: исправный кредитор оказался весьма неисправным плательщиком: за ним числилось немало чужого имущества. Она настояла на том, чтобы кредитору предложили вернуть оборудование института, после чего он получит свой прибор.
Быков так и не узнал, почему вдруг прекратились претензии университета на газообменный аппарат…
– Вы отдали прибор? – спросил как-то ученый сотрудницу.
– Нет, – спокойно ответила она.
– Хорошо сделали, – сказал он, – хорошо!
Случалось, что девушку вдруг покидала ее деловитая строгость. Она становилась любезной и мягкой и даже подолгу могла болтать. Никто не узнавал в ней прежнюю ассистентку – молчаливую, сдержанную и непримиримую. Удивительно, что это происходило, когда дела и заботы особенно донимали ее и возбужденная мысль стояла перед трудной задачей. Оказывается, что так ей легче обдумать будущий опыт, принять решение, с чего начинать. Странная способность под покровом покоя домогаться победы в тяжелой борьбе! Пройдет некоторое время, состояние беззаботности минует, и она станет прежней, дела и заботы пойдут своим чередом.
Маленькую ассистентку, обремененную множеством дел, можно нередко встретить у Быкова. В кабинете у него всегда много людей, он до крайности занят, и ей приходится подолгу его ждать. Особенно могут затянуться его разговоры с другими, когда встреча с помощницей ничего хорошего ему не сулит. Она имеет основания быть им недовольной: ученый обещал явиться на опыт и не пришел, обещал что-то выяснить и забыл… Он угадывал ее настроение по сдержанным движениям, сгорбившейся фигурке и низко опущенным глазам, но, пока в кабинете остается хоть кто-нибудь, кроме него, она будет терпеливо молчать.
Бывает и так – профессор, завидев помощницу, оставляет все дела, чтобы расспросить:
– Что у вас нового? Добились чего-нибудь? Расскажите.
Кабинет его рядом с ее лабораторией, он знает все, что творится у нее, но она умеет с увлечением рассказывать, и ему просто приятно послушать ее.
Годы мало изменили ассистентку, не изменили они и Быкова. По-прежнему обширен круг его интересов, по-прежнему тесно ему в лаборатории. Он любит многое другое и не менее страстно. Его волнует коллекция ex libris, новый экспонат в обширном альбоме, оригинальное измышление библиофила, театр и музыка, выставка живописи. Случается, что Быков оставляет замечательный опыт, не доводит его до конца и спешил к букинисту порыться в книгах, купить уникум, украшенный редким автографом. Быкова знают коллекционеры и скупщики картин, они не раз убеждались, что он за деньгами не постоит, отдаст последнее за сущую безделицу.
Ни книги, ни коллекции, ни живопись не служат, как у Павлова, целям единой задачи. И то, и другое, и третье имеет свое назначение и цель.
Оттого что его чувства так обогащены, ему мало содержания без яркого облачения формы. Удачный эксперимент удачен вдвойне, когда результаты добыты остроумной методикой. Форма должна восхищать, рождать любовь и внимание к делу. Во время операции приборам положено блестеть, лежать на столике ровно по ранжиру. Рабочая комната сотрудников и сами они должны производить приятное впечатление. Кабинет в лаборатории доставляет Быкову много хлопот: хорошо бы его украсить цветами, поставить рояль и модную мебель, обязательно красного дерева. Таковы его взгляды – содержание должно быть облечено в изящную форму, и чем больше в этом вкуса, тем лучше.
– Вы были вчера в Филармонии? – спрашивает ученый Ольнянскую. Он знает, что она, как и он, любит музыку и балет.
– Нет, – отвечает она.
– Тогда нам не о чем с вами говорить.
Он пришел рассказать ей о новой интересной идее. Хотелось это выразить на примере композиции из вчерашнего концерта. Так, прямо, говорить неинтересно.
Однажды он ей сказал:
– Удивительно, до чего тесно связаны в нашем воображении звуки и краски! У некоторых людей восприятие музыки сопровождается таким мельканием красок перед глазами, что они лишены возможности слушать ее.
О таких людях, как Быков, говорят, что они недостаточно целеустремленны, но это неверно. Двадцать пять лет верен Быков своей первоначальной идее и, не прельщаясь другими, изучает временные связи внутренних органов. Он не двойствен, нет, нет, это неверно, он множествен.
Много мыслей, много дел, надо всюду поспеть, везде справиться. Внимание распылено. Он не всегда управляет вещами, они часто господствуют над ним. Ученый рвется к труду, к незаконченной работе над верхним шейным узлом, начатой еще в студенческие годы, – хочется вникнуть в его тайну, познать механику нервного импульса. Каждый раз он дает себе слово предоставить помощников их собственной судьбе, насладиться общением с природой. День ускользает в суете и заботах, приходит вечер и с ним – сознание того, что мелочи поглотили еще один день в его жизни.
Что делать? Как быть? Когда мысль об этом становится невыносимой, он усилием воли вынуждает себя запереться в лаборатории. Один, без забот и тревог, он совершенно меняется, и на короткое время находит выход его неуемная страсть.
Пришло то время, когда Институт экспериментальной медицины с небольшим числом отделов и ограниченным кругом научных сотрудников ютился в тесных помещениях на Аптекарском острове. Возникло новое обширное здание, прежний институт вырос в крупнейшее учреждение страны. Огромные средства, отпущенные правительством, обратили его в подлинный рассадник знания. Образовалось множество лабораторий, втрое больше стало ассистентов. Замечательные работы, проведенные в последние годы, позволяли надеяться, что на Международном конгрессе физиологов в Ленинграде в 1936 году Всесоюзный институт экспериментальной медицины займет достойное место.
Ольнянская тем временем искала возможности воспроизвести на лабораторном животном то, что она увидела на рабочих, – повышенный газообмен, способный держаться неделями. К ее услугам теперь была хорошо оснащенная лаборатория, все необходимое для успеха. Работа была не из легких, препятствия вставали уже с первых шагов. Сложно было изучить у собаки газообмен. Казалось, чего проще: надеть животному маску, соединить ее с прибором, а там только отмечать, сколько в норме потребляется кислорода и выдыхается углекислоты. На первый взгляд просто, но как только собаке надевали маску, она движением лапы сбрасывала ее. Как убедить животное лежать в сковывающем его газообменном аппарате два-три часа подряд? Как в таком состоянии ставить опыты на нем? Маленькой ассистентке не нравилась методика опыта. «Собака должна быть свободной, – настойчиво повторяла она, – в вынужденном спокойствии ничего нормального нет. Павлов учил экспериментировать на свободном и здоровом животном». Ей не жаль времени – ни года, ни двух, – нельзя из-за мелочи портить серьезное дело. Упрямица добилась своего: шесть месяцев спустя собака приспособилась лежать неподвижно по нескольку часов…
Вторая часть опыта состояла в том, что животному вводили под кожу тироксин – препарат щитовидной железы, повышающий обычное потребление кислорода и выдыхание углекислоты. Его влияние длится в течение шести дней. Подъем этот идет волнообразно и постепенно снижается до нормы. Пять раз Ольнянская вводила собаке тироксин, а на шестой вместо препарата щитовидной железы впрыснула ей соляной раствор – жидкость, лишенную всякого влияния на газообмен. Раствор действовал так же, как и тироксин, – он повысил газообмен на несколько дней. И волнообразный характер подъема и медленный спад напоминали кривую газообмена при впрыскивании тироксина. Снова и снова собаке вводили соляной раствор, и ответы организма были такими, как если бы вводили тироксин. Что же способствовало этому? Оказывается, что сама обстановка опыта, приготовление к нему и укол стали условными раздражителями и образовали в коре мозга временную связь. Мгновенное воздействие условных возбудителей перестраивало деятельность организма на много дней.
– Я думаю, Константин Михайлович, – уверенно заметила ассистентка профессору, – что мы сумели на животном воспроизвести то же, что наблюдали у рабочих: у тех и других обстановка внешней среды надолго повышает газообмен.
Ученый помедлил с ответом.
– Сходство, к сожалению, неполное. Разве длительное повышение газообмена у рабочих достигалось уколом?
– Но ведь это физиологический раствор, – возражала она, – он не способен ни усиливать, ни ослаблять дыхание наших тканей.
– Конечно, – согласился ученый, – но мы тогда лишь вправе проводить физиологические параллели, когда причины и следствия в лаборатории и на заводе во всех своих частях совпадают.
Этим был намечен ход дальнейшей работы.
– Что же вы мне посоветуете? – спросила девушка.
На этот раз Быков не торопился с ответом, он знал, что она управится и без него.
– Почему вы молчите? – сердилась ассистентка. – Так ли уж трудно ответить?
– Нетрудно, – поспешил он разуверить ее, – но, перед тем как ответить, иной раз хочется немного подумать.
Остальное досказала его улыбка. Это значило, что дальнейшее ей придется разработать самой. Он не станет ни связывать ее инициативу, ни искать за нее решение.
В новые опыты было внесено небольшое изменение. Каждый раз, когда собаке вводили под кожу тироксин, завешивались окна лаборатории и зажигался электрический свет. На пятом сочетании одно лишь затемнение помещения и поворот выключателя оказывали такое же влияние на организм, как и впрыскивание препарата щитовидной железы.
Так в опытных условиях лаборатории были изучены закономерности тех временных связей, которые в течение недели держат приподнятым газообмену человека, сохраняют в творческой готовности горение в его клетках…








