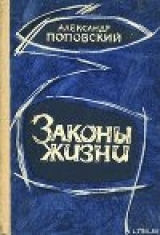
Текст книги "Пути, которые мы избираем"
Автор книги: Александр Поповский
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
Задача Павлова
Вскоре Быков сообщил аспиранту, что Павлов заинтересовался проведенными опытами и просит сделать ему доклад.
Это глубоко взволновало молодого физиолога.
– Не пригласить ли Ивана Петровича в нашу клинику? – предложил Курцин. – На больных все выглядит эффектней.
Быков улыбнулся. Аспирант не знал Павлова, его суровую строгость к себе и другим, нелюбовь к внешним эффектам.
– Будьте готовы к любым неожиданностям. Иван Петрович может засыпать вас вопросами, не дать вам ни минуты для размышления… Докладывать буду я, захватите с собою материалы.
Павлов принял их у себя дома, тепло поздоровался с Горшковым и Быковым, познакомился с аспирантом и стал усаживать гостей:
– Садитесь, пожалуйста. Прошу вас располагаться.
Тех, кто медлил, он насильно усаживал:
– Прошу без церемоний, будьте как дома.
После короткого разговора на общие темы приступили к делу. Павлов слушал доклад с напряженным вниманием, обнаруживая свое нетерпение короткими замечаниями: «Ага… Да, да… Ну-с! Ну-с!.. Понимаю…» Он с интересом просмотрел протоколы и, видимо вспомнив свои расхождения с Горшковым, кивнул головой в сторону Курцина:
– Вашу точку зрения отстаивает. Крепкого сторонника нашли… Не скрою от вас, Михаил Алексеевич, и мне приходилось с этим встречаться. На случайное раздражение вдруг железы сок выделяют. Я объяснял это не механическим воздействием, а чем-то другим, более сложным. То ли вид служителя, который кормит собаку, то ли запах пищи вмешался… Целиком или частично, а без временных связей не обошлось.
Прощаясь, Павлов снова повторил:
– Станете искать, обязательно набредете на временные связи. Предупреждаю, работы будет много.
– Вы знаете историю «проблематичной земли Визе»? – спросил Быков аспиранта на следующий день.
Курцин был не слишком искушен в географии, и вопрос заставил его задуматься.
– Так назывался остров, – сказал ученый, – открытый профессором Визе за письменным столом, вроде того как Иван Петрович только что набрел на мысль, которую он нам изложил. Так вот, профессор Визе, изучая дрейф одного из полярных кораблей, обратил внимание на то, что в одном месте морское течение, резко отклоняясь от неизвестного препятствия, относило судно в сторону. Предполагая на этом месте остров или отмель, географы пунктиром отметили воображаемую землю на карте, а полярники стали ее искать. В 1930 году остров был открыт именно там, где его пунктиром наметили… От нас, Иван Терентьевич, зависит, чтобы предвосхищение Ивана Петровича также утвердилось как подлинное открытие в науке.
Так возникла задача: искать в деятельности желез влияние временных связей, отделять врожденное от приобретенного – безусловное от условного.
Как ни велик был авторитет Павлова, предложенная им тема не слишком обрадовала аспиранта. Ему казалось, что она не столь уж важна для медицины. Исследование потребует много месяцев, а возможно, и лет, часть опытов придется вести на собаках, в условиях лаборатории. Опять его отвлекают от собственного дела, которое привело его сюда. Сегодня одна серьезная задача, завтра – другая. Когда же он наконец станет опытным врачом?
Когда Быков спросил помощника: «Вы поняли, чего ждет от вас Иван Петрович?» – аспирант почувствовал, что от задания ему не уйти.
– Понял, Константин Михайлович, – безразлично ответил он, – сделаю все, что смогу.
Работы действительно было много. Предстояло изучить механизм сокоотделения, узнать, контролирует ли нервная система деятельность желез целиком. И только тогда можно было бы сказать, зависят ли их функции от влияния временных связей.
Как аспирант ни избегал лабораторного эксперимента, как ни ухитрялся находить испытуемых в клинике, на этот раз ему пришлось уступить – оперировать собаку и вести на ней наблюдения.
На заре своей творческой жизни Павлов проделал следующий опыт. Он оперативным путем разделил желудок животного на две неравные части. В большей шло нормальное пищеварение, а в меньшей, куда пища не проникала, отражались все процессы, происходившие рядом. Нервные связи между ними были сохранены, и сокоотделение, возникшее в одной части, продолжалось в другой. С помощью этого живого прибора ассистент задумал выполнить заданный Павловым урок.
«Обе части желудка, – рассудил Курцин, – как бы дополняют друг друга и в то же время раздельны. Вообразим, что мы большую половину наполнили воздухом, создали в нем состояние мнимого пищеварения. Что произойдет в меньшей половине? Допустим, что сокоотделение, вызванное баллоном в большей части желудка, автоматически продолжится в меньшей, – не будет ли это означать, что механизм передачи целиком нервный?»
Задуманный опыт оказался удачным, но удача, увы, не принесла с собой удовлетворение, ее омрачили сомнения.
Можно ли на основании этого опыта утверждать, что именно нервная система регулирует железы желудка полностью? Разве к маленькому желудочку не подходят кровеносные сосуды? Кто поручится, что в них не растворен какой-нибудь возбудитель, который довершает действие нервного импульса? Быков спросит его: «Вы твердо уверены в том, что увидели? Пытались ли вы опровергнуть себя? Павлов говорил: «Только тот может сказать, что он жизнь изучил, кто нарушенный ход ее сумел вернуть к норме». На вашем месте, Иван Терентьевич, я трижды проверил бы себя, а где есть возможность, восстановил бы то, что недавно нарушил».
А что он скажет врачам? Пожмет плечами и промолчит или сошлется на то, что все наши знания условны? Нет, там, где решаются судьбы людей, не может быть места гаданию. За дело надо взяться серьезно, с сознанием ответственности и долга. Никто не обязывает его спешить…
Из двух возможных вариантов он выберет менее вероятный: нервная передача подменяется где-то химической. В таком случае маленький желудочек, если лишить его нервных связей с большей частью, где идет пищеварение, должен все же выделять сок. Химические вещества, принесенные кровью, довершат то, чего не доделали нервы. Такая ситуация вполне возможна, а раз так, ее надо проверить.
Аспирант перерезает ветвь блуждающего нерва, который связывает обе части желудка, и лишает меньшую половину регулятора. Теперь раздражение, вызванное баллоном, застрянет у разрушенных нервных путей и приведет к отделению сока лишь в одной половине. Случись иначе, было бы ясно, что, помимо нервов, на железы действуют также и химические вещества.
Это предположение не оправдалось: из фистулы изолированного желудочка не выделялось ни капли сока. Можно было с чистым сердцем признать, что без участия нервов железы не возбуждаются и никакие другие вещества эту функцию не восполняют. Едва Курцин с этим согласился, у него возникли новые сомнения. Надо ли удивляться, ведь он был прежде всего врачом и не мог себе позволить легкомысленное решение. Ведь от этого зависело не только правильное понимание физиологической функции, но и как лечить возникшие страдания.
«Мы убедились, – подытожил Курцин, – что маленький желудочек, отрезанный от влияний блуждающего нерва, не выделяет сока, даже если в большом его очень много. Но где гарантия, что все пути химического воздействия проверены? Так, в привратнике желудка – этом страже, охраняющем выход пищи из желудка в кишечник, – выделяется во время пищеварения химическое вещество, которое с током крови возвращается в желудок, чтобы новым раздражением побуждать железы не ослаблять уже развивающееся сокоотделение. Очень возможно, что эти выделения привратника каким-то образом подменяют собой нервный импульс. Правда, эти вещества появляются лишь во второй стадии пищеварения, когда железы успели полностью себя проявить, – но и эти сомнения надо бы отсеять…»
Только организм, лишенный привратника, а следовательно, его выделений, ответит ему, подменяют ли химические вещества, принесенные током крови, нервную передачу, или линия эта непрерывна. Для большей достоверности он исследования на собаках оставит и продолжит их на человеке.
На этом опыты в лаборатории окончились. Курцин решил начать работать в хирургической клинике с твердым намерением найти там больного, лишенного привратника, и с его помощью решить задание Павлова.
Печальные размышления исследователя
В жизни Куртина наступили перемены. Внешне как будто ничего не произошло. По-прежнему энергично продолжал он свои опыты, по-прежнему его часто встречали в многочисленных клиниках и институтах Ленинграда – то в поисках больных, то среди присутствующих на конференциях, собраниях или в консилиумах. Никто бы не мог его в чем-либо упрекнуть, кроме него самого.
Он приехал сюда издалека, оставив город и родных, товарищей и друзей в Ростове, с единственной целью стать подлинным врачом, не быть вынужденным, как другие, складывать руки перед обреченным больным. Вера в успех ни на минуту не покидала его. «Будешь верить в свое дело, – запомнил он напутствие своего дяди-профессора, – не только доктором или академиком – любимцем народа станешь. Нет большей чести для человека». Еще запомнились слова Пирогова: «Ищите вдохновения… без вдохновения нет воли, без воли нет борьбы, а без борьбы – ничтожество и смерть…»
Шли годы. В лаборатории и в клинике все шло хорошо, всего было вдоволь: и творческих удовольствий и вдохновения. Каждый опыт приносил новые радости, но незаметно зато исчезали прежние. Все меньше оставалось места для всего того, что делало его некогда счастливым. Исчезали милые привычки, согревавшие его в детстве, склонности и увлечения юности; все реже его тянуло из лаборатории к морю, к Неве, в березовую рощу за городом, так напоминающую перелески у родного села.
Мысль о передышке вызывала у него тысячи возражений: «Нет, нет, не сейчас, не сегодня и не завтра. Разумные люди не бросаются навстречу первому проблеску солнца или журчанию ручейка». Сила этих запретов все росла, и все трудней становилось распоряжаться собой, поступать так, как прежде бывало.
Случалось, но все реже и реже, что замкнутый круг размыкался, внутренние запреты слабели. Звучание ли ручейков становилось чрезмерным или солнечные блики слишком густо ложились на мрачные стены лаборатории, – Курцин вдруг оставлял рабочую комнату и стремительно уходил. Он спешил на ипподром, на спортивную площадку, на стадион, как спешат на свидание к старым, но все еще милым друзьям. Проходил день-другой – и беглец возвращался, чтобы вновь погрузиться в любимый повседневный труд.
Хирурги, вырезая язву желудка, нередко вынуждены удалять пораженный болезнью привратник. Организм обходится без стража, охраняющего выход пищи в кишечник, как обходится подчас без части кишечника, без селезенки и желудка. В распоряжении Курцина было трое больных, все необходимое для дальнейших исканий и ни малейшего представления о том, как и с чего начинать. У испытуемых нет ни желудочной фистулы, нет отверстия в глотательном горле, как вводить им баллон, как наблюдать отделение сока.
Многих физиологов это вынудило бы вернуться в лабораторию и продолжить опыты на животном. Курцин не мог на это пойти. Искренне убежденный, что лабораторные исследования бесплодны и не стоят одного наблюдения на больном, он предпочел изменить метод работы, приспособить его к человеку. Люди стоят того, чтобы ради них потрудиться, пораскинуть умом. Есть же упрямцы, готовые верному делу предпочесть сомнительный успех, пожертвовать всем, лишь бы не рискнуть испытанной методикой. У больных нет фистулы – и прекрасно: почему бы не вводить им баллончик через рот и полым зондом откачивать накопившийся сок? Проглотить эти предметы не представляет для больного труда, а в остальном результаты будут те же.
Все трое больных, лишенные привратника, проглотили резиновый баллон, и, когда струя воздуха раздвинула стенки желудка, организм вновь подтвердил, что нервная система целиком сохраняет контроль над железами: из полого зонда побежал сок. У испытуемых нет привратника, значит, нет и веществ, действующих на железы через кровь. Самый строгий судья ничего больше не спросит с него. Может быть, только еще раз повторить… Тут начинаются новые сомнения – законные подозрения ученого. Где, например, гарантия, что какие-нибудь другие неизвестные нам гормоны не восполняют деятельность нервов? Мы не можем их назвать, но никто нас не уверит, что веществ этих нет. Если бы у организма, лишенного привратника, был также рассечен и блуждающий нерв, сомнениям, пожалуй, пришел бы конец. У такого больного раздраженные железы бездействуют. Случись, что у него все-таки отделялся бы желудочный сок, пришлось бы признать, что деятельность нервов все-таки подменяется чем-то вроде гормонов.
«Где бы найти человека без привратника и с перерезанным блуждающим нервом?» – мечтал ассистент. Ему приходилось уже однажды с помощью атропина лишать нерв проводимости, этим как бы рассекать его. Теперь он искал больного с рассеченным нервом – настоящую лабораторную модель.
В ту пору ассистент, ищущий в частях законы целого, изучающий на человеке то, что принято познавать на животном, напоминал собой художника и скульптора Микеланджело. Придавая трупам различные положения, исследуя части тела, рассеченные его рукой, знаменитый ваятель изучал размеры и пропорции, постигая в мертвом теле то, что познается в живой натуре.
Своей удачей Курцин был обязан непозволительной ошибке американца Дрехштедта, автора неудачного метода лечения язвы желудка. Полагая, что эта болезнь поддерживается разъедающим действием сока желез, он предлагал рассекать блуждающий нерв, регулирующий сокоотделение. Избавленные от действия кислот, язвы должны были постепенно исчезнуть. Несмотря на то что операция лишала организм основного средства пищеварения – желудочного сока – и наносила больному жестокий удар, зарубежные хирурги, а отчасти и наши эту операцию применяли.
Больные, лишенные привратника и оперированные по методу Дрехштедта, помогли Курцину завершить первую часть гадания. Железы желудка у этих испытуемых не откликались на раздражения баллоном, ничто не побуждало их отделять сок, когда деятельность нервов исключалась.
Аспирант приступил ко второй части задания: выяснить, в какой мере кора головного мозга – вместилище временных связей – способна связывать эти железы с тем, что происходит во внешнем мире.
Надо прямо сказать: Курцин подошел к новым опытам с предвзятым решением. С некоторых пор, увлеченный временными связями, он был уверен, что все в организме зависит от состояния больших полушарий; и течение болезни определяется именно там. И еще верил он, что предстоящие исследования окажут великую услугу больному и врачу.
Как всегда в начале работы, два голоса дали знать о себе, оба принадлежали аспиранту.
«Опыты надо ставить на больном человеке, – настойчиво твердил один, – нельзя отступать от раз принятого порядка. В науке компромиссы нетерпимы».
«Может быть, допустить исключение? – неуверенно возражал другой. – Временные связи проще вырабатывать на животных. Кто знает, какие еще потребуются операции. Удастся ли в клинике найти таких больных?…»
«Обходились же мы без собак до сих пор, – не уступал клиницист физиологу, – какие основания отказываться от прежнего метода работы?»
В круг сомнения вплетались неожиданные соображения.
«Быков не согласится, – настаивал физиолог, – обязательно спросит: «Почему вы пренебрегли практикой павловской школы и опыты с временными связями, не проверив в лаборатории, перенесли в клинику?»
На это у аспиранта готов ответ:
«Человеческий организм, говорили вы, Константин Михайлович, представляет нередко более удобный и скорый, ведущий к цели объект, чем организм животного. Во многих случаях он представляет собой исключительный объект, который не может быть заменен никаким животным…»
Курцин решил действовать в зависимости от обстоятельств.
Итак, покорен ли желудок и его железы коре головного мозга?
Вопрос этот имеет полувековую историю. Движения желудка под влиянием психической причины впервые наблюдали с помощью рентгена. Сокращения усиливались, когда животное находилось в состоянии покоя, и прекращались в минуты возбуждения. «Хотя воля, – писалось по этому поводу, – не может контролировать мышечную деятельность желудка, она порой достигает этого косвенным путем».
То, что исследователям казалось исключением, результатом действия окольным путем, Быков обосновал как закономерность. Он доказал, что между корой головного мозга, где формируется воля, и желудком существует интимная связь. От того, будут ли собаке вливать теплый бульон в желудок или в двенадцатиперстную кишку, зависит характер сигналов, которые придут в полушария, и самый ответ на них коры. Бульон, введенный в желудок, ослабит временные связи, а в кишечнике, наоборот, укрепит их. Умению пользоваться математическим анализом мы обязаны временным связям, закрепившимся в коре головного мозга. Однако на сытый желудок, как известно, расчеты даются с трудом и не всегда точны. Пройдет час-другой, пища проследует в двенадцатиперстную кишку, и знаний словно прибавится.
Курцину предстояло продолжить то, что так удачно начал Быков, – доказать, что и железы, как и мышцы желудка, покорны коре головного мозга. От больших полушарий зависит, усилить или ослабить сокоотделение или даже вовсе его затормозить.
Средством лабораторного исследования избрали мнимое кормление – чудесный инструмент физиологии, созданный Павловым.
У собаки с фистулой желудка и перерезанным пищеводом связывали в мозгу появление пищи в кормушке со стуком метронома, светом лампы или звонком. Эти сигналы вызывали у животного слюноотделение. Съеденная пища выпадала из отверстия на шее, но ее собирали и вводили в желудок. Мнимое кормление становилось подлинным и укрепляло силу условных раздражителей.
Однажды экспериментатор накормил животное, но пищу в желудок не ввел. Собака осталась голодной, и надо было ожидать, что временные связи, как обычно при пустом желудке, полностью проявят себя. Случилось иначе: мнимо накормленный организм повел себя, как насытившийся; условные сигналы метронома и колокольчика частично утратили свое влияние. Уже одно жевание пищи вызвало такие же изменения в высших нервных центрах, как само насыщение. Шесть часов длилось это состояние: пятнадцать минут мнимой еды насытили животное надолго.
Итак, между верхним отделом пищеварительного тракта – полостью рта, с одной стороны, и корой головного мозга – с другой – существует теснейшая связь. Таковы ли эти отношения и с нижним отделом – желудком?
Результаты наблюдений оказались удивительными.
Оперированным собакам вводили в желудок резиновый баллон, нагнетали его воздухом и таким образом проверяли стойкость временных связей. Повторилось то же, что и в опыте с мнимым кормлением: искусственно наполненный желудок, как и естественно насыщенный, задерживал проявления временных связей. Достаточно было, однако, воздух из баллона удалить, и условные связи восстанавливались.
И верхний и нижний отделы пищеварительного тракта, проверенные в отдельности, подтвердили, что они подконтрольны органу, формирующему наше сознание. Оставалось выяснить влияние пищеварительного тракта в целом на устойчивость временных связей.
Мнимая трапеза и мнимо насыщенный желудок, проведенные одновременно, настроили собаку на благодушный лад. Она стала ласковой и повеселела. Условные раздражители полностью утратили свое влияние на нее. Кажущаяся сытость ослабила деятельность высших нервных центров. Так продолжалось, пока баллон оставался раздутым, но, едва из него удаляли воздух, тормозящие импульсы из желудка в кору мозга исчезали и временные связи восстанавливались.
Несмотря на удачу, снова столкнулись клиницист и физиолог, и снова аспиранту пришлось водворять внутри себя мир. Случилось это после одной из бесед с Быковым.
– У меня возникли затруднения, – признался Курцин. – Не знаю, право, как мне с ними управиться.
Ученый посочувствовал, но ничего не сказал. Он любил всякого рода тупики и препятствия в исследовательской работе и с интересом ждал сообщения помощника.
– Мы знаем, – продолжал аспирант, – что сокоотделение – свойство врожденное. Известно также, что деятельность желез регулируется корой, но где границы между наследственными и приобретенными регуляциями и как они сочетаются?
– А зачем это вам? – спросил Быков.
Курцин замялся, об этом он охотнее бы промолчал.
– Врачи спросят нас: как определить расстройство, возникшее в результате неполноценности желез, и болезнь, связанную с торможением нервных регуляторов?
– Вы уверены, что механизмов сокоотделения два? – заинтересовался Быков.
– Мне кажется, что так, – смущенно подтвердил помощник.
Ученый усмехнулся от удовольствия. И лабораторные работы и наблюдения над больными давно подсказывали, что железы желудка регулируются двояко. Теперь, когда Курцин об этом заговорил, догадка показалась ему более чем вероятной.
– Попробуйте раздражать железы желудка, когда кора мозга угнетена и, следовательно, временные связи бездействуют. Исключив один механизм, вы полнее измерите силу другого.
Какой чудесный совет! До чего остроумный и простой! Наконец-то он, Курцин, вернется к своим испытуемым и лабораторным опытам наступит конец. Нет, какая прекрасная мысль! Ученый как бы угадал его затаенное желание. Опыт несомненно будет успешным!
Несколько добровольцев согласились подвергнуть себя испытанию, помочь исследователю в его трудных исканиях. Они терпеливо научились проглатывать баллон, постепенно нагнетаемый воздухом, и дали, таким образом, измерить количество выделяемого ими в норме желудочного сока. Однажды ночью, когда испытуемые, проглотив баллоны, уснули, аспирант, склонившись над спящим, стал откачивать через трубку сок. Количество его на этот раз было ничтожно. Сказалось угнетенное состояние коры головного мозга, а следовательно, и слабость временных связей. Врожденные свойства у бодрствующих и во сне значительно уступали приобретенным. Наибольшая сила раздражения принадлежала импульсам, идущим из высшего нервного центра – коры головного мозга.
Павлов не ошибался, полагая, что железы не свободны от влияния условных рефлексов. Опыты на щенках подтвердили, что в первый месяц их жизни никакие механические раздражения желудка не способны вызвать у них сокоотделение. Не образуются в эту пору у них и временные связи на пищу. У детей они возникают лишь в два с половиной года и до семилетнего возраста продолжают быть неустойчивыми. Господство коры больших полушарий утверждается по мере созревания и совершенствования организма.
Врожденное и приобретенное было обосновано и разграничено.
Судьбе было угодно, чтобы Быков и его ассистент довершили и другое открытие Павлова, оказали медицине неоценимую услугу.
Много лет назад великий физиолог облагодетельствовал человечество, разработав способ добывания чистого желудочного сока у собак. Люди, лишенные собственного желудочного сока, нашли в новом препарате избавление от тяжелых страданий.
Со временем, однако, выяснилось, что новое средство не совсем полноценно. В нем нет свойственных лишь желудочному соку человека гормонов, оберегающих организм от малокровия. Некоторые больные после удаления желудка или части его в связи с этим заболевают.
Все попытки клиницистов получить в чистом виде желудочный сок человека ни к чему не приводили. Уверенные в том, что механическим раздражением нельзя добиться отделения сока, врачи извлекали его лишь после так называемого завтрака. Смешанный, однако, с пищей, он для лечебных целей не годился.
Два резиновых зонда и баллончик сделали невозможное возможным. В руках экспериментатора оказалось средство не только возбуждать железы для определения их качества, но и собирать сок для страдающих недостатком собственного.
Благодетельное начало, положенное Павловым, было завершено в лаборатории Быкова. Вместо неполноценного секрета желез собаки клиника получила натуральный – человеческий сок.








