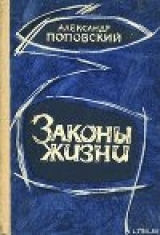
Текст книги "Пути, которые мы избираем"
Автор книги: Александр Поповский
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
Суточный ритм
Из всего, что Быков преподал помощнику, особенно запомнилась Слониму последняя фраза: «Надеюсь, вы оцените прекрасные работы Щербаковой и на этом не остановитесь, займетесь ритмикой – и суточной и сезонной». Сейчас, когда опыты над летучими мышами обнаружили, как неодинакова теплота тела животного в различное время суток, ассистент не мог уже исследовать теплообмен без учета колебаний, которым этот обмен время от времени подвержен. Именно теперь работы Щербаковой приобретали особое значение.
Ольга Павловна и сама за эти годы многому научилась и в своих изысканиях ушла далеко. Избрав суточную ритмику предметом исследования, она уже не расставалась с ней. Изучая животных, их жизненный ритм, она думала о том, как важны ее опыты именно сейчас, когда миллионы новых рабочих приходят на заводы из деревни, из школы и надо приучать их к труду. Стремительно множатся промышленные предприятия, и ее помощь еще долго будет нужна. Суточная периодика – сложная штука, чего только не заключает она: смену активности и покоя, труда и отдыха, приема пищи и голодания, сна и бодрствования, колебания температуры тела, кровяного давления и перемены в биохимических системах. Как не просчитаться и не оплошать?
Щербакова родилась и выросла на заводском дворе у Невской заставы и помнит, как отец ее, старый инженер, жалуясь на плохую постановку работы, мечтал о том времени, когда ученые со своими знаниями придут наконец на завод. Не случайно она избрала физиологию труда, не случайно оказалась помощницей Быкова на «Красном треугольнике» в годы, когда вводился поточный метод работ. Константин Михайлович поныне доволен тем, что она не рассталась с периодической ритмикой, продолжает некогда начатое им дело.
Пятнадцать видов животных исследовала Щербакова и у каждого нашла свои колебания тепла, свой обмен веществ в различное время суток. Изменив образ жизни обезьяны, она создавала условия, при которых эта ритмика перестраивалась. Двигательная активность животных, проявляющаяся обычно днем, переместилась на ночь. Уровень дыхания и температура тела и прочие состояния ночного ритма стали дневными. Все это было достигнуто необыкновенно скромными средствами – переменами в условиях внешней среды. Подобно Слониму, Щербакова была убеждена, что природа, диктующая животному определенный образ жизни, располагает всем необходимым, чтобы этот порядок изменить. Нет нужды прибегать к замысловатым приемам, надо находить их в естественном окружении организма. Следуя этому правилу, она выкроила из одних суток двое и понудила обезьян перестроить жизненный ритм на иной лад.
Начиналось с незначительных перемен. Помещение, в котором находились обезьяны, стали освещать с семи часов утра до часа дня, а затем с семи часов вечера до часа ночи. Соответственно изменили и время кормления. На это внешнее вмешательство организм ответил целым рядом внутренних изменений. В продолжение суток животные стали дважды засыпать и пробуждаться, перестроилось кровообращение, дыхание и другие отправления. Столь глубоки были физиологические перемены, что, после того как искусственное освещение заменили обычным, двигательная активность обезьян не сразу стала нормальной. Биохимические перемены держались еще до семи суток.
И до Щербаковой удавалось извращать суточный ритм у человека, однако никто не знал, какой орган регулирует эти чередования, какие причины их поддерживают: передаются ли они от родителей потомству и может ли внешняя среда оказывать влияние на ритмику. Некоторые ученые избегали искать в физиологии ответа и объясняли суточную и сезонную периодику влиянием космических сил, положением Земли в мировом пространстве…
Щербакова разрешила эти сомнения науки. Она доказала, что суточный ритм – явление земное, физиологическое и что во власти человека его изменить.
Какой же орган или система дает первый толчок к этим сложным изменениям в организме?
Щербакова не только ответила на это, но сделала всякое иное толкование невозможным. Именно глаз и возникающие в нем раздражения дают начало формированию и изменениям в суточном ритме. Ведь только со сменой освещения и ни с чем другим связывались перемены у обезьян. В борьбе за существование и добывание пищи именно глаза несут наибольшую ответственность. И растительный покров, который надо разглядеть, чтобы найти в нем питание, и близость врага, которого необходимо обнаружить вовремя, – вся эта деятельность главным образом осуществляется глазами.
Жизненный ритм, заключила Щербакова, определяется средой, в которой животное отстаивает свое существование. Природа понуждает организм не только изменять обмен веществ, чтобы приспособиться к внешней температуре, но и перестраивать свой образ жизни: засыпать и просыпаться, есть и размножаться в соответствии с условиями добывания пищи…
Слоним воздал должное работам жены, одобрил их научно-материалистическую основу, но вместе с тем разглядел в них значительный изъян.
– Работу нельзя считать завершенной, – сказал он ей однажды, – исследование застряло на полпути.
Ольга Павловна в это время рассматривала диаграмму, на которой причудливые линии рассказывали о чем-то весьма сокровенном, занимавшем ее.
– Было бы очень нескромно с моей стороны, – пожимая плечами, произнесла она, – даже мысленно допустить, что я в силах завершить какую бы то ни было проблему…
Рука ее потянулась к диаграмме и заодно захватила объемистую книжку на краю стола.
– Пусть зрительный аппарат зачинает формирование ритмики, – продолжал Слоним, безразличный к тому, что, увлеченная чтением, Щербакова не слушает его, – но раздражения в сетчатке глаза должны куда-нибудь адресоваться.
Она догадывалась, о чем будет речь, знала, что Слоним не успокоится, пока не заставит ее с ним согласиться, знала и многое другое, но не спешила ему уступить.
– Обязательно адресуются, – с внушительной мягкостью ответила она: – раздражения внешнего мира из глаза следуют в мозг…
Этот ответ, скорее уместный для студентки первого курса, чем для научного сотрудника, имел своей целью выиграть время. Она готовила ответ и искала его на страницах книги. Он привык к упрямству жены и не сомневался, что благоразумие возьмет у нее верх.
– Раздражения из глаза следуют в кору головного мозга, – поправил он ее, – который и регулирует суточный ритм у обезьян… Только такой и возможен ответ.
Удивительно, до чего этот человек переменился! Некогда безразличный к временным связям, он так уверовался в них, что считал всякое исследование лишь тогда завершенным, когда в нем доказан контроль коры больших полушарий.
– В науке ничего категорического нет…
Она нашла наконец то, что искала, и была готова ответить ему.
– Нет и ничего завершенного, – с удовлетворением продолжала Ольга Павловна. – Возьмем для примера Ньютона. Его научные идеи, казалось бы, бесспорны, а появись этот ученый сейчас среди нас, он почувствовал бы себя неважно… Что значит его учение о свете без того, что стало известно потом? Ни о сущңости световой энергии, ни о том, что свет есть лишь форма электрических явлений, знаменитый математик не знал.
Она заглянула в книгу и продолжала:
– Если бы ему показали обычную фотографию и спросили, знает ли он что-нибудь о действии света на некоторые соли металлов, вряд ли наш физик сообразил бы, что на этом основана современная фотография.
Снова наступила короткая пауза, и возражения с той же методичностью продолжались.
– Какое легкомыслие не доводить свои труды, до конца… – с серьезным видом продолжала Щербакова. – Ньютон, исследовавший действие призмы на световой луч, – один из косвенных изобретателей спектроскопа. Мы этим прибором изучаем Солнце, скорость движения отдаленных звезд, открываем новые элементы материи, а что об этом знал Ньютон? Воображаю его удивление, если бы ему показали наш барометр, измеряющий теплоту горящей свечи на расстоянии километра… Трудно, очень трудно довести научное открытие до полного его завершения.
Точно не было ее длинной тирады и насмешливой улыбки, ассистент спокойно сказал:
– Я сразу же подумал о временных связях, когда опыты помогли из одних суток выкроить двое. Между кормлением, зажиганием и гашением света, с одной стороны, и течением времени, которое отсчитывается в нервной системе, – с другой, возникла прочная связь. Приближение известного часа вызывало в одном случае готовность принимать пищу, а в другом – торможение коры головного мозга и наступление сна. Органы как бы отсчитывали время, и каждый по своим часам…
Теперь, когда сотрудница воспользовалась своей привилегией поспорить, ей оставалось лишь уступить. Он знал, что так кончится, был уверен, что она его поймет.
Закономерность, установленную на обезьянах, Слоним поспешил проверить на человеке. Если верно, что кора головного мозга действительно регулирует суточный ритм организма, работы Щербаковой должны получить применение в гигиене и в клинике. Результаты тем более обещают быть интересными, что наблюдения над людьми будут проведены вне лаборатории, в естественной среде, там, где жизненные условия эти связи образовали и закрепили.
Суточная периодика задолго приковала к себе внимание Слонима. Нерешенный вопрос о том, почему грызуны не образуют временных связей с температурой внешней среды, приведший его в пещеру к летучим мышам, был снова отодвинут. Предстояло обосновать замечательные исследования помощницы, и ничто уже этому не могло помешать.
Слоним недооценил силу собственного влечения к физиологии труда. Напрасно он утверждал, что полностью себя исчерпал и готов от нее «бежать на Камчатку». Опыты на площадке товарного поезда и в холодильных камерах были исследованиями физиологии труда. Могло ли быть иначе? Нельзя исключить человека из природы, как нельзя из общественных отношений исключить его труд…
Первые наблюдения проводились на железной дороге в Ленинграде, в помещении диспетчера Московского и Витебского вокзалов. Испытуемые много лет несли ночные дежурства, и можно было полагать, что суточный ритм у них извратился. Исследования велись очень долго и без результатов, никаких отклонений в суточной периодике не оказалось. Зато наблюдалось странное явление: в часы приема и сдачи дежурств температура тела у принимающего и сдающего свои обязанности была различна. Происходила ли смена глубокой ночью или поутру, температура тела того, кто оставлял работу, была ниже и пульс более медленный, чем у того, кто к ней приступал.
Повторение одной и той же ситуации в продолжение многих лет привело к тому, что сдача дежурства стала сигналом предстоящего отдыха. Организм, как бы почувствовав, что все трудности позади, нет надобности больше напрягаться, вопреки требованию суточного ритма снижает температуру тела. Только кора головного мозга могла подобную зависимость установить.
Результаты этих опытов все же не удовлетворили ассистента. Они не дали ему увидеть извращение ритма, как наблюдала его Щербакова. Он не сомневался, что периодические смены бодрствования и покоя, колебания температуры и биохимические изменения действительно регулируются высшим отделом головного мозга, мог и сам привести множество фактов, но где доказательства, полученные в физиологическом опыте?
Бывают у исследователя минуты прозрения, мгновения, исполненные пророческой силы. Ассистент не только допустил, что суточный ритм регулируется корой головного мозга, но и поверил, что малейшее ослабление контроля должно приводить к извращению ритма.
Убедило его в этом следующее.
В ночные часы, когда возбудимость коры слабеет и влияние ее становится недостаточным, организм претерпевает серьезные изменения. Так, все попытки выработать ночью временные связи у обезьян ни к чему не приводят.
Некоторые животные утрачивают способность сопротивляться во время сна. Сонную обезьяну можно без опасения брать в руки. В лаборатории как-то даже случилось, что крысы отъели у спящего гамадрила хвост.
Сонное состояние, предшествующее замерзанию, ускоряет гибель захваченных холодом людей и животных. Упадок! деятельности коры больших полушарий – этого важного регулятора тепла – лишает в таких случаях организм защиты. В зимних походах, особенно в Заполярье, обморожения главным образом наблюдаются ночью. Отсутствие света, обычно возбуждающего деятельность коры, приводит к тому, что организм скорее остывает. Было подсчитано, что в ночных сменах на заводах увечья более часты, чем днем. С наступлением ночи повышается температура больных, и весьма вероятно, что высокая смертность в ночные часы связана с падением активности коры, ослаблением ее способности направлять деятельность теплорегулирующего центра…
Само собой разумеется, рассудил Слоним, что в ночные часы должна также страдать и суточная ритмика. Если создать в эту пору дополнительные трудности для организма, контроль коры поколеблется. Перед исследователем предстанет не только извращенная ритмика, но и виновник извращения.
Подтвердить эту гипотезу призвали обитателей питомника: обезьяну, барсука и ежа.
Организм гамадрила снижает ночью теплоту своего тела на четыре градуса. Таков порядок вещей, одно из требований суточного ритма. Экспериментатор усложнил состояние животного, поместив его на ночь в камеру, нагретую до тридцати семи градусов. Справится ли заторможенная кора с трудной задачей, сбалансирует ли теплоту, как этого требует периодическая ритмика, снизит ли температуру тела на четыре градуса? Высший отдел мозга не сумел ночью исполнить свой долг: уровень тепла остался таким, как днем, высоким – суточный ритм извратился.
Другим подопытным был склонный к одиночеству ночной хищник барсук. Некоторые особенности его сезонной ритмики имели известные преимущества для исследователя.
За лето отъевшись и накопив много жиру, зверек обычно расходует эти запасы зимой. Его органы чувств не притупляются и во время спячки; сокращение сердца и дыхание не замедляются, не падает также теплота тела, как у сурков, сусликов, хомяков и ежей. Это свойство дремлющего зверька не остывать и сохранять свою обычную температуру позволило экспериментатору следить за ее колебаниями.
Полудремлющего барсука посадили в нагретую камеру. Организм зверька автоматически снизил обмен и теплоту тела. В холодном помещении произошло обратное – обмен веществ и образование тепла возросли. То же самое произошло бы и с бодрствующим зверьком. Но вот исследователь сажает полусонного барсука в теплую камеру, повторяет этот опыт двадцать с лишним раз, а затем охлаждает помещение. Организм бодрствующего зверька несомненно образовал бы временную связь и откликнулся на холод, как на тепло; у полусонного барсука происходило иначе: в тепле его обмен падал, а на холоде нарастал. Сезонное угнетение коры головного мозга приводило к тому же, что и суточное: временные связи не возникали.
Ежи из Сальских степей внесли свою лепту в искания Слонима. Они провели зиму да открытом балконе лаборатории в Сухуми и, вопреки своей природе, в спячку не впали. Они бодрствовали, когда полагалось, поджав голову к брюшку и свернувшись клубком, крепко спать. На этот раз ритмика была извращена не вмешательством экспериментатора, не угнетенным состоянием высшего отдела головного мозга, а чрезмерным его возбуждением.
Когда этих же зверьков надолго оставляли в прохладной камере, чтобы вызвать дремоту, предшествующую спячке, они цепенели от холода, словно осень застала их в Сальских степях. И в этом состоянии у них возникали временные связи. После многократного пребывания в холоде ежи впадали в дремоту и в жарко нагретой камере.
Таков был итог. Наблюдения над обезьянами, испытанными в ночном опыте, и над барсуками, впавшими в спячку, подтвердили, что сезонный и суточный ритмы приходят в упадок, когда кора мозга заторможена и деятельность недостаточна.
Едва ли возможны более веские доказательства, что именно этот орган контролирует все связанное с периодической ритмикой.
Два разговора
Весной 1940 года страна отмечала пятидесятилетие основания Всесоюзного института экспериментальной медицины, и Слоним с делегацией ученых выехал в столицу Киргизской республики. Во Фрунзе он сделал доклад о работах продолжателей Павлова, рассказал о своих исследованиях, и его пригласили занять кафедру физиологии в медицинском институте. Корпус будущей лаборатории был еще в лесах, столица Киргизии заново отстраивалась, намечался филиал Академии наук.
В июне Быков и его помощник встретились в Ленинграде, и между ними произошел серьезный разговор. Беседа, вначале деловая и спокойная, приняла неожиданно крутой оборот.
Случилось это вскоре после того, как Слониму была присвоена ученая степень доктора медицинских наук. Быков поздравил его с успешной защитой, выразил удовлетворение, что диссертация не вызвала особых возражений, и, по обыкновению, закончил следующим:
– Пора вам наконец обосноваться в Ленинграде и поработать с нами. В Сухумский питомник мы пошлем другого. Рекомендую вам проштудировать физиологию. Мне кажется, что вы недостаточно ее знаете.
На эти добрые пожелания, высказанные с подкупающей теплотой, помощник ответил благодарностью. Он так и поступит, засядет всерьез за этот важный предмет.
– Я намерен, Константин Михайлович, занять кафедру физиологии во Фрунзе… Меня приглашают туда профессором медицинского института.
Ученый внимательно оглядел собеседника и не без иронии спросил:
– Вам что, приглянулся этот город или на то есть иная причина?
– Я не должен упускать случая, – спокойно ответил ассистент, – кафедра мне крайне необходима. И город неплохой: близко пустыня, тут же хребет Киргизского Ала-Тау и разнообразнейший животный мир. Все под руками, как в лаборатории. Из Фрунзе, как вам известно, начал свои путешествия Пржевальский.
Быков решительно не понимал, как пустыни и горные хребты могут способствовать учению о временных связях. При чем тут фауна края и знаменитые путешествия Пржевальского?
– Кем вы, Абрам Данилович, все-таки собираетесь стать – биологом или физиологом? Удивительно, как легко вы теряете ориентацию!
Он будет физиологом и никем другим, но до чего этот Быков верен себе: он за стенами лаборатории решительно ничего не видит.
– В пустыне, Константин Михайлович, можно многое сделать…
– Еще бы, – усмехнулся Быков: – наловить скорпионов, ящериц, жуков – все отборный материал для коллекций.
Перечень обитателей пустыни грешил неполнотой, но эта ползающая братия не случайно пришла на память Быкову. Кто-то рассказал ему, как Слоним воспроизводит фрагменты пустыни в Ленинграде. В песчаной степи он соберет останки скорпионов, жуков и ящериц, рассеянных ветром по пескам, смонтирует барханы в ящике песка и расположит на них мертвых насекомых. Тем, кому это зрелище не понравится, он заметит, что такие вещи требуют воображения: там, в пустыне, это выглядит величественно, а здесь, в городе, – миниатюрно…
Слоним не забыл прекрасных дней, проведенных в Каракумах, редких растений и любопытных животных, рассеянных по песчаной степи, и в споре с учителем решил опереться на авторитет, которым тот пренебречь не сможет.
– Не я один, Константин Михайлович, держусь такого мнения – так думает и Щербакова.
На это последовал невозмутимо сдержанный ответ:
– Никуда я вас отсюда не пущу, будете работать в Ленинграде.
Надо же быть таким фантазером! К его услугам первоклассная лаборатория, а он тянется к пустыне, к отрогам Тянь-Шаня!
– Над своими решениями надо думать, – сердился ученый. – Учли вы, по крайней мере, что вас там ждет? Вдали от идей павловской школы, без творческой помощи вы далеко не уйдете, извольте нас потом догонять. Пора образумиться. В науке причуды не приводят к добру.
Напрасно ученый его отчитал, он вовсе не намеревался порывать с Ленинградом, Ученик понимал, что значит лишиться учителя, и предвидел эти трудности.
– Я прошу вас не считать, что мы с вами расстаемся надолго. Три-четыре тысячи километров не бог весть какая даль. Надо будет – я и пешком их одолею. Право, мне некуда от вас уходить. Мне кажется, что, втолковывая студентам физиологию, я сам ее лучше пойму.
Ученый знал своего помощника, его неодолимое влечение к природе и понял, что уговоры ни к чему не приведут.
– На кого вы оставляете лабораторию газообмена? Или вы еще не подумали об этом?
Вопрос был рассчитан на то, чтобы тронуть сердце ассистента. Лишь тот, кто ценой трудов и испытаний нашел своим склонностям творческий выход, кто после долгих и страстных испытаний обрел себе наставника-друга, поймет, с каким чувством Слоним оставлял Ленинград.
– Лабораторию газообмена в мое отсутствие придется поручить… – Он немного подумал и добавил: – Регине Павловне Ольнянской…
– Хорошо, я отпускаю вас на год. Будущей осенью мы вас ждем…
Ни осенью, ни два года спустя Слоним в Ленинград не вернулся. Наступила война, и лишь через три года ученый и его помощник встретились. За это время произошли два события: Быков заболел, и некоторое время его жизнь находилась в опасности, тяжко заболела и Щербакова. Врачи нашли. у нее туберкулез и предложили надолго оставить работу.
– А сколько я протяну, если буду по-прежнему трудиться? – совершенно серьезно спросила она.
Врач не мог сказать всю правду и продолжал настаивать на своем.
– Я постараюсь беречь себя, – спокойно решила эта отважная женщина и, отказавшись от всякого общения с людьми, заперлась на год писать свою работу.
В осажденном Ленинграде, где она оставалась после отъезда Слонима во Фрунзе, здоровье ее еще больше пошатнулось, и вскоре «маленького коменданта» Ольги Павловны Щербаковой не стало.
В 1942 году, в разгар войны, Быков пригласил своего бывшего помощника в Москву, и здесь между ними произошел второй разговор. Он затянулся на двое суток. Сотрудники ученого терялись в догадках, не зная, чему больше удивляться: долготерпению Быкова или неутомимости его ученика, Чем могли рассказы о шакалах и дикобразах, взятые, казалось, со страниц хрестоматии, пленить воображение Быкова?…
– Я сдержал свое слово, – начал Слоним свой длинный рассказ, – и во Фрунзе занялся физиологией. Проводил дни и ночи в операционной, фабриковал павловские желудочки, фистулы и всякого рода свищи. Я не рассчитывал пользоваться этой методикой, вам известны мои взгляды на лабораторные опыты, – мне просто не хватало искусства оперировать, а физиологу надо быть и хирургом. Я разделяю нелюбовь Павлова к разрушительному вмешательству ножа и всегда буду утверждать, что, устранив в опыте какой-нибудь орган, мы далеко еще не покончили с ним. Целая система, исторически сложившаяся, и множество рудиментов, иногда связанных с ней, долго еще будут давать о себе знать и мешать нашим расчетам.
Мне давно уже казалось, что я слишком задержался на терморегуляции. Ведь помимо обмена тепла между организмом и внешней средой происходит обмен кислорода, углекислоты, пищевых веществ и воды. Пусть уровень теплообмена зависит от образа жизни животного. А другие жизненные явления? Свободны ли они от влияния среды и от контроля коры головного мозга? Над этим, сказал я себе, надо подумать, стоит и потрудиться.
Мы судим об обмене веществ главным образом по количеству вдыхаемого кислорода и выдыхаемой углекислоты, другими словами – по головешкам большого пожарища. Самое горение в различных частях живого целого ускользает от нас. Это баланс без деталей, которые составляют его. Не учтены и силы, способствующие и задерживающие это горение. Какая великая сложность, и как мало мы ее понимаем! Кто-то сказал, что наши знания об обмене веществ напоминают собой представление о жизни населенного дома, составленное по одному лишь тому, какие продукты питания в него доставляют и сколько увозится мусора.
Вот уже скоро два века, как мы считаем, что обмен нарастает при мышечной работе, при падении температуры внешней среды и во время приема пищи. Эти правила не оспариваются и сегодня, хотя многое не согласуется с ними. Так, обмен у собаки, повышенный на холоде, не удвоится от того, что животное при этом накормят. Где-то в организме эти комбинации сочетаются. Одни дополняют друг друга, а другие, наоборот, исключают… Любопытно и такое наблюдение. Физическая работа усиливает газообмен, то есть горение вещества в организме. То же самое происходит под действием холода. Однако мышечный труд, выполненный на морозе, газообмен не увеличивает. В этом балансе, как видите, многое от нас ускользает.
Я решил приблизиться к истокам газообмена, заглянуть туда, где отдельные органы, взаимодействуя, ускоряют и ослабляют обмен веществ. Меня интересовали не головешки, а само пожарище, из чего оно складывается…
Быков слушал своего помощника с глубоким вниманием. Одиң только раз он чуть улыбнулся, хотел что-то заметить, но промолчал. Ученый открыл у молодого профессора новую черту – упрощать свои мысли, чтобы сделать их более доступными, так говорить о науке, словно его окружают студенты первых семестров.
– Для начала я заинтересовался, – продолжал Слоним, – как отражается деятельность такого важного органа, как желудок, на обмене веществ. Позже предполагалось проверить влияние желез и мышц. Опыты велись по правилам, предписанным классической физиологией, и, надо признаться, были крайне нелегки. Начали мы следующим образом.
Собаку научили лежать спокойно, пока исследуют, сколько она в покое поглощает кислорода и выделяет углекислоты.
Позже ее оперировали и выкроили маленький павловский желудочек. Животное содержалось на голодном пайке, и можно было наблюдать, как из фистулы периодически вытекает желудочный сок. Тут мы встретились с первой загадкой: животное при этом снижало потребление кислорода и отдачу углекислоты. Нас учили, что сокоотделение, возникающее в результате еды, усиливает газообмен, в наших же опытах происходило обратное: отделение сока его тормозило.
Было интересно узнать, кто в этой путанице повинен. Как поведет себя организм, если сокоотделение сочетать с кормлением? Снизится ли при этом потребление кислорода? Ведь каждый из этих процессов – отделение сока и еда – теоретически должен усиливать газообмен.
Чтобы проследить за отделением желудочного сока, не смешанного с пищей, желудок наполнили воздухом из резинового баллона. У собаки возникло. чувство насыщения, хотя она не получила ни крошки еды, и началось отделение сока. Два состояния утвердилось в организме: подлинное голодание и кажущаяся сытость. Нечто схожее с тем, что происходит, когда собаку содержат на голодном пайке, с той лишь разницей, что пустой желудок теперь был наполнен воздухом.
Следовало ожидать, что, как и в прежнем опыте, газообмен у животного упадет. Ничего похожего – потребление кислорода, наоборот, возросло. Нам нелегко было вначале это понять, и только позже мы разобрались. Ведь полнота желудка для организма связана обычно с чувством насыщения, это ощущение всегда сопровождалось нарастанием потребления кислорода, и в результате между ними давно образовалась временная связь. Из коры мозга, куда доходили сигналы из желудка, как бы следовали импульсы: «Ускоряйте обмен веществ, накопляйте энергию, предстоит большой труд – переварить и вытолкнуть пищу в кишечник». Падение обмена при отделении желудочного сока возмещалось его подъемом, возникающим при насыщении.
Мы узнали, таким образом, что влияние желудка на газообмен складывается не из двух одинаковых, а противоположных влияний: деятельности желез и приема пищи. Возникает ли нечто подобное между желудком и органами других систем? Вопрос этот имел серьезное значение – ведьмы искали истоки обмена веществ, причины, ускоряющие и осложняющие эту важную деятельность организма.
Мы остановились на скелетно-мышечной системе.
Мне слышится, Константин Михайлович, ваше возражение: тут нечего изучать, отношения эти достаточно изучены, к ним не много можно прибавить. Простите меня, я исходил из того, что все наши представления о связи между отделением желудочного сока и работой мышц неверны. Неправильна методика, с какой были добыты научные доказательства, ошибочен самый расчет. Как проводились обычно эти исследования в лабораториях? Собаку ставили на вращающееся колесо, которое могло ее сбросить, если она бегом на месте не удержится от падения. При этом ученые наблюдали прекращение выделения желудочного сока. Так возник повод для ложного обобщения, будто всякая деятельность мышц задерживает сокоотделение.
«Соответствует ли это действительности? – спрашивал я себя. – Нет ли тут ошибки, поспешного решения, основанного на недоразумении? А если собака мчится домой, где ее ждет желанная пища, неужели и тогда у нее железы желудка заторможены? Неужели человек, направляющийся после завтрака на работу, лишен возможности эту пищу переваривать, пока он находится в дороге? Нет, – подумал я, – при беге собаки на колесе действуют иные причины и следствия. Не деятельность мышц, а угроза опасности, страх руководит поведением организма. Тот самый страх, который сужает просветы кровеносных сосудов, задерживает слюноотделение, парализует также желудочную железу…» Я долго не осмеливался на этой гипотезе настаивать.
Проверить ее казалось мне возможным лишь в условиях естественной среды, без насилия над природой животного. Чтобы избегнуть ошибок, допущенных в опыте над животным на вращающемся колесе, надо было подобрать организм, у которого движения, связанные с добыванием пищи, не служат ему, однако, средством защиты. Трудная задача, почти неосуществимая! Кому из позвоночных ноги не помогают добывать себе питание и не служат также средством защиты? Надо ли скачком настигнуть свою жертву или бежать от сильного врага, – действуют те же мышцы конечности. Приближение опасности возбуждает движение ног. Возникает потребность бежать, хотя бы бегство это было опаснее той угрозы, которой человек или животное стремится избежать.
Я нашел зверька, который при виде опасности не обращается в бегство, а сворачивается калачиком, выставляя врагу свои острые иглы. Все прочие его движения связаны с поиском пищи и ничем другим. Такова природа ушастого ежа. Никто ему не страшен, даже змея. На змеиный яд у него свое противоядие.
Одна из моих студенток наложила ему фистулу на желудок. Это был первый такого рода опыт, никто еще до нас подобной операции на ежах не делал. Бедняжка студентка изрядно потрудилась, прежде чем увидела, как из отверстия заструился желудочный сок. Опыт потребовал много дней и недель, и единственным утешением девушки были в ту пору ее песни, которые она день и ночь распевала. Мы шутя просили ее не вырабатывать у ежа временной связи на звучание колоратурного сопрано.








