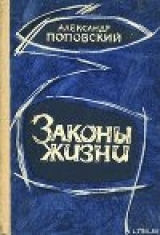
Текст книги "Пути, которые мы избираем"
Автор книги: Александр Поповский
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
Слоним решает заняться крысами
Начальник любезно принял офицера медицинской службы Слонима и предложил ему сесть.
– Мне рассказывали, – начал он, – о ваших исследованиях. Мы обсудим их и примем конкретные меры… Что вы в дальнейшем намерены делать?
Он не скрывал своих симпатий к ученому и искренне интересовался его планами.
– Полагаю заняться крысами.
– Да? – удивился начальник. – Мне казалось, что вы изучаете только людей.
– Нет. Крысы давно меня привлекают. Не скрою от вас, они-то главным образом меня сюда и привели.
– Это ваше задание?
– Как вам сказать… – не сразу нашелся Слоним. – Генерал-майору Быкову я об этом не говорил, но он, вероятно, догадывается.
Слоним не ошибся, Быков сразу же заподозрил, что у помощника собственные цели в Заполярье. «Запомните мои слова, – сказал он сотрудникам: – мы скоро услышим о его опытах на белых медведях или грызунах…»
– Принимайтесь за дело, – сказал Слониму начальник, – я охотно вам помогу… Вы считаете, что борьбу с крысами надо усилить?
– Право, не знаю, – пожал плечами молодой ученый, – я об этом не думал. Моя задача заключается в другом. Меня интересует природа грызуна, его приспособляемость к окружающим условиям. Вы знаете, конечно, до чего эти зверьки живучи. Нет таких средств, которые дали бы нам возможность избавиться от них. К ядам они привыкают, становятся к ним нечувствительны или научаются их вовсе избегать. Все ухищрения науки бессильны, они возмещают свои потери беспримерной плодовитостью. Одна пара способна наплодить в три года двадцать миллионов потомства… В Англии их живет около ста сорока миллионов, на каждого взрослого жителя приходится, таким образом, по семейству крыс.
Слоним мог бы еще добавить, что в течение многих лет он тщетно пытается решить, образуют ли грызуны временные связи с окружающей температурой. Пытается, но безуспешно.
Начальника крысы интересовали с другой стороны. Он ненавидел эту ораву, нагрянувшую на Заполярье, и искренне желал ей гибели. Научные проекты физиолога не захватили его.
– Стоило ли за крысами ездить так далеко! – недоумевал он. – Этой твари и в Ленинграде немало.
Слоним не мог ему позволить хоть в какой-либо мере заблуждаться. В серьезном деле недомолвки недопустимы. Стоило ли ездить так далеко? Какой странный вопрос! Разумеется, стоило. Начальнику следует знать, что крысы не везде одинаковы. У каждого вида своя физиология, своя история и будущее. Одни уже прошли вершину развития, другие приближаются к ней. И живут и размножаются они различно. Александрийская крыса обосновалась на судах дальнего плавания и редко встречается в портах. Черная ведет оседлый образ жизни. Она заселяет верхние части строений – чердаки, хлебные амбары и даже дупла деревьев. Серая, наоборот, обитает в сараях, огородах и в подпольях домов.
Два нашествия крыс знало человечество: одно во время переселения народов и другое в начале XVIII века. В первом случае миром овладела черная, а во втором серая крыса. Всеядная и плодовитая, она заселяла город за городом, завладела Парижем и Лондоном, достигла Нового Света и, вытеснив черную соперницу, за полвека утвердилась на всей земле.
– Я все-таки не понимаю, почему вы именно в Заполярье решили изучать это черное, серое и прочее зверье.
Начальник нисколько не сердился, наоборот – экскурс в историю и биологию грызуна настроил его на благодушный лад.
– На наших глазах произошло третье нашествие, – спокойно продолжал Слоним. – За Полярным кругом грызунов этих никогда не бывало. С постройкой северных городов и заселением их человеком грызуны проникли и обосновались на севере. Пришло время разведать по свежим следам, что дает серой крысе такие преимущества, какая физиологическая система способствует ее приспособлению. Только зная природу врага, можно его уничтожить…
Таков был план. Предстояло много работы, и Слоним стал обзаводиться помощниками. Он спешит навестить медиков флота, призванных вести борьбу с грызунами. Некоторые работают в отдаленных местах, за много километров, но неудобства пути его не смущают.
– Вам приходится по долгу службы, – говорит он врачам – вскрывать и уничтожать множество крыс. Не согласитесь ли вы кое-что сделать для моих изысканий? Вы на этом материале могли бы подготовить научную работу и защитить ее у нас.
Предложение не всем казалось серьезным, один из врачей позволил себе даже обидную шутку:
– Вы думаете, что достаточно распотрошить сотню-другую диких зверьков, чтобы стать достойным ученого звания?
Выслушав сомнения собеседника, Слоним принимался терпеливо объяснять:
– Мы хотели бы себе уяснить физиологическое состояние крыс в различных широтах нашей страны. Вы можете нам серьезно помочь. Прежде чем вскрыть исследуемого зверька, поместите его в камеру и запишите газообмен. Вся аппаратура умещается в этом ведре…
Врачи охотно с ним соглашались. В короткое время Слоним заручился поддержкой медиков и физиологов Мурманска, Ленинграда, Севастополя, Сухуми и многих других городов. От Крайнего Севера до субтропиков шли к нему вести. В одном случае сообщалось, что серые крысы, проникшие в холодильник с тушами замороженного мяса, интенсивно там размножаются. Тридцать градусов холода – обычная температура бетонных камер хранения – не мешают нормальному существованию зверька. Другой исследователь обнаружил серых крыс в термоизоляционной прокладке парового котла. Зверьки различных возрастов – от детенышей до зрелых самок и самцов – проводят свою жизнь в температуре сорок – пятьдесят градусов выше нуля.
В обезьяньих вольерах Сухумского питомника выяснилось другое: суточный ритм серого грызуна – его ночная активность и дневной покой – оказался извращенным. Организм зверька целиком подчинился условиям жизни обезьян. Часы их кормления стали определять время его бодрствования и сна.
Что делает таким устойчивым серого грызуна? Откуда эта способность выживать при любых обстоятельствах?
Слоним стал изучать крыс на прибывающих в Мурманск английских судах. Он спускался в глубокие трюмы и возвращался оттуда с уловом. Пойманных зверьков сажали в переносную камеру, где измеряли у них газообмен. Как и следовало ожидать, черный грызун – обитатель средних широт – легко переносил высокие температуры и перегревался лишь при двадцати пяти градусах тепла, но плохо себя чувствовал на севере. Его серый, заполярный собрат резко от него отличался; как истый северянин, он не страдал от свирепых морозов, предпочитал их жаре и перегревался уже при пятнадцати градусах выше нуля. Географическая среда перестроила его физиологические отправления, как переделала их у песца, гамадрила, макаки и у многих других.
Слоним встретился с интересным явлением, но не остановился на нем. Ему в ту пору нужны были не наблюдения и факты, а законы, определяющие их.
«Если между черными грызунами среднего пояса, – подумал он, – и серыми, заполярными, наблюдается такое резкое различие, оно должно быть не меньше между теми же черными, живущими на корабле, и их черными собратьями, обосновавшимися на севере».
Предположение это не оправдалось. Черный обитатель Заполярья оказался теплолюбом, ютился исключительно в отапливаемых помещениях и не покидал пределов человеческого жилья. Он сохранял свою склонность к растительной пище и неохотно питался чем-либо другим. В газообменной камере он не отличался от тех, которые были выловлены на кораблях, так же плохо согревался на холоде и легко переносил высокую температуру. Черная крыса оказалась неспособной акклиматизироваться, испытание и время не придавали ей новых свойств.
К загадке, что делает таким устойчивым серого грызуна, присоединилась другая: какие физиологические причины предопределили незавидную судьбу его черного собрата.
Испытанию подвергли серую крысу в ее обычной температурной среде. Работы велись в различных широтах – от Крайнего Севера до субтропиков. Изучалось состояние зверька и теплообмен в разнообразных климатических условиях. Нужен был четкий, недвусмысленный ответ, и Слоним предупреждал своих помощников:
– Берегитесь ошибок, не слишком доверяйте собственным глазам, добивайтесь объективных доказательств.
Прошло немало времени, прежде чем стопка кривых и протоколы наблюдений пришли из Севастополя, Мурманска, Сухуми и Ленинграда. Записи говорили о великих стараниях, об ухищрениях, продиктованных страстной любовью к науке, и об удивительных вещах, открытых проницательным глазом человека. Серый грызун оказался многоликим, его физиологические механизмы по-разному проявляли себя в различных пунктах страны. Климат Ленинграда придал ему свойства млекопитающего средних широт. Он мирился с температурой, в которой его собрат, серый грызун Заполярья, погибал. И отклик организма на холод, и двигательная активность в течение суток были чужды природе северного зверька: в Сухуми и Севастополе серый грызун приобрел особенности животного крайнего юга. Жаркий климат субтропиков, невыносимый для крыс Заполярья и Ленинграда, не мешал ему тут жить и размножаться.
Один из помощников Слонима повторил эти эксперименты природы у себя в лаборатории. Он обратил серую крысу средних широт в заполярную. Трех недель пребывания в ледяном погребе было достаточно, чтобы перестроить ее обмен. Нагретая камера с тем же успехом фабриковала субтропических зверьков.
Исследование закончили проверкой суточной периодики, устойчивости ее у испытуемых видов. Можно было не сомневаться, что приспособляемость серого грызуна связана с гибкостью его нервных механизмов. И все же Слоним обратился за новыми подтверждениями.
В клетках, где аппараты записывали движения животных, рассадили черных, серых и александрийских крыс. Каждой уделили угол в лаборатории и предоставили вдоволь пищи. Рабочая обстановка и близость людей подействовали на пленников удручающе. Неподвижные в течение дня, они ели и двигались лишь по ночам или днем, когда помещение случайно пустовало. Черный грызун и его александрийский сородич так и не изменили своего поведения. Иначе повели себя серые зверьки. Уже через несколько дней с ними произошла перемена: они перестали считаться с неудобствами обстановки и близостью людей, ели и двигались непринужденно. Снова, таким образом, сказалась способность нервной системы одолевать препятствия среды.
Как было серому грызуну не вытеснить черного и не заселить весь мир? Ни климат страны, ни своеобразие средств питания не мешали его размножению. На редкость совершенные нервные связи давали ему возможность приспособляться к любым условиям существования в сроки, недоступные ни одному из позвоночных.
Почему же все-таки грызуны не образуют временных связей с температурой внешней среды!
Когда Слонима спросили, почему он вернулся к старому, неудавшемуся опыту, он сказал:
– На совести физиолога не должно быть незавершенных работ. Язык природы ясен и определенен. Только тот, кто не способен его понять, может мириться с неудачей.
Исследования в Заполярье убедили его, что грызуны должны образовывать временные связи с температурой внешней среды. Пора наконец решить, возможно ли, чтобы столь чуткие к климату животные, легко приспосабливающиеся к теплу и холоду, не устанавливали с окружающей температурой временной связи. Разве стужа и жара, вызывающие у грызунов колебания обмена, протекают вне времени и пространства и ничто не сопутствует им? А если сопутствует, что мешает этим явлениям связаться в мозгу грызуна с ощущением холода или тепла и влиять на организм?
Прежние исследования были, вероятно, порочны, неудачна методика. Что, например, хорошего в опыте с мышью, заключенной в сосуд, погруженный в воду? В естественной жизни подобная ситуация невозможна, он холод и тепло воспринимает не в ванне, а в обычных условиях свойственной ему обстановки. Можно ли подобными методами познавать законы природы? Нужны средства, более близкие к естеству животного.
Мысли Слонима обращаются к прошлому, к давним наблюдениям и свидетельствам ученых. Он ищет в прежних исследованиях ответа на то, что занимает его сейчас.
Известно, что обезьяны в холодные ночи собираются группами для ночевки. Прильнув друг к другу, они сокращают поверхность тела, сберегают собственное тепло. У полевок, белых крыс и овец наблюдается то же. Вместе с Понугаевой, помощницей, некогда отличившейся в опытах на кондукторах товарного поезда, Слоним приступил к новым исканиям.
Для начала проверили, будет ли колебаться газообмен у мышки-полевки оттого, что она находится в кругу подобных себе. Проведенные опыты решительно подтвердили, что в сообществе мышей организм грызуна сжигает меньше вещества, чем в одиночку.
Исследователь и его сотрудница приступили ко второй части эксперимента. Они соорудили металлическую клетку с тремя стеклянными перегородками и за каждую поместили по зверьку. Полевки находились как бы в тесном соседстве, но не могли друг друга согревать. Трудно было поверить, что мнимая близость станет временной связью и окажет на зверьков такое же действие, как подлинная. Между тем случилось именно так: обмен у мышек, разделенных прозрачным барьером, резко упал. Организм принял явление, сопутствующее согреванию, за самое тепло и сократил воспроизводство его у себя. С такими же результатами закончились опыты на гамадрилах и сусликах – и у этих животных мнимая близость проявляла себя как подлинная.
Долгожданное решение как будто пришло. Исследователи обнаружили давнюю связь, закрепившуюся у полевки в ее прошлой жизни. Один вид сотоварок, согревавших ее, изменял у нее уровень обмена. Теперь уже трудно было поверить, что грызуны не образуют временных связей с окружающей температурой. Физиологи могли порадоваться и тому, что успеху способствовала методика, заимствованная из лаборатории природы.
Все выглядело более чем благополучно, а Слоним не был удовлетворен. Слишком легко далась ему удача, серьезные успехи достигаются трудом и терпением. Легкие победы – великое искушение, опасно им доверять. Рано делать заключения, надо проверить: в тепле ли тут дело, не кроется ли за этими колебаниями обмена что-нибудь другое? Ни времени, ни сил не следует жалеть. Быков в таких случаях говорил: «Надо работать и верить, сомнение – плохой помощник в труде». И еще он добавлял: «В аптеке нет средства, чтобы пессимиста обратить в оптимиста». Лишняя проверка не повредит. Павлов проделывал тысячи опытов и столько же контрольных, прежде чем поверить в свое заключение. Так и придется поступить.
Допустим, что у полевки обмен снижается оттого, что ее согревают товарки. Позволим себе думать, что по этой причине один только вид их действует на центр обмена, как само согревание. В таком случае ничего не изменится, если вместо подруг сохранить в клетке лишь одно их тепло.
Раз возникшая мысль никогда не залеживается у Слонима. Уверенный в том, что физиолог не должен скупиться на опыты, он и на этот раз поспешил разработать методику исследования и приступить к работе.
За стеклянную перегородку посадили полевку, а за тремя другими расположили электрические лампы, тщательно обернутые в серую бумагу, под цвет зверьков. Они грели с интенсивностью двух мышей. У полевки была видимость какого-то сообщества, согревающего ее, и следовало ожидать, что образование собственного тепла у нее упадет. Этого не случилось. Одного согревания оказалось недостаточно, зверек нуждался в окружении – в стаде. Не временные связи наблюдали в этом случае исследователи, а новое явление – стадный рефлекс.
Снова искания отвели Слонима в сторону от старого, незавершенного опыта. Опять он не выяснил, образуют ли грызуны временные связи с температурой внешней среды. У физиолога, говорят, не должно быть неудавшихся опытов, все они куда-нибудь да ведут. А если они все-таки не удаются, как быть?
У Слонима и его помощницы не было выбора, и они повернули по новому пути.
Прежде чем пуститься в неведомую дорогу, предстояло еще убедиться, что найденный рефлекс действительно стадный, и найти ему научное подтверждение.
Верная мысль, но как ее осуществить? Физиологи этим рефлексом не занимались, наблюдения натуралистов над стадным чувством не шли дальше внешнего поведения вида. Может быть, проследить, как поведут себя зверьки-одиночки? Но удастся ли постичь физиологию стадности, изучая зверьков-одиночек, лишенных этого инстинкта? Если бы оказалось, что их организм не снижает обмена в кругу себе подобных, это могло бы стать доказательством, что свойство, обнаруженное на мышах, – стадного происхождения.
Для опытов избрали ежей. Непримиримые одиночки, они не образуют колоний, охотятся далеко друг от друга и враждуют между собой. Свести их не представляло особого труда, остальное доделали записывающие аппараты. Они засвидетельствовали, что близость не порождает у них стадных явлений, и в одиночку и вместе они одинаково интенсивно поглощают кислород и выделяют углекислоту. Однако, если ежей постепенно сближать, у них начнет повышаться обмен. Возникнет состояние, напоминающее встречу соперников на ринге.
В этом различном поведении ежа и полевки, одиночки и стадного зверька, Слоним нашел ответ, почему встреча мышей задерживает у них образование тепла. То же самое наблюдал он у летучих мышей. Малейшее скопление зверьков приводило к снижению у них обмена. Лошади, пока содержатся в стойле, не обнаруживают суточной ритмики; температура их тела днем и ночью одинакова. Изменения наступают, как только животных сгоняют в табуны. Скотоводам известно, что нагул у коров особенно нарастает в стаде. И еще один любопытный пример. Когда было замечено, что в прохладные ночи обезьяны собираются, чтобы согреться своими телами, Слоним предложил одному из сотрудников изучить их обмен, когда они находятся вдвоем, втроем или в одиночку. Итоги исследования не удовлетворили его, и он посоветовал помощнику делать измерения раздельно, не смешивать макак с гамадрилами. Результаты изменились, но более понятными не стали. Трудно было тогда понять, почему первые в своем окружении сохраняют обмен без изменений, а вторые его снижают. То, что оказалось необоснованным, сейчас выглядело закономерным. В состоянии гамадрилов проявилась их стадность, несвойственная макакам, живущим в одиночку.
Так, сопоставляя найденное в опытах с тем, что сохранила ему память, Слоним мог вникнуть в открытое им явление. Не все в нем было ясно, многое не находило себе объяснения. Почему, например, стадное чувство приводит к экономии энергии? Какие причины способствуют этому? Ответить казалось тем более нелегко, что видимых поводов для колебания обмена не было.
Слоним начал с аналогии, с поисков такого же уровня обмена в различном состоянии грызунов, какой возникает при стадном чувстве. Многочисленные измерения, стопки кривых дружно утверждали, что наиболее низкая трата энергии у мышей соответствует состоянию полнейшего покоя или пребывания в стаде. Как в своем кругу не утвердиться покою: все тут свои и готовы постоять друг за друга, ничто не порождает ни страха, ни тревоги. Организм, избавленный от чувства беспокойства, может себе позволить снизить напряжение, а с ним и обмен, снизить резко: на одну треть и больше.
Еще один вопрос.
Проявление стадности – несомненно рефлекс, но какой именно: врожденный или приобретенный? Как это физиологически проверить?
Чтобы ответить на этот вопрос, у исследователя был безошибочный ход, определенный и точный, более верного себе представить нельзя. Экспериментатор отнял у полевок новорожденных детенышей и вырастил их отдельно от матери и сверстников. В один прекрасный день выкормышей посадили в общую клетку и предоставили аппаратам установить, сказывается ли эта близость на обмене веществ у зверьков. Кривые засвидетельствовали, что у полевок, впервые собранных в группу и впервые увидевших себе подобных, обмен резко упал. Рефлекс был врожденным.
Выработать временную связь на этот инстинкт долго не удавалось. Пока полевок объединяла подлинная близость, стадный рефлекс себя проявлял. Стоило опустить между ними барьер, невинную стеклянную перегородку, и свойства инстинкта исчезали. Лишь два месяца спустя, когда кора мозга у выкормышей окрепла, стало возможным образование временных связей. Один внешний вид полевок вызывал у другой падение обмена.
«Я не понимаю, что вас удивляет!»
– Я не понимаю, что вас удивляет? – в третий раз повторял Слоним. – Что необыкновенного в моем сообщении? Кошка ничем не отличалась от многих других. Мы вывели ей наружу проток слюнной железы, и все это увидели своими глазами…
Быков покачал головой и, не глядя на помощника, спросил:
– Зачем это, Абрам Данилович, понадобилось вам?
На лице Слонима отразилось страдание. Он пожал плечами, наморщил лоб и наконец улыбнулся:
– Вся моя работа, Константин Михайлович, преследует единственную цель: выяснить зависимость физиологической функции животного от его способа добывания пищи. Я делаю это давно и не без вашего ведома… Я в толк не возьму, как могли вы, такой тонкий наблюдатель, ученый с редким чутьем и опытом, не оценить наши факты. Подумайте только: мы показываем кошке молоко – слюны нет, суем ей под нос колбасу – никаких перемен. Заметьте, она этой колбасой интересуется, бросается на нее, а слюны не дает. Мы уступаем. Желанная пища в лапах у нее, а железа точно мертвая – молчит… Кошке позволили съесть колбасу, и тогда лишь появилась слюна. Какая несообразность! Ведь собаке достаточно показать крошку хлеба, чтобы в склянку побежала слюна.
– Вы проверили все опыты? Учли различные тормозящие влияния?
То, что Слоним говорил, было слишком неправдоподобно, чтобы принять это всерьез. Быков не скрывал своего предубеждения и отделывался короткими репликами или молчанием.
– Все было учтено, – заверял ученого помощник. – Мы подумали, не тормозит ли обстановка деятельность железы, и стали опыты проводить в различных местах. Не сказывается ли на животных время суток, степень их сытости? Мы торопим порой организм с ответом, а он не успевает его дать. Нельзя ли и над этим подумать? Где уверенность, что присутствие исследователя не тормозит слюнную железу? На каждое сомнение мы отвечали опытами: по часу держали колбасу перед кошкой, оставляли ее с приманкой наедине, кормили впроголодь или вовсе не давали никакой пищи… Как можно не видеть, что это событие исключительной важности и значения!
– Вы, кажется, говорили, – заметил Быков, – что ваши кошки роняли слюну, когда в их присутствии кормили других животных…
– И даже людей – в том и в другом случае реакция была одинаковая.
– Мы видели то же самое у собак, – сказал Быков. – Покормите-ка двух при третьей – голодной, она такое слюноотделение закатит, словно ей рот кислотой обожгли…
Слоним даже улыбнулся от удовольствия; уж очень сильное оружие дал ему ученый против себя.
– Не только собаки, – сказал он, – но и обезьяны ведут себя так. Эти животные, как вам известно, не помогают друг другу в нужде. Голодный павиан или макака напрасно будет тоскливо озираться, умоляюще смотреть на жующих собратьев – никто ему не бросит куска. Однажды мы такую голодную макаку выставили к вольеру, где кормилось стадо, и продержали ее там в течение дня. Время от времени у нее брали кровь на исследование. Что же оказалось? Каждый раз, когда стаду давали есть, у голодного животного резко снижалось количество сахара в крови. Под действием волнующего зрелища организм поглощал свои последние запасы питания. Мы шутя назвали это рефлексом зависти. Очень возможно, что и собаки и кошки им одержимы…
Беспристрастие помощника понравилось ученому, и он одобрительно кивнул головой.
– Позвольте теперь вас спросить, – продолжал Слоним, – что, если собаке, в присутствии которой кормят другую, показать колбасу, как она себя поведет?
Вопрос был более чем наивный: у животного, разумеется, будет выделяться слюна.
– А вот у кошки происходит иначе. Пока в ее присутствии кормят других, она отделяет слюну, но, если в тот момент показать ей колбасу, отделение слюны прекратится. Как бы вы, Константин Михайлович, этот факт объяснили?
– Послушаем, как это толкуете вы, – после некоторого раздумья сказал Быков.
Слоним испытующе взглянул на ученого и, видимо довольный тем, что прочитал у него на лице, продолжал:
– Я думаю, что у хищника, каким является кошка, один лишь вид пищи не может раздражать слюнную железу. Между моментом, когда добыча обнаружила себя, и возможной поимкой ее может пройти много часов, день или два. Если бы в продолжение этого времени железы хищника оставались напряженными, кошка изошла бы слюной и желудочным соком. Только животные, поедающие пищу, как только ее увидели, выделяют тут же слюну. Для них вид еды – это сигнал питания.
– Простите, – остановил его Быков, – я знаю такого зверя, который ловит птиц и мышей и исходит соком и слюной, как собака.
– Вы имеете в виду ежа? – подхватил Слоним. – Еж не охотник. Он не таится, не подстерегает свою жертву, а бросается очертя голову, как только увидит ее. Поймал – хорошо, промахнулся – не беда, идет дальше. Всегда готовый напасть и тут же съесть добычу, он все время истекает слюной и соком.
– Короче говоря, – тоном неодобрения произнес Быков, – вы додумались, что кошка не выделяет слюны при виде пищи, а следовательно, не образует со слюноотделением временных связей.
– Этого я не говорил, – запальчиво ответил Слоним. – Кошка, как и все позвоночные животные на свете, выделяет на пищу слюну, но мышка в подполье и колбаса в чужих руках – не предметы питания, а объект будущей охоты. Их надо еще добыть или, как сказал бы человек, заработать.
– Не стану с вами спорить, – последовал холодный ответ, – всякий зарабатывает свой хлеб как может, но мне все же кажется, что ваша кошка – частный случай.
– А я думаю, например, что собака – частный случай.
– Вот мы и договорились, – вставая, сказал Быков. – По-вашему выходит, что Павлов разработал учение о временных связях на частном случае из животного мира, а по-моему, дело обстоит не так…
То, что помощник позволил себе, казалось Быкову непростительной дерзостью. Он был уже готов отпустить нелестную шутку по адресу Слонима и его кошки, но умоляющий взгляд заставил ученого замолчать.
– Погодите, Константин Михайлович, вы не поняли меня. Я хотел лишь сказать, что вид пищи не вызывает у кошки слюны, только это и ничего больше. Функция изменилась и стала такой, как этого требуют условия существования, вернее способ добывания пищи. Не будем с вами спорить, обсудим наши расхождения спокойно.
Взволнованная речь ученого, столь много потрудившегося над своей работой, тронула Быкова, он опустился на стул, пожал благодушно плечами и сказал:
– Извольте, я согласен. Мне показалось, что вы все уже сказали.
– Нет, нет, не все. Раз вы заподозрили, что я покушаюсь на основы учения Ивана Петровича, позвольте мне в свою защиту привести некоторые известные вам факты. Вы помните, как озадачило Павлова и его учеников то обстоятельство, что щенки, никогда не видавшие мяса, жадно тянулись и хватали его зубами, но при этом слюны не выделяли? Много было высказано тогда предположений, и все согласились, что по наследству передается лишь двигательный ответ организма. Слюноотделение возникает позже, когда образуется и закрепляется вкус. Павлов, наблюдавший один из таких опытов, сказал: «Замечательно, что слюны ни капли не было, а щенки кидались, значит, что-то было…» Теперь мы можем сказать, что они наблюдали охотничий рефлекс…
Ученый задумался. Доводы Слонима не лишены были интереса. Быков, перевидавший на своем веку несчетное количество четвероногих, сам не раз убеждался, что собаки, которые стремительно бросаются на пищу, выделяют меньше слюны, чем их более пассивные собратья.
– Не расскажете ли вы нам, Абрам Данилович, куда девается у собаки охотничий рефлекс с его задерживающим влиянием на слюнную железу?
Это был трудный вопрос, но будем справедливы: в душе ученый желал помощнику удачи.
– Рефлекс устранился путем искусственного отбора. На протяжении тысячелетий человек искоренял хищные склонности собаки. Непокорные натуры, упрямые преследователи домашних птиц и животных, уничтожались. Кошек, наоборот, отбирали для охоты за грызунами и тем сохранили их хищные свойства. Охотничий рефлекс у щенят – один из задатков, с которым природа расстается не скоро. То, что некогда было свойством организма, стало ненужным придатком у зародыша и будет еще долго проявляться в каждой новой жизни на короткий срок.
Сомнения ученого были поколеблены, но, строгий ко всему, что имеет притязание стать достоянием науки, он шутливо сказал:
– Не доверяйте кошкам, они коварны. Кошки путаницы, они путают цвета, видят одно, а воспринимают другое… И вообще кошки бывают разные…
Исследования продолжались. В помощники Слоним пригласил себе молодого человека, недавно окончившего медицинский институт. Он был не слишком тверд и не слишком сведущ в науках, но любил хирургию, с которой учитель мирился с трудом. Юноша научился выводить у кошек проток слюнной железы, ловить их на черных лестницах жилых помещений, лазал по чердакам и отстаивал свою добычу от притязаний домохозяек. Высокий, худой, с вдохновенным взором больших черных глаз, он дневал и ночевал в кругу своих пленниц. Работа была не из легких. Физиологи, разделяя нелюбовь Павлова к кошкам, не выводили у них протока слюнной железы, не разработали практики такой операции и не изучали слюноотделения.
Однажды Слоним сказал своему молодому помощнику:
– Наши кошки, возможно, потому не роняют слюны, что пища лишена внешних признаков жизни. Не предложить ли им что-нибудь живое, хотя бы живую мышь? Достаньте кошку, прооперируйте ее, и мы этот опыт проделаем.
В лаборатории появился полувзрослый кот – маленькое тощее создание по кличке Подхалим. Студенты выловили его в одном из подъездов и подарили лаборатории. Спустя несколько дней на щеке у животного появилась градуированная склянка, куда по капельке стекала из протока слюна. Слоним предложил коту на выбор молоко, мясо и колбасу и был весьма озадачен результатами – в склянку обильно побежала слюна. Исследователь не верил своим глазам. Он снова и снова ставил перед животным пищу и убеждался, что между откликом железы собаки и подопытного кота никакой разницы нет. Неужели Быков всерьез говорил, что кошки бывают разные?
Опыты продолжались. Перед кошками ставили клетку с белыми мышами, и, пока возбужденные хищницы суетились вокруг ограды, отделяющей их от белых зверьков, изучалось состояние слюнных желез. Как ни странно, слюноотделение у кошек не возросло. Слоним готов был поздравить себя с удачей, торжественно повторить, что физиологические свойства одомашненной собаки нельзя произвольно распространять на хищную кошку, но неожиданно возникло новое затруднение. Во время опытов в лабораторию проскользнул кот Подхалим и приблизился к клетке. Он поглядел на мышей и глубоко безразличный отвернулся. Его железа, столь щедро изливавшая слюну, когда глазам представлялась всякая снедь, сейчас проявляла полнейшую сдержанность.








