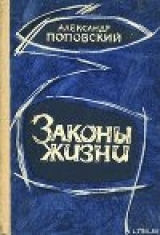
Текст книги "Пути, которые мы избираем"
Автор книги: Александр Поповский
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
– Разумеется, влияет только так. Взять хотя бы, к примеру, такое обстоятельство. Под влиянием душевных волнений чувство холода вдруг сменяется жаром, жар, в свою очередь, ознобом. Кругом лютует мороз, а человек его не ощущает. Душевные волнения сковывают нас холодом, хотя бы нервные приборы воспринимали в это время тепло. Похолодевшего на экзамене студента никакими средствами не отогреть, пока в нервной системе не настанет успокоение. Занятые важным делом или застигнутые опасностью врасплох, мы, словно оберегаемые невидимою силою, не ощущаем ни мороза, ни жары. Зато, когда занятие лишено интереса и не волнует нас, легкое пощипывание заморозка воспринимается как разряд электрического тока, весенняя теплынь – как мучительный зной. Влюбленные могли бы рассказать, как ночами, оставаясь на лютом морозе, они не замечали его.
И еще один довод против развенчанной теории. Если так автоматично восприятие внешней температуры и так определенны ответы мозга на них, почему мы после длительного пребывания на холоде продолжаем его чувствовать, когда нас уже давно окружает тепло? Под покровом гостеприимного дома продрогший путник еще долго страдает от стужи, перенесенной им в пути. Говорят, что из него в это время «холод выходит», но ведь это никому еще не удалось доказать…
Он никогда не поверит, что кора больших полушарий – лишь механический приемник нервного возбуждения, возникающего в кожных приборах. Кора – прежде всего регулятор, от нее зависит не только возникновение чувства холода и тепла, но и управление им.
С таким убеждением аспирант приступил к доказательствам.
Левую руку исследуемых вновь подвергали испытанию, правая по-прежнему служила для контроля. Нагревали и охлаждали не отдельные точки, а всю поверхность руки. И еще одно новшество сопровождало опыт: перед нагреванием руки вспыхивал свет, а перед охлаждением звучал звонок. После нескольких сочетаний условного и безусловного раздражения одна лишь вспышка электричества раздвигала просветы кровеносных сосудов, звонок, наоборот, их сжимал.
– Что вы чувствуете сейчас? – спрашивал экспериментатор испытуемого.
– Тепло, – отвечал человек на вспышку электрической лампы.
– А теперь? – следовал новый вопрос.
– Холодит, – говорил испытуемый, когда звонок сокращал кровеносные сосуды.
Чувства холода и тепла возникали теперь независимо от внешней температуры. Пшоник на этом не остановился. Он допустил, что условные раздражители – свет и звонок – могут стать сильнее безусловных – холода и тепла, – и решил это доказать. Предположение не обмануло его. Влияние условных раздражителей на чувствительность кожи была так велика, что электрический свет вызывал у испытуемого ощущение тепла, хотя бы руку при этом охлаждали. Сосуды, покорные сиянию лампы, вопреки законам физиологии расширялись при охлаждении.
Пшоник представил ученому увлекательный план и после долгих размышлений приступил к завершающим опытам. Тот. кто в те дни наблюдал ассистента, не мог не заметить в нем больших перемен: он стал более медлителен и еще более спокоен. Клочки бумаг, покрывавшие пол лаборатории, несли печать его тягостных сомнений и дум. Неутомимая рука, следуя давней привычке, уснащала рисунками все, что могло служить этой цели. Профили юношей и девушек, руки с нанесенными на них точками, экран, аппаратура, старательно выведенные губы и глаза причудливо смешались с нотными ключами – свидетелями склонности Пшоника к музыке. Дома в те дни только и было разговора что о предстоящих испытаниях словом. Да, да, именно словом: вместо звонка и электрического света, предшествовавших охлаждению и нагреванию кожных покровов, будут следовать устные предупреждения: «даю холод», «даю тепло». Психологов это порядком озадачит, но что поделаешь, пусть постигают науки. Напомним им, кстати, слова Белинского: «Психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии».
Пшоник привел свой план в исполнение. Нескольких сочетаний действия температурного раздражителя и словесного было достаточно, чтобы слово исследователя обрело власть над кожной чувствительностью.
– Что вы чувствуете? – спрашивают испытуемого после слов «даю холод».
– Меня пробирает озноб, я холодею, – следует ответ.
Сократившиеся сосуды правой руки это подтверждали.
– А теперь – после слов «даю тепло»? – спрашивал экспериментатор.
– Мне становится жарко…
Бывали порой и неудачи, от которых Пшоник терял свое завидное спокойствие, терзался сомнениями и долго не находил выхода. Так, в один несчастный день трое испытуемых не подчинились команде исследователя. Предупреждения «даю холод», «даю тепло» не вызвали соответствующего отклика. Удрученный ассистент предался невеселым размышлениям. Когда знания физиолога оказались бессильными, на помощь им пришел опыт педагога. Суждения пошли по новому руслу: вопросы к природе сменились вопросами к чувствам людей.
– На что вы жалуетесь? – допытывался учитель у добровольцев.
Странный вопрос! Им по двадцать с лишним лет, они отменного здоровья и не видят основания пенять на судьбу.
– Может быть, вы влюблены? – интересовался учитель.
– И да и нет. Впрочем, это несущественно.
– Не случилось ли с вами, скажем, беды?
Они три ночи не спали, готовились к трудным зачетам, не было у них большей беды.
Это и надо было педагогу. Новые обстоятельства пригодились физиологу. Испытуемым предложили отоспаться, и спустя несколько дней команда «даю холод», «даю тепло» имела полный успех.
Оправдались подозрения Пшоника. Слово оказалось более действенным раздражителем, чем само охлаждение и нагревание руки. Господствующее влияние принадлежало отныне не окружающей температуре, а условному сигналу, закрепившемуся в коре больших полушарий. Именно здесь формируются ощущения, отсюда следуют импульсы к кровеносным сосудам. Только кора может воссоздать жар и озноб, хотя бы внешняя среда к этому в данный момент не располагала.
Разгадал Пшоник и другое: почему человек после долгого пребывания на холоде продолжает мерзнуть и в тепле.
Временные связи, возникшие между средой, где происходило охлаждение, и большими полушариями мозга продолжают и в тепле вызывать дрожь и озноб. Так длится до тех пор, пока новый раздражитель – теплая комната – не образует новую связь, и тогда озноб сменяется ощущением тепла.
Где границы между истинным и кажущимся!
В жизни Пшоника наступила важная перемена – он оставил Ленинград и переехал в город Энгельс, куда его пригласили на кафедру анатомии и физиологии. Это не был разрыв с любимым кругом идей и учителем. Пшоник покидал Ленинград с тяжелым чувством, но иначе поступить не мог. Давняя тоска его по аудитории, жажда воссоединить исследовательскую деятельность с педагогической еще более усилились в последние годы и не давали ему покоя. Чего он только не делал, чтобы утолить эту страсть в Ленинграде! Он находил время нести обязанности пропагандиста, читать лекции в школах, на избирательных участках, на собраниях, заседаниях общества и кружков. В одном случае его речи посвящались Павлову, в другом – ленинизму, материалистической основе и диалектике естествознания. Его слушали с интересом и благодарностью, а он, взволнованный, думал, что хорошо бы иметь постоянную аудиторию, круг молодежи, с которой можно было бы встречаться изо дня в день.
Четыре года провел помощник Быкова в городе Энгельсе, но связи с учителем не порывал. Расстояние не разъединяло, а еще больше сближало их. В 1940 году педагогу напомнили, что его ждет в Ленинграде незаконченное дело, он оставил Поволжье, чтоб под эгидой Быкова искать в физиологии границы между истинным и кажущимся…
В одной из бесед вскоре после приезда в Ленинград Пшо-ник высказал такое предположение:
– Чувство боли потому так различно, что способность людей образовывать временные связи неодинакова.
Такими домыслами, не совсем обоснованными и недостаточно проверенными, голова ассистента была полна. Ученому время от времени приходилось распутывать клубок его замысловатых идей.
– Но ведь не всякая боль есть кажущаяся, – возражал Быков. – Существуют истинные страдания, основанные на печальной правде. Не объясните же вы желчную колику условными связями.
– Все человеческие страдания, – глубокомысленно настаивал помощник, – как истинные, так и кажущиеся, одинаково формируются в коре больших полушарий под влиянием раздражителей внешней среды. Нам трудно их разграничить.
– Вам, возможно, и трудно, зато другим удается. Кстати, надо вам сказать, что болевые ощущения образуются значительно ниже коры – в зрительном бугре головного мозга.
– Эта теория устарела, – неожиданно вырвалось у ассистента.
– Я и сам так полагаю, – добавил Быков, – что чувство боли регулируется корой полушарий, но это еще надо доказать. Ваш категорический тон заставляет меня думать, что вы действительно склонны принимать кажущееся за свершившееся. Нельзя смешивать реальное с воображаемым.
Пшоник стоял на своем, нисколько не склонный отступать.
– Не мне вам говорить, Константин Михайлович, что под влиянием психических переживаний люди чувствуют боли там, где их нет. Наши страдания зависят не столько от силы падающих раздражений, сколько от степени возбудимости нервной системы. Шекспир где-то говорит, что человек может держать в руке пылающий уголь и чувствовать, что рука его мерзнет, если он в это время будет думать о Кавказском леднике; может не цепенея кататься в декабрьском снегу, представляя себе жару далекого юга. Одинаковое воздействие вызывает у одного животного муки, у другого относительно слабую боль, а у третьего не порождает никаких ощущений. Мученики за веру нечувствительны к страшным испытаниям. Джордано Бруно пел псалмы на костре, русские революционеры шли без страха и тревоги на подвиг и смерть. Ожидание боли усугубляет ее ощущение, и наоборот, она становится неощутимой или почти неощутимой, когда внимание от нее отвлекается. В опыте ассистентки Ерофеевой, проведенном у Павлова, животные реагировали на боли страстным желанием есть. Только кора полушарий может действительное делать кажущимся, усиливать и ослаблять наши страдания.
На короткое время психолог оттеснил физиолога, литературные источники и примеры из истории подменили собой научные факты. Быков не любил эти рецидивы у помощника и холодно сказал:
– Лабораторная практика вас мало чему научила. Книжная мудрость все еще заслоняет от вас мир. И я в хрестоматиях читал о гибели Бруно, знаю, что мученики шли с песнями на смерть, кое-что слышал о Ерофеевой и даже опыты ее наблюдал. Я мог бы многое и от себя прибавить: слепые способны иметь зрительные галлюцинации, глухие – отчетливо слышать воображаемые голоса, а люди с пораженным обонянием – воспринимать запахи… И все-таки это не дает нам права что-либо решать без проверки.
Мы не будем приводить всю беседу ученого с его помощником. Пшоника нелегко было разубедить. Поверив во всемогущество коры полушарий, он не сомневался, что она, как некая высшая сила, целиком управляет аппаратом страдания.
– Вы намерены исследования вести на людях? – спросил Быков.
В душе ученый был доволен этой склонностью Пшоника. Физиолог, таким образом, располагает нормальным организмом с естественным откликом на воздействие извне. Над испытуемым не приходится чинить насилия, он не страдает от вмешательства хирурга. Нравилось Быкову, что вместо звонков и метронома помощник прибегает к слову – естественному раздражителю для человека. Смущало немного внешнее сходство с методами работы психологов.
– Не злоупотребляете ли вы словесным раздражителем? – спросил ученый. – Все это, мой друг, от чужой школы…
– Совершенно верно, – не возражал Пшоник, – но я над словом утвердил физиологический контроль: человек собственной кровью свидетельствует о своем состоянии, – закончил он шуткой.
– Ваш контроль может быть недостаточен, – серьезно продолжал Быков. – Произнесенное слово, возможно, имеет добавочное влияние на нас. Не получилась бы у вас субъективная кадриль… Я бы вместо плетисмографа придумал что-нибудь другое.
Предложение ученого не имело успеха.
– Это совершенно невозможно, – последовал непоколебимый ответ, – все способы исследования, включая подсчет отделяемой слюны, несовершенны. Они свидетельствуют о начальном состоянии и конечном результате – о раздражении, возбуждении или торможении – и ничего о том, как развиваются эти явления в организме. Я хочу видеть, как одно нервное состояние переходит в другое, развертывается, чтобы дойти до своего предела или внезапно оборваться…
Какая методика даст мне возможность заявить испытуемой: «Что с вами, мой друг, вы говорите что-то несусветное вашими сосудами» – и услышать искреннее признание: «Ах, вы не знаете, я всю ночь не спала, у меня ребенок хворает».
Уверенный в себе и в своих средствах исследования, Пшоник пустился в поиски границ между истинным и кажущимся.
Методику опытов не изменили: те же испытуемые и аппарат, чувствительный к колебаниям кровяного тока; устные свидетельства человека, с одной стороны, и контрольная запись – с другой.
На тыльную сторону руки испытуемого наложили пластинку, нагретую до шестидесяти трех градусов. Сосуды, обычно расширяющиеся от тепла, на болевое ощущение ответили сокращением. Другая пластинка, нагретая лишь до сорока градусов и приложенная к внутренней части предплечья, сосуды расширяла.
Кожу руки, таким образом, подвергали испытаниям в двух различных местах, вызывая в одном ощущение боли, а в другом – тепла. Однажды экспериментатор произвел перемену: он перенес горячую пластинку на внутреннюю сторону предплечья, а теплую – на тыльную сторону руки. Надо было ожидать, что наступит перемена в состоянии сосудов и в ощущениях людей. Ничего подобного не случилось: испытуемые не почувствовали разницы. Теплая пластинка жгла им руки, а накаленная вызывала ощущение тепла. Плетисмограф подтверждал, что нагретая до шестидесяти трех градусов пластинка действует, как теплая, расширяя просветы капилляров, а теплая, как болевая, – сокращает их.
Что бы это значило? Как эту непоследовательность объяснить? Неужели пластинки образовали с кожным участком через кору головного мозга временную связь и их наложение вызывает заранее готовый ответ?
Пшоник повторил этот опыт на других испытуемых, сопровождая наложение горячей пластинки звонком, а теплой – миганием электрической лампы. После нескольких таких сочетаний звон действовал на сосуды, как острая боль, а мигание света – как тепло.
– Что вы чувствуете сейчас? – спрашивал исследователь, когда звучал колокольчик.
– Вы причиняете мне боль, – отвечал испытуемый, – пластинка жжет мне руку.
В тот момент к нему никто не прикасался.
То же самое повторялось, когда вместо звонка следовало предупреждение «даю боль». Аппарат подтверждал, что человек ее ощущает.
Когда ассистент доложил результаты Быкову, тот немного подумал и спросил:
– Что вы теперь намерены делать?
– Мы доказали, что воображаемые страдания ничем не уступают действительным. Попытаемся решить, – продолжал Пшоник, – способны ли импульсы, вызывающие эту кажущуюся боль, подавить всякое реальное ощущение.
– Вы хотите сказать, – заметил ученый, – что Джордано Бруно не знал страданий на костре.
– Да, – ответил помощник, – то же самое относится и к Тарасу Бульбе. Помните, как он на костре напутствовал казаков: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!»
Быков улыбнулся. Сверкающий взор Пшоника как бы говорил: «Уж это одно подтверждает мою теорию».
– Но Тарас Бульба в некотором роде литературный тип, – недоумевал ученый, – образ, созданный фантазией художника.
Сомнения учителя нисколько не смутили ученика.
– Я имел в виду не Тараса, а Гоголя. За сто лет до нас он высказал мысль, что глубокая вера в идею способна парализовать всякое страдание. Не хотите примера из литературы, приведу вам исторический факт. В ходе своих работ Иван Михайлович Сеченов прибегнул к следующему опыту. Он опустил в крепкий раствор серной кислоты свою руку и понуждал себя усилием воли не отдергивать ее. Стиснув зубы и задерживая при этом дыхание, он некоторое время продолжал оставаться в таком положении, пока не убедился, что ощущение боли исчезает… Мы пойдем дальше и, возможно, докажем, что большие полушария могут мнимое обращать в действительное, усиливать и ослаблять реальную боль.
Быков давно уже убедился, что его помощник умеет долго вынашивать свои идеи и ничего, кроме них, не видеть.
– Мне кажется, что вы усвоили серьезную истину, – поощрительно сказал ученый: – лучше собственным путем углубляться во мрак неведомых глубин, чем тянуться к чужому свету. Действуйте смело, вы на верном пути.
Удивительно просто справился с задачей неутомимый экспериментатор. Каждый раз, когда на тыльную сторону руки испытуемого накладывали пластинку, нагретую до шестидесяти трех градусов, звучал вестник страдания – звонок. Так длилось до тех пор, пока между капиллярами и болевым ощущением, связанным с наложением пластинки, не образовалась стойкая связь. Теперь экспериментатор стал понемногу снижать температуру раздражителя. По-прежнему заливался колокольчик, на руку ложилась пластинка, но жар ее с каждым опытом спадал. Постепенно охлаждая ее, ассистент довел температуру с шестидесяти трех градусов до сорока трех – с границ боли до пределов безболезненного тела. Казалось бы, и сосудам следовало изменить свое состояние, но этого не произошло. Напрасно исследователь глаз не сводил с аппарата: сократившиеся от боли капилляры оставались без изменения. Покорные звонку – сигналу страдания – они не расширялись, когда самого страдания уже не было.
– Что вы ощущаете? – спрашивал ассистент испытуемого после того, как остывшая пластинка чуть пригревала руку.
– Больно, – отвечал он, – жжет как огнем!
«Нервные окончания руки страдают от воображаемых ожогов, – подумал ассистент. – Что, если лишить их чувствительности? Удастся ли коре полушарий воспроизводить ранее испытанную боль?»
Опыт, проведенный Пшоником, был великолепен. Руку испытуемого лишили чувствительности, впрыснув под кожу новокаин. Такая конечность как бы отрезана от внешнего мира: ни горячая, ни теплая пластинка не действуют больше на нее. Безжизненной, однако, рука оставалась до тех пор, пока ее испытывали жаром и теплом. Нечувствительная к внешним раздражениям, она продолжала быть покорной большим полушариям. Первое же дребезжание колокольчика опрокинуло возведенные ассистентом препятствия: звонок, связанный в мозгу с ощущением страдания, вызвал острую боль. Испытуемый жаловался на боли в руке, которая лишена была способности чувствовать. Так перенесший ампутацию конечностей долгие годы ощущает страдания кисти или стопы, которых он давно лишился.
Пшоник был прав. Импульсы, вызывающие кажущуюся боль, могущественны не менее подлинных болевых импульсов. Кора мозга владеет секретом делать воображаемое действительным, усиливать и ослаблять страдания.
Пути предчувствия
Быков застал Пшоника в глубоком раздумье. Он сидел за столом своей крошечной лаборатории и, подперев голову рукой, смотрел куда-то поверх раскрытой книги. Чтобы не помешать его размышлениям, ученый молча опустился на стул. Некоторое время они без слов оставались друг подле друга, каждый занятый собственными мыслями. Первым заговорил ассистент. Ему пришла почему-то в голову странная история, и он обрадовался случаю ее рассказать.
– Вообразите себе поздний вечер в городском парке. Светлый, лунный, такой, что не наглядишься. Где-то грохочет трамвай, звучат сирены машин, и доносится голос из радиорупора. Бы бродите по аллее, глаз не отводите от луны и прозрачных тучек вокруг нее. В глубине души рождаются прекрасные мелодии, мысли уносят вас далеко, и с каждым мгновением куда-то исчезает городской шум. Кругом тишина, бескрайний покой. В такие минуты, будь то осень или зима, вас обдает дуновением лета, и это тепло еще дальше отодвигает окружающий мир. Все раздражители как бы растворились. Такие мгновения рождают поэтов.
Лирическое вступление помощника не оставило ученого в долгу. Он благодушно улыбнулся и поспешил вставить:
– А иной раз и физиологов. Не отказывайте и нам в праве на вдохновение.
Ассистент словно не расслышал замечания учителя. Он был мысленно там, где дуновение лета в осеннюю ночь отводит действительность в другое русло.
– Проходит время. Минуты ли, часы – все равно. По-прежнему ласково светит луна, бродят светлые тучки на небе, а на земле все переменилось. Шумит взбудораженный город, рыщет в голых деревьях холодный ветер, и оглушающая музыка несется из рупора. «Что случилось?» – спросите вы. Ничего заслуживающего внимания. То ли знакомый окликнул вас, то ли думы нагрянули… Меня, Константин Михайлович, занимает вопрос, куда девались раздражения – зрительные, слуховые, – когда луна их словно затмила? Что стало им на пути и где они, наконец, застряли?
Возбужденный собственной фантазией, ассистент встал, прошелся по своей маленькой лаборатории и, словно опасаясь, что его прервут, на ходу продолжал:
– Мне кажется это странным и почти необъяснимым. Почему, например, одни вещи глубоко затрагивают нас, а другие как бы обходят наши чувства? У одних раздражитель поднял настроение или, наоборот, вселил тревогу и страх, а мы его вовсе не ощутили. Непостижимым путем это жизненное явление достигло сознания одних и было отвергнуто восприятием других. Будучи голодны, мы тонко различаем запахи кухни и можем не воспринять аромата духов. Сытый не почует стряпни и проявит чувствительность ко всякого рода ароматам. Никаким возбуждением отдельных центров этого нельзя объяснить. Ведь и в состоянии полнейшего покоя большинство раздражений не достигает наших чувств или доходит частично: вас окликают, вы не слышите голоса, но автоматически оборачиваетесь…
– Для иллюстрации вашей идеи, – сказал ученый, – напомню вам один из примеров, приведенных Павловым… В одной постели спят две сестры. Из колыбельки среди ночи раздаются всхлипы ребенка. Одна сестра просыпается, торопится успокоить дитя, другая не слышит, спит как убитая. Но вот за окном раздаются шаги. Сестра-мать крепко спит, а та, которая ждет вестей от больного супруга, вдруг просыпается…
Таких примеров миллион, привести их на память легко, труднее найти им объяснение. Пшоник знает, что все органы, сосуды и мышцы сигнализируют о своем состоянии в головной мозг и снабжены аппаратами, воспринимающими импульсы из этой высшей инстанции. Кто ему скажет, по какому принципу одни сигналы достигают органа, формирующего наше сознание, а другие остаются за порогом? Куда деваются раздражения, отвергнутые корой? Кто их поглощает? Они не могут исчезнуть. И за порогом наших чувств эти импульсы должны оказывать влияние на нашу жизнь.
Быков испытующе взглянул на помощника и, словно отвечая собственным мыслям, задумчиво проговорил:
– Так вот вы о чем… Вас интересуют события, разыгрывающиеся ниже порога сознания, то, что психологи называют подсознанием… Так бы и сказали… Куда деваются импульсы, спрашиваете вы, отвергнутые корой больших полушарий? Я полагаю, что и те и другие сигналы из внешнего и внутреннего мира «хранятся» под порогом коры больших полушарий и постоянно отражаются на нашем существовании. Каждая временная связь складывается из внешних и внутренних влияний, действующих сейчас и некогда оставшихся за порогом сознания. В новой ситуации они получат доступ к коре и выполнят свое назначение…
– Мне кажется, – несколько сдержанно произнес Пшоник, – что в этом случае мы решаем скорей психологическую, чем физиологическую задачу.
Ученому послышался в этом ответе едва скрываемый холодок. Помощник, видимо, не ждал, что все объяснится природой временных связей.
Удивленный взгляд учителя несколько смутил ученика, и он поспешил поправиться:
– Я, как и вы, не отрываю эту сигнализацию от той, которая следует из внутренних органов, у них общая природа…
Быков промолчал. Он знал своих помощников, знал, как трудно им порой его понять. Все они пришли к нему взрослыми людьми, с собственными целями в жизни, стали физиологами и оставили занятия, к которым готовились с детства. Удивительно ли, что у каждого из них свои рецидивы – свой груз заблуждений и ошибок. Всякое бывало: и Пшоник и другие не всегда соглашались с учителем, уходили, чтобы вновь вернуться к нему.
Много времени спустя ассистент представил Быкову объемистую статью, густо начиненную плетисмограммами, схемами и кривыми. В ней говорилось о «сенсорном» и «пресенсорном», об «аксонрефлексах», о «латентной фазе», которая сменяется «нулевой», об «интраорганных рецепторах» и о многом другом. Если отказаться от стиля автора статьи, от его склонности к психологической терминологии, к греческой и латинской лексике, и если присовокупить то, что в статью не вошло, хотя и было предметом размышлений исследователя, события, изложенные в рукописи, можно было бы представить в следующем виде.
Увлеченный мыслью проследить восхождение внешнего раздражения до коры головного мозга, туда, где нечувствительное становится чувствительным, увидеть, как предощущение останавливается под порогом сознания, чтобы прорваться и стать ощущением, он приступил к опытам.
Ему нужен был раздражитель, который медленно дает о себе знать и постепенно становится чувствительным. Импульсы, возникающие под его действием, должны исподволь следовать к цели – к высшим отделам мозга. Растянутое во времени раздражение даст ему возможность разглядеть все стадии его продвижения.
Из всего арсенала современной фармакологии ассистент избрал самое несложное средство – горчичник. Он не сразу вызывает ощущение боли, а если разжижить горчицу, можно его чувствительность еще более замедлить.
Первыми помощниками Пшоника были члены его семьи, на них он проверил то, что потом повторил на испытуемых. С часами в руках исследователь наблюдал, как розовела кожа на руке дочери, как под действием горчичника нарастала краснота, а с ней и боль, изучил, какой концентрации должна быть горчица и сколько времени отделяет одно самочувствие испытуемой от другого.
Своих добровольных помощников в лаборатории он предупредил:
– Не беспокойтесь, пожалуйста, опыты не причинят вам боли. Ваше дело сидеть спокойно, опустив руки в аппарат, где ведется учет биению пульса и сокращениям сосудов.
Он, разумеется, не обмолвился, что наложил им на руки небольшие горчичники – пластинки диаметром в три сантиметра. Никто не должен был знать, что опыты связаны с горчицей.
В то время Пшоник не все еще продумал и плохо представлял себе, куда исследования его приведут.
Итак, руки испытуемых, опущенные с горчичниками в аппарат, биением собственного пульса записывали состояние кровеносных сосудов. Исследователю оставалось лишь наблюдать.
В течение первых восьми минут ни в состоянии пульса, ни в самочувствии испытуемых перемен не произошло. На девятой минуте линии записи на закопченной бумаге аппарата стали искривляться – это значило, что стенки сосудов расширялись. Прошло еще три минуты, и обозначилась новая перемена – стенки стали спадать, и тут же испытуемые ощутили жжение на запястье рук. Три стадии определились в опыте: начальный покой, длившийся восемь минут, предощущение, отмеченное на девятой минуте расширением сосудов, и, наконец, чувство боли, совпавшее с их сужением. Физиолога интересовала пауза предощущения, когда импульсы «стучатся» у преддверия мозга, чтобы там породить ощущение.
Может ли экспериментатор способствовать тому, чтобы предчувствие стало подлинным чувством, или, как сказал бы психолог, подсознательное обратилось в сознательное?
Пшоник призвал на помощь метод временных связей. Подавленные импульсы, рассудил он, те же безразличные для мозга раздражители, каких множество на каждом шагу. Удается же физиологу открывать им дорогу в мозг? И бульканье воды, и звучание трубы, не достигающие подчас сознания, достигнут его, если связать их с жизненно важным чувством. Нельзя ли и паузу предчувствия, вернее – подавленные импульсы, связать в коре мозга с действием условного раздражителя и сделать их таким образом чувствительными?
Какое наивное предположение! Можно образовать временную связь между голодом, болью, страхом, с одной стороны, и любым раздражителем – с другой. Условная сигнализация будет затем действовать так же, как голод, боль и страх. Но можно ли предощущение, то есть состояние, когда самого чувства еще нет, связывать с чем бы то ни было? Минуты предчувствия – это мгновения, когда механизмы будущего чувства пущены в ход, но не доведены до конца. Могут ли они стать почвой для временной связи?
Это был серьезный вопрос. Исследователю предстояло над многим подумать, долго и упорно трудиться, искать в книгах совета, как подступиться к так называемому предощущению. Все призвал себе на помощь экспериментатор: и науку, и искусство, и литературу. Подле ученых трактатов легли романы, повести, стихи. Исследователь не жалел для них ни усердия, ни времени. Сколько мыслителей и художников оставило плоды своего вдохновения – неужели они не помогут ему? Чувства, предчувствия, проснувшиеся и забытые, вновь воскресшие, чтобы исчезнуть, – кому, как не художнику, знать их природу! О них повествует великий Пушкин:
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бурю жду,
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду.
Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.
О предчувствии страдания, о том ощущении легкого дуновения, которое предшествует припадку; повествует Достоевский.
Аура – это сигнал из глубины организма, который достигает сознания, это предчувствие, воплощающееся в чувство. Что дает ауре силу доходить до коры?
Благотворная мысль, она вернула исследователя к физиологии. Почему только аура? Ведь и сигналы из внутренних органов, не достигающие обычно коры, одолевают это препятствие и с деятельностью печени, почек, селезенки и сердца вырабатывают временную связь. Любой внешний раздражитель, будь то звучание трубы, луч света или дуновение ветра, действие которых совпало с возбуждением, возникшим в одном из таких органов, будет его затем возрождать – станет, таким образом, его спутником в следовании к коре головного мозга. Собака, которую подкармливали во время орошения желудка водой, роняла слюну всякий раз, когда орошение повторялось. Сигналы из желудка, не доходящие обычно до больших полушарий, доходили до них.
Так родилась идея найти импульсам предощущения спутника, способного довести их до коры, Надежду эту возложили на свет синей лампы.








