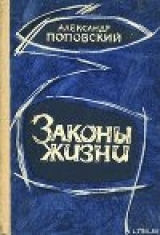
Текст книги "Пути, которые мы избираем"
Автор книги: Александр Поповский
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
Пернатые освоились в городе. Ни стрельба из зениток, ни взрывы артиллерийских снарядов их не пугали. По улицам слышалось пение синиц и зеленых лазоревок, неведомо откуда появились московки. Над Невским проспектом пели жаворонки. В мае можно было слышать пение пересмешек и пеночек-весничек. Вдоль набережных бегали белые трясогузки. Они гнездились в покинутых домах и под городскими мостами. На углу улицы Гоголя и Невского гнезда ласточек образовали колонию.
В дневнике Лукиной запечатлено много трогательного о птицах в блокаде.
«…Наблюдая за отгрузкой материалов для завода, я заметила, что на машину с ящиками маргарина спустилась стайка скворцов. Они деловито суетились взад и вперед, подбирали своими длинными, как пинцеты, клювами выступивший из щелей маргарин. Я никогда не видела, чтобы скворцы ели жир, да еще с такой удивительной жадностью… Во второй половине зимы на дворе завода появились стаи ворон. Они опускались на бочки с омыленным жиром, негодным для еды, и поглощали эти отбросы. Я поняла, что и они голодны!.. Зарево и канонада задерживали в городе птиц, которым пришло время лететь на юг. Скоро конец октября, а скворцы, вместо того чтобы лететь к Средиземному морю, все еще тут, над заводом. Они очень голодны, не обращая внимания на людей, собирают на ящиках застывшие капли маргарина… Голубей к зиме вовсе не стало, воробьи от голода и холода почти все погибли. Те, которые уцелели, пристраиваются к людям поближе. К нам в заводскую лабораторию залетели два воробья и остались тут жить. Мы крошим им хлеб и ставим снег для питья. Воду ставить нельзя, она замерзает. Другую пару приютили в одном из цехов… Идешь по улице весной, вдруг мимо порхнет горихвостка. Где же она поселилась? Вот она красуется с красновато-бурой грудкой, ярко-черной манишкой, синеватой спинкой и буро-коричневыми крыльями. Красноватый хвостик все время дрожит. Сидит в выбоине каменной стены, в кирпиче, словно в дупле обосновалась. Тут же выпархивают серые мухоловки. Их гнездо рядом – в разрушенной снарядом стене. Они на крыше ловят мух, живут здесь, как в лесу. Крик птенцов тут раздается так же отчетливо, как где-нибудь на берегу тихой, заросшей кустарником речки…»
Они беседовали – ученый и его подруга, и взволнованно обсуждали свои наблюдения, счастливые, что день не прошел для науки бесследно. Ко многому из того, что было рассказано, они вернутся еще, некоторые наблюдения станут темой отдельных исследований, а сейчас в эту ночь им предстоит лечь без ужина спать…
Миновала блокада, выжили ученый и его подруга, выжили и птицы. И соловей, и варакушка, и серая мухоловка, и белая трясогузка выдержали осаду Ленинграда. Промптов мог наконец вернуться к своим искусственно воспитанным птицам, чтобы разглядеть инстинкт в его естественном виде.
Вот выкормыш-зяблик, выведенный на свет канарейкой. Он не слышал песен своих собратьев по виду, вместе с ним жили только щегол и приемная мать. И зяблик стал рано им подражать. Ограниченный, однако, своими вокальными средствами – строением голосового аппарата, – он все своеобразие песен щегла и канарейки уложил в короткую законченную трель. Ни один зяблик, выросший в родительском гнезде, не признал бы по голосу сородича в этом певце. И с другими питомцами лаборатории случилось то же самое. Лишенные возможности усвоить пение родителей, они строили свою песню из всего, что звучало вблизи. И щебетание, и чириканье, и свист, и урчание скворцов укладывались в их своеобразный напев. Те же выкормыши, вокруг которых вовсе не было птиц, навсегда сохраняли щебет ранней поры своей жизни.
Позывные крики родителей на воле, их крики страха и угрозы машинально вызывают у птиц определенный ответ. И раздражитель – позывные голоса, и отклик организма – врожденные. Как же это проявляется у питомцев лаборатории?
У синиц, воспитанных в клетках, крики страха, тревоги и зова вызывают безошибочный ответ. Этим исчерпывается все, на что они способны автоматически отзываться. Сложность и богатство всего набора призывов им недоступны. В процессе борьбы за существование выросла и усложнилась звуковая сигнализация птиц. Одни возгласы служат средством общения родителей с детьми, другие – взаимопониманию самцов и самок, третьи – связью между особью и стаей в коллективной защите. Каждый крик – стимул, определяющий поведение птиц. Язык этот рождается в гнезде и совершенствуется в последующей жизни. Стереотипно повторяющееся звучание вырабатывает на это двигательный ответ, схожий с инстинктивной реакцией. Выкормышам эти преимущества не были известны. Они не только оставались глухими к многообразной сигнализации, но и не умели ее воспроизводить. Нечто подобное повторилось с инстинктом размножения.
В определенное время у птиц возникает стремление подбирать прутики, пух, стебельки. Влечение это с каждым днем нарастает. С утра до позднего вечера пернатый строитель жадно разыскивает все, что может служить его делу. Независимо от того, будет ли в клетке достаточно прутиков или не будет их вовсе, созидательный пыл проявится с одинаковым рвением. Лишенная строительных средств, птичка клювом захватит у себя перья на груди и, пригнув голову, будет носиться точно нагруженная добычей. Этот голод не утолить ничем, страсть не уляжется, пока не будет свито гнездо. Все последующее как бы предначертано: и характер и качество строительных средств, и местоположение брачного жилища, и даже время пребывания в нем. Луговой чекан пристроится под кустиком конского щавеля, на котором он так любит сидеть; чечевица обоснуется на черемухе; зеленая пеночка – в лесной канавке, в крутых мшистых склонах ее. Каждому виду словно предопределено, из какого именно материала ему строить гнездо, из чего вить основание и чем выстилать его. У коноплянок поверх прутиков ляжет слой перьев и волос, у щегла на волокнистом каркасе – растительный пух, у жаворонка на стеблях – сухая трава. Во всем как бы господствует извечный порядок, все словно отмерено раз и навсегда.
Промптов усомнился в непреложности и категоричности всех этих элементов инстинкта. Наблюдения не раз убеждали его, что при известных обстоятельствах птицы нарушают врожденный распорядок, отступают от присущего их виду шаблона. Так, в районах, прилегающих к госпиталям, исследователь находил гнезда славок и зябликов, свитые частью из ваты; гнездо зеленушки – с вплетенным марлевым бинтом и тонкой упаковочной стружкой. Одна птица даже оплела свое жилище нитками различных цветов. Елизавета Вячеславовна видела однажды, как синица-самка, прицепившись к голенищу валенка, расщипывала его сильным клювиком и целыми пучками уносила надерганный войлок в свою дуплянку.
Пернатые отказывались от материала, отведенного им природой, и обнаруживали свободу в выборе строительных средств. Собственные склонности и жизненный опыт порядком оттесняли требования инстинкта гнездостроения.
Промптов задался целью решить, зависит ли характер материала, из которого сложено гнездо, от ресурсов природы. Подсказывает ли опыт решение там, где у птицы есть возможность выбора?
Эксперименты проводились в пору гнездостроения. Исследователь вносил в клетку все необходимое для воссоздания гнезда и при этом наблюдал поведение птиц.
Пернатые явственно обнаруживали склонность к разнообразию и комфорту. Помимо еловых прутиков, составляющих основу гнезда, коноплянка не отказывалась от сена и мха. К обычной для нее подстилке из ниток, перьев и волос она прибавила паклю и вату. И канарейка, и зяблик, и чиж, и зеленушка, и мухоловка, и щегол благожелательно отнеслись к необычной для них хлопковой и льняной подстилке. Серая мухоловка свила свое гнездышко из прутиков и пакли вместо корешков и трав. Собственные склонности решительно определяли поведение птиц. Даже само формирование гнезда не было целиком автоматично. Сказывалось влияние нервно-мышечных согласований, усвоенных тренировкой при добывании корма или передвижении на ветвях, – опыт пользования клювом и лапками…
Так ли это на самом деле? Действительно ли труд и сноровка отражаются на качестве построенного гнезда? Разве эти приемы не наследственны?
Предметом исследования сделали канареек в возрасте одного месяца. Их разделили на две группы и разместили в клетках. В одних жердочки лежали горизонтально, и птицам легко было садиться, а в других вместо жердочек неудобно расположили ветви кустарника. Опора уходила из-под лапок канареек: ни садиться, ни примащиваться нельзя было без труда. Кусты клонились вниз, а почки звали, манили вверх, туда, где не устоять, не расправить крылья. Как только канарейки приноравливались доставать пищу, расположение веток меняли. Пернатым приходилось вновь приспосабливать свои движения. Это была тренировка, которой позавидовал бы искусный акробат.
Легче проводила дни первая группа канареек. По горизонтально лежащим жердочкам можно прыгать весь день, ни сноровка, ни искусство для этого не надобны.
Весной всех канареек разделили на пары и рассадили по клеткам, в которых вместо жердочек неудобно расставили ветви кустов.
Мы позволим себе здесь небольшое отступление.
С тех пор как канарейки были вывезены с Канарских островов и искусственно разводятся в клетках, они утратили способность вить себе гнезда на развилке куста. Птицы все еще пытаются приладить себе гнездышко, но из этого ничего не выходит. Чтобы помочь им, в клетку ставят веревочную чашечку, которой они пользуются для гнезда. Если не дать им этой искусственной основы, они будут порхать со строительными материалами в клюве, но брачного жилища так и не построят.
Тем любопытней было проследить, как поведут себя различно упражнявшиеся птицы.
Нетренированные канарейки, как и следовало ожидать, не могли соорудить гнезда. В бесформенную груду строительного материала они откладывали яйца, которые выпадали и гибли. Зато упражнявшиеся сверстницы пристыдили подруг: в своих крепко слаженных гнездах они вывели птенцов. Опыт, усвоенный ими на ветвях в клетке, усовершенствовал их мышечные координации и повысил способность пользоваться в работе лапками и клювом…
Пришла очередь решить, в какой мере инстинктивно у птиц самое насиживание яиц.
Влечение к насиживанию возникает у птиц под действием желез внутренней секреции – шишковидной железы и яичников. И срок и характер его зависят от времени, необходимого для вызревания птенцов. Это свойство пернатых оставаться на яйцах строго определенный срок объясняют исключительно действием инстинкта. Промптов добивался узнать, так ли это на самом деле или сроки эти условны и контролируются опытом птиц.
Эксперименты велись в природе и в лаборатории на коноплянках, зарянках и садовых славках. Подкладывая им насиженные яйца, ученый ускорял появление птенцов или, наоборот, подменяя насиженные яйца свежеснесенными или неоплодотворенными, этот срок удлинял. Так, зарянки вместо обычных тринадцати дней насиживали до тридцати. Садовая славка обзавелась птенцами на седьмой день. Канарейки проводили на яйцах от пяти суток до тридцати. Во всех этих опытах наблюдалась любопытная закономерность: в зависимости от удлинения или сокращения срока насиживания яиц соответственно раньше или позже пробуждался инстинкт кормления.
Бывало, и не раз, что, обнаружив досрочно рожденных птенцов, птичка, как бы пораженная неожиданным зрелищем, замирала. Некоторые упрямцы из молодняка пытались сидеть и на птенцах. Старые птицы, многократно гнездившиеся, легко одолевали свое «смущение» и начинали кормить птенцов. Было очевидно, что не безотчетный механизм определял время, необходимое для насиживания яиц, а реальный факт – появление потомства…
Не все в насиживании оказывалось инстинктивным. Многое зависело и от прежнего опыта наседки – от возникших и упрочившихся временных связей.
Интересные вещи стали твориться в лаборатории, когда предметом исследования стал инстинкт кормления птенцов. Эта деятельность у птицы пробуждается обычно видом раскрытого клюва и писком голодного птенца. Было важно решить, целиком ли безотчетно это врожденное свойство или птица может и не откликнуться на свой внутренний голос, действовать иной раз, как подскажет ей опыт.
В клетку самки лесного конька подсадили полуоперившихся птенцов горихвостки. Хотя позывы приемышей отличались от позывов крошек коньков, приемная мать привязалась к питомцам и выходила их. Выкормыши были вскоре унесены, и их место заняли птенцы серых славок. Воспитательница, у которой образовалась временная связь между инстинктом кормления и писком горихвосток, услышав новые голоса, впала в беспокойство, но все же стала кормить птенцов.
Спустя несколько дней горихвосток вернули под опеку конька. Прежняя временная связь пробудилась, и приемная мать отдавала им предпочтение перед славками.
Промптов задумал подвергнуть испытанию сокровеннейшее чувство лесного конька, поставить его перед выбором – кормить ли птенцов своего вида или чужого, с которым он образовал временную связь. Предпочтение, оказанное лесным конькам, подтвердило бы, что врожденная нервно-мышечная деятельность автоматически включается при криках родного птенца. Кто бы подумал, что самка лесного конька предпочтет чужих питомцев питомцам своего вида! Она яростно клевала и гнала подсаженных к ней коньков… Возможно, она со временем и привыкла бы к ним, как привыкла к горихвосткам и славкам, на позывы которых у нее образовалась временная связь, но это не устранило бы того факта, что птица может не откликаться на внутренний зов, противопоставить автоматизму собственный выбор, основанный на опыте и привычке.
Исследователь сделал следующий шаг: он задался целью решить, как далеко простирается влияние временных связей на половой инстинкт. В какой мере навыки способны этим инстинктом управлять? Как выглядело бы, наконец, поведение птицы, руководимое одним лишь инстинктом?
В своих ранних работах Промптов встретился как-то с серьезным препятствием. Пернатые, размножающиеся обычно весной и ранним летом, отказывались обзаводиться потомством в поздние летние месяцы. По этой причине порой даже приходилось начатые опыты оставлять. Полагая, что природная обстановка, раз связавшись в мозгу с известным поведением птицы, будучи искусственно воссозданной, может это поведение воспроизвести, Промптов устраивает в клетках видимость природной среды, весенней поры и добивается успеха. Еловые ветви, развилки куста в окружении свежей зелени, прутики, волос, перья, искусственное удлинение зимнего дня создают у самки готовность строить гнездо.
Всего вероятнее, что инстинкт размножения пробуждается весной под аккорды временных связей, под действием предметов и явлений, образовавших уже однажды эту связь в мозгу или образующих ее впервые…
Когда Промптов отсадил птенчика-зяблика, чтобы вырастить его вне птичьего круга, он не подозревал, как много неожиданного это принесет с собой. Кто бы подумал, что скромный питомец посрамит авторитеты науки, опровергнет утверждения Галлера и всех продолжателей его! «Животные по своей природе, – твердили они, – не нуждаются в каком-либо учении… Животные скорее вследствие игры инстинкта, нежели влияния разума, исполняют свои искусные действия». Самка зяблика доказала обратное. Лишенная опыта, заимствованного у родителей, и возможности кому-либо подражать, она не только не способна была многое делать, но не могла даже вывести птенцов.
Все проявления инстинкта были у нее наготове. Не хватало лишь одного – опыта, в какой связи и последовательности эту деятельность осуществлять. Птичка носила строительный материал, ворочалась в веревочной чашке, как бы формовала ее, но не вила гнезда. Собранные прутики и мох она перекладывала с места на место, роняла и поднимала, явно не зная, как поступить. Когда в клетку поставили готовое гнездо, она по частям его растащила. Яйца она откладывала где придется – в кормушке, водопойке – и ни разу не снесла их в чашке-гнезде. Подложенные ей чужие она расклевала. Ни минуты ее не видели в состоянии насиживания, хотя для этого у нее были все основания. Инстинкт кормления проявил себя не менее странно: птичка набрала полный клюв корма и долго носила его, не пытаясь кормить подсаженных к ней птенцов, Беспорядочны были и проявления инстинктов и самая последовательность их. Так, во время кормления снова начинался сбор гнездового материала.
Ученый мог убедиться, как мало сами по себе значат инстинкты, если временные связи не сопутствуют им. Врожденное оказалось врожденным лишь отчасти.
Так обстояло с питомцами, выросшими вне круга птиц. Не многим лучше вели себя выкормыши, воспитанные в лаборатории в птичьей среде. Они также были, неполноценны. Можно с уверенностью сказать, что только естественные условия природы с ее гаммой раздражителей, рассеянных всюду, внутри и вокруг гнезда, могут сформировать нормальный организм. Лишь родная стихия последовательно обогащает наследственные задатки жизненно важным опытом.
Выкормыши нисколько не дорожили свободой. Выпущенные на волю, они спешили вернуться под гостеприимный кров. Когда понадобилось как-то «сократить штат» синиц, Промптов надел одной из невольниц кольцо на лапку, записал номер и с грустью выпустил ее. К вечеру вольноотпущенница влетела в окно соседнего дома. Неспособная найти себе пищу, без умения ее искать и добывать, она стремилась вернуться туда, где корма всегда было много. Людские голоса, обычно пугающие птицу, не только не тревожили, а влекли ее. Инстинкт самосохранения не пробуждается прежде, чем организм научится различать добро и зло. Наши дети не избегают огня, пока не обожгут себе руки. Именно опыт укрепляет инстинкт самозащиты. Под надежной охраной человека выкормыш, не знавший испытаний, не отличает друзей от врагов. Возможно, он даже никогда их не узнает.
Взращенные вне своего естественного круга, где господствует борьба за существование, свободные от необходимости добывать себе пищу, питомцы лаборатории, бедные жизненным опытом, надолго сохраняют поведение птенца. Трех месяцев они всё еще ждут корма из рук, хотя бы пищи кругом было в изобилии. Наевшись, они тут же засыпают, чтобы, проснувшись, сообщить о вновь пробудившемся голоде. И движения и полет их несовершенны. Выпущенные из клеток, они, словно подверженные действию сбивчивых импульсов, то стремительно отлетают, то словно застревают на месте. Птицы, выросшие в нормальной среде, не признают их своими и не принимают в свой круг. Не различия в оперении и в инстинктах вызывают эту неприязнь, а особенности их поведения: степень оснащения временными связями – жизненным опытом.
Когда исследователь совмещает в себе черты натуралиста и конструктора, наблюдателя природы и творца хитроумных приборов, это обычно к добру не приводит. Трудно естествоиспытателю, склонному в наблюдениях обнаруживать законы, мириться с механизатором, ищущим новое в комбинации изолированных частей. На этот раз случилось иначе: и то и другое увлечение пришлись к месту, оба оказались кстати.
Промптова пленили механизмы инстинкта – нервно-мышечные сочетания, – одинаково близкие по своей сути конструктору и физиологу. В этой новой задаче не было приволья для механизатора, нельзя было эти аппараты разбирать на части, увидеть инстинкт расчлененным. Зато открывалась счастливая возможность, наблюдая единство врожденного и приобретенного, приблизиться к живым механизмам, чтобы их изучить.
Нам трудно сказать, когда эта задача впервые пришла ему в голову: за шахматной ли доской – излюбленным местом его отдыха, в кино ли, где ученый охотно и часто бывал, или за верстаком, когда он совершенствовал свои ловушки. Одно несомненно: новая задача не была плодом досужего мудрствования и любопытства. Промптов-натуралист не позволил бы Промптову-механизатору отводить исследование от нормального русла. Предстоящее имело свой смысл и значение.
Прежние исследования показали ученому, как проявляются врожденные свойства у птиц, воспитанных вне круга пернатых сородичей и вне присущих им природных условий. В первом случае инстинкты, не поддерживаемые влиянием птиц своего вида возмещали эту недостаточность навыками, заимствованными у чужих. В худшем положении оказывались те, которые выросли в лаборатории: они не были способны поддерживать свое существование.
Исследователь был близок к тому, чтобы различить границы между наследственным и усвоенным в жизни, но снова выросла помеха: мешала не сложность инстинкта, а необычайная подвижность временных связей. Приобретенное заслоняло врожденное уже с первых мгновений жизни. Едва птица впервые раскрывает глаза, поток навыков начинает вплетаться в ее поведение. Уже первые движения птенца не проходят бесследно для врожденных сочетаний двигательного аппарата; второй прыжок заключает в себе опыт предыдущей неудачи. Первый полет птицы всегда безуспешен. Будучи автоматичным, он при посадке нуждается в четкой координации крыльев, ног и хвоста – искусства, приобретаемого опытом. Легко ли в этакой динамике отделить наследственное от приобретенного? Какими средствами отличить пределы ловкости и силы, присущие виду, от того, что приобретено упражнением и трудом? Как решить, например, что именно в темпераменте свойственно птице и что стало наслоением последующих лет? Проследить эти особенности» на множестве особей одного вида? Разве относительно одинаковые условия жизненной среды, будь то в природе или в обстановке лаборатории, не выравнивают особенности типа?
Вот что занимало Промптова, когда он представил институту свой план. Чего бы это ни стоило ему, он должен увидеть инстинкт расчлененным, взглянуть на него непосредственно. В этом ему поможет метод скрещивания. В поведении потомства он будет выделять врожденные свойства каждого из родителей. Если гибрид чижа и канарейки станет подвешиваться вниз головой, чтобы с веточки достать себе семечко, как это свойственно чижу, можно будет не сомневаться, что такая координация врожденная. Чиж – великий подражатель, его пение – сплошной музыкальный плагиат. Воспроизводить чужую песнь может лишь тот, кому позволяют это голосовые средства. Окажись у гибрида способность имитировать, ее следовало бы признать врожденной. Изучить таким способом детали инстинкта – значит решить, где его основа и где наслоение, найти заветную черту, где врожденное граничит с приобретенным.
Для начала исследователь скрестил дикую коноплянку – обитательницу молодых рощ и зеленых изгородей – с узницей с Канарских островов. Предстояло выяснить, какие черты Родителей заимствуют гибриды. Что возьмет у них верх: вялость ли канарейки или неугомонность дикаря? И, что важнее всего, в каком виде эти свойства проявят себя?
Как именно измерить свойства птичьего темперамента, меру его подвижности и вялости – внутренний жар и холодность, – Промптова не затрудняло. Он рассадил по клеткам высиженных и выращенных в лаборатории птиц и занялся подсчетом, сколько прыжков сделает каждая в продолжение суток. Собранный им аппарат искусно раскрыл степень живости птичьих натур. Канарейка в течение дня перемахнула с жердочки на жердочку пять тысяч раз. Цифры эти были математическим выражением меры ее активности. Коноплянка, в свою очередь, попрыгала на славу: шестнадцать тысяч скачков за то же время записал аппарат на счет попрыгуньи.
Таковы были родители.
Гибриды унаследовали свойства дикой коноплянки. Посаженные в клетку, где жердочка замыкает электрическую цепь, неспокойные потомки за день проделывали по двенадцати тысяч скачков. С кем бы канарейку ни скрещивали – с чижом ли, зеленушкой или щеглом, – результаты были те же. Активность дикой птицы преобладала над свойствами одомашненной.
Важная деталь видового инстинкта – подвижность – была таким образом обследована. Временные связи будут с годами ее колебать, птицы станут степенней или, наоборот, более подвижными, но исследователя это уже не обманет. Цифры, занесенные в дневник наблюдений, будут как бы границей между тем, что гибридом усвоено и что у него врожденно.
Путем скрещивания обследовали и другую особенность полового инстинкта – гнездостроение. Предметом изучения было потомство канарейки и коноплянки, а темой – вопрос, чьи врожденные координации унаследуют гибриды. Какое гнездо они совьют? Канарейки, как известно, почти утратили способность строить себе брачное жилье. Тем любопытней, как поведут себя гибриды.
Снова сказалось преимущество дикого родителя: гибриды вили гнезда на развилке куста, как это свойственно коноплянкам. Наблюдая их приемы строительства, можно было в отдельных нервно-мышечных сочетаниях, характерных для одного из родителей, отграничить врожденное от приобретенного.
Между птенцами коноплянки и потомством канарейки существует еще такое различие. Коноплянкам свойственно перед первым вылетом и при малейшей опасности выбрасываться из гнезда, у канарейки этой особенности нет. Природа присвоила гибридам защитные механизмы дикого родителя. Малейшее сотрясение гнезда вызывало у птенцов паническое бегство.
Расчленение и изучение инстинкта продолжалось. Промптов искал новых и новых путей. Иногда они приводили к успеху. Так, сын певуньи-канарейки и имитатора-чижа не только оказался превосходным подражателем, но и оригинальным певцом, унаследовавшим от канарейки ее звонкие трели.
Бывали и неудачи: попытки скрестить воробья с канарейкой ни к чему не привели. Помешало так называемое несходство характеров. Вначале как будто все шло хорошо. Будущие супруги стали строить гнездо из материалов, сложенных в клетке. Канарейка забралась в веревочную чашку и долго подбирала под себя паклю и вату. Ее сменил воробей. Он яростно набросился на мягкую подстилку и в соответствии со склонностью обитателей застрехи стал паклей затыкать все щели клетки, где находилось гнездо. Канарейка еще раз собрала растерзанную подстилку и вновь уложила ее по-своему. Воробей не сдавался. Выждав, когда подруга покинет веревочную чашечку, он принялся за свое. На этот раз упрямец не упустил ни одной щелочки. От пакли и ваты не осталось в гнезде и следа. Различие в способах гнездостроения оказалось непреодолимым, и Промптов решил их разлучить.
Нелегкое дело получать гибридов у птиц.
В продолжение многих десятилетий изучение пернатых велось двояко: натуралисты наблюдали птиц в естественной обстановке, анализируя их поведение средствами психологии, а физиологи в лабораториях определяли их способность образовывать навыки, различать цвета, выбираться из лабиринта и многое другое. Биологи не связывали свои заключения с выводами физиологии, а физиологи, в свою очередь, не учитывали в своих опытах результатов, добытых биологией. И те и другие накопили немало замечательных фактов, но разрозненный, лишенный единства материал не способствовал пониманию видового поведения пернатых.
Промптов сочетал наблюдения биолога с экспериментом физиолога. Работы натуралиста с биноклем и кипрегелем в лесу, у стенки скворечника, на чердаке или за аппаратом, регистрирующим жизнь гнезда, восполнялись опытами над выкормышами и выведением гибридов-птенцов.
Именно догадка физиолога подсказала натуралисту, что гнездо – «лаборатория» в природе, где вырабатываются основные временные связи. Все в этом маленьком мире шаблонно: и жизнь, и среда, и питание. Шаблонны события, действия родителей, их движения и голоса, непоколебим стереотип поведения. И в дупле и под елкой, в низеньком кустарнике и на вершинах деревьев повторяется одно и то же. Из часа в час, чередуясь, идет одинаковый поток раздражений: за криком матери следует корм, за тревожным сигналом пробуждается страх. Сотни сигналов в течение дня ритмично и последовательно вызывают гамму ответов, составляющую в целом поведение птиц. На эту основу жизнь наслоит множество временных связей. Они будут задерживать отжившие навыки, чтобы, в свою очередь, разделить их судьбу. Так будет длиться, пока этим сменам не будет положен предел. Придет время – и навыки, приобретенные птицей, станут оковами для нее. Как застарелые привычки, они окостенеют, враждебные новым временным связям. Поведение птиц станет рутинным, как и поведение прочих животных на склоне лет.
В начальную пору жизни питомца лаборатории можно научить воспринимать чужое пение. Птица быстро усваивает это искусство. Однако то, что достижимо у источников птичьего века, невозможно спустя несколько лет. Птица не воспримет уже новых песен.
Промптов как-то приучил соловья и славку исполнять «чижика». До года птицы легко воспринимали музыкальную науку и с трудом ее усваивали в более поздние годы.
С возрастом автоматизм сковывает всю деятельность пернатых. Нет такой области в их поведении, которую бы рутина пощадила. Скворечник, перенесенный на десять метров от своего места, становится для стрижа чужим. Он бросит гнездо и не вернется в него. Однако, если передвижку делать постепенно – по одному метру в день, – птица своего жилища не оставит, но, возвращаясь в него, будет направлять свой полет туда, где стоял скворечник накануне. То же повторится, если подвешенный скворечник понемногу снижать. Подлетая к нему, стриж будет каждый раз задерживаться в том месте, где леток приходился раньше. Так силен этот автоматизм, что, летая с быстротой гоночной машины, птица ни на сантиметр не уклоняется в сторону. И еще: скворец, потерявший уже взрослым крыло, не способен перестроить свои движения. Свалившись на землю, он будет каждый раз беспомощно биться, полагаясь на опору, которой у него нет.
Малейшее нарушение жизненной системы причиняет птицам страдания. Выкормыши соловья, Черноголовки и трясогузки болезненно воспринимают всякую перемену в окружающей их обстановке. Незначительное перемещение клетки, в которой они прижились, действует на них угнетающе. Они отказываются от еды, перестают петь и даже заболевают чем-то вроде невроза.
Литература хранит немало схожих примеров, когда люди, лишившись привычной среды и обстановки или уволенные со службы, на которой провели много лет, хиреют и умирают…
Промптов мог наконец подвести итог.
Каждому виду свойственны присущие именно ему нервно-мышечные сочетания. Они определяют характер инстинкта. Эти врожденные сочетания усложняются временными связями, образуя все своеобразие поведения птицы. Накопленные навыки становятся со временем автоматичными, схожими внешне с безотчетными проявлениями врожденных свойств…
Так Александр Николаевич Промптов ответил на вопрос физиологии: «Приходит ли инстинкт в этот мир завершенным или сила его крепнет на земле?»
Одиннадцатого ноября 1948 года талантливого исследователя не стало – он умер пятидесяти лет.








