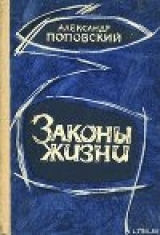
Текст книги "Пути, которые мы избираем"
Автор книги: Александр Поповский
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Первая удача
Ни в одной области знания развитие творческой мысли так не зависит от искусства ученого, как в хирургии. Возникшая идея ждет веками хирурга, который докажет ее осуществимость и сделает опыт достоянием других.
В начале XX века возникла мысль об операции, которая предотвращала бы гибель и мучения больных, страдающих от сужения пищевода. Эти несчастные, лишенные возможности проглотить пищу, либо умирали голодной смертью, либо обрекали себя на существование с искусственным отверстием в желудке. Операцию предлагалось делать так: отсечь у больного кишечную петлю с ее кровеносными сосудами, питающими ткани, затем один конец отрезка приживить выше места, где наступило сужение пищевода, а другой вшить внутрь желудка. Эту кишку-пищевод, поскольку протянуть ее под грудиной невозможно, предполагалось уложить в туннель, искусственно образованный над грудиной под слоем кожи и клетчатки на груди. Единственное неудобство: когда комок пищи пройдет по новому тракту, будет видно, как пищевод сокращается.
Осуществить такую операцию не удалось. Оперированные не выживали: начиналось омертвение кишки-пищевода, и больной либо погибал, либо вновь подвергался операции, результаты которой врач был бессилен предрешить.
Успех пришел лишь после того, как операцию видоизменили. Сделал это русский хирург, внук писателя и философа А. И. Герцена, – Петр Александрович Герцен. Он стал отсекать лишь один конец кишечной петли, приживляя его выше места сужения пищевода. Пища, таким образом, изо рта непосредственно направлялась в кишечник. Там, где пищевод проходил мимо желудка, Герцен делал небольшие отверстия в кишке-пищеводе и желудке и, сращивая их края, частично вовлекал желудок в пищеварение.
Позже эту операцию улучшили и значительно ускорили, она длилась уже не годы, а месяцы. Больному на первом этапе накладывали фистулу желудка, пищевод перерезали выше места его сужения, край пищевода выводили наружу и приживляли в отверстии на шее. При таком положении пища следовала лишь до конца верхнего отрезка и выпадала наружу в сосуд. Оперированный собирал ее и воронкой вводил через фистулу в желудок. На следующем этапе эту внешнюю связь между полостью рта и пищеварительными органами заменяли внутренней – конец изолированной кишки становился пищеводом.
Впервые увидев таких больных в хирургической клинике, Курцин подумал, что хорошо бы на них проверить опыт Павлова с мнимым кормлением – собирать у этих больных пищу, выпадающую из отверстия в сосуд, и при этом наблюдать, что происходит в желудке. Однако, прежде чем приступить к опыту, надо было ближе узнать больных. Они должны были стать его друзьями и помощниками.
Их было трое: юноша двадцати лет и две девушки – пятнадцати и восемнадцати лет. Старшая в результате несчастной любви приняла едкую щелочь.
«Эти люди душевно потрясены, – сказал себе Курцин, – надо вдохнуть в них надежду и веру». Приглядевшись к своим новым знакомым, он убедился, что они тяготятся необходимостью выплевывать пищу, чтобы снова вводить ее в фистулу желудка, и нашел средство помочь им. Он предложил соединять пищевод и желудок серебряной трубочкой с резиновым шлангом. Это будет искусственный пищевод, да и самую рану никто не увидит: девушка прикроет ее платком, а юноша – галстуком.
– Какое удобство, – убеждал он врачей. – Зайдет наш паренек в бар, выпьет кружку пива, крякнет, улыбнется, и никто не подумает, что у него нет пищевода… Мы должны это сделать, потому что нет у них других, более близких друзей.
Никто с ним не спорил, не возражал, а он снова и снова возвращался все к той же мысли.
Таков стиль работы советского врача: прежде чем лечить физические раны, он возвращает больному душевный покой…
Как было пареньку с таким врачом не подружиться? Удивительно ли, что девушка подарила этому врачу дюжину платочков, любовно вышитых ее рукой.
Опыт с мнимым кормлением во всех подробностях повторял знаменитый эксперимент Ивана Петровича Павлова, с той лишь разницей, что испытания проводились на человеке. Больному давали жареную рыбу, которая, будучи им проглочена, не доходила, однако, до желудка, так как пищеводную трубку на этот момент отводили в сосуд. Из фистулы тем временем показывались первые капельки желудочного сока, то есть повторялось все так же, как в опытах Павлова: еда служила возбудителем сокоотделения. Из полости рта по блуждающему нерву импульсы следовали к желудку. Что это именно так, а не иначе, великий физиолог доказал простым приемом: он рассек блуждающий нерв, и еда уже не вызывала отделения сока.
Легко было проделывать такие опыты в лаборатории. Но каково Курцину повторять их в клинике?
И у человека и у животного блуждающий нерв одинаково действует на железы желудка.
Но Быков обязательно спросит:
«А вы проследили пути передачи нервного импульса из полости рта к внутренним органам? У животных-то они известны. А у человека?»
Что на это ответить? Не рассекать же у испытуемых блуждающий нерв!
«Вот вам и опыты на человеке, – иронически скажет ученый. – Попробуй обойтись без лаборатории». Возможно, впрочем, и другое: Быков поможет ему, подскажет выход из затруднения. Надумает такое, что удастся, быть может, закончить работу в клинике. «Вот вам, – скажет, – совет. Действуйте, Иван Терентьевич, да смелей. Не пристало нам с вами трудностей страшиться».
Надо знать Константина Михайловича. Он именно так и сделает.
Но в таком случае его, Курцина, долг – еще раз подумать самому, хорошенько потрудиться, прежде чем обращаться за помощью к другим.
С этими мыслями он принялся за дело – и неожиданно нашел поддержку в фармакологии. Она подсказала ему, как проследить пути передачи нервного импульса из полости рта к внутренним органам. Он впрыснет испытуемым по ампуле атропина и на короткое время выведет этим из строя блуждающий нерв. Возникнет ситуация, как если бы его пересекли. Больному это не принесет ни малейшего вреда.
Закономерность, установленная Павловым на животных, подтвердилась на человеке. После введения атропина еда не вызывала у исследуемых отделения желудочного сока… И эту научную задачу удалось разрешить у изголовья больного. Важность ее вскоре сказалась и принесла медицине великую пользу.
История одного спора
Выслушав аспиранта, Быков сказал:
– Мы снова убедились, что мнимое кормление вызывает у желудочных желез отделение сока. Проверьте теперь, можно ли так же вызвать сокоотделение, раздражая желудок механически.
Странное предложение! До чего эти физиологи склонны избегать клинических тем! Что толку в таком эксперименте?
– Мне кажется, – осторожно заметил Курцин, – что опыты ничего не дадут. Павловская школа держится твердого мнения на этот счет.
– Знаю, знаю, – охотно подтвердил Быков, – однако же медики с ними не согласны. Рассудите нас, попробуйте проверить на людях. Собака собакой, а человек – особая статья, – шутя повторил он слова аспиранта.
– Пробовали и на людях, без малого сто лет, как пробуют, – возражал аспирант.
Курцин как мог отбивался от нежеланной работы. К чему она ему? Никому эти опыты не принесли ни радости, ни удовлетворения. Противники спорят по сей день.
– Многие врачи утверждают, что мы неправы. Иван Петрович нам скажет спасибо, если мы внесем ясность в этот вопрос. Попытайтесь бородкой пера или стеклянной палочкой раздражать стенки желудка. Посоветуйтесь с физиологами, они многое вам расскажут…
Спасибо за рекомендацию, но уж советоваться он будет с клиницистами. У них и опыта больше, и знаний не меньше, и добыли они их не на кроликах и собаках, а на человеке. Не следует переоценивать могущество лабораторного опыта; все тайны организма, его расцвета и упадка, страданий и благополучия будут раскрыты у изголовья больного…
– Врачи говорят, – как бы невзначай вспоминает вдруг аспирант, – что сотрудники Павлова допустили в этих опытах ошибку.
– Возможно, – легко уступает Быков.
– Так думают и некоторые физиологи.
– Физиологи? – переспрашивает ученый и некоторое время молчит.
– Многие физиологи, – невозмутимо продолжает аспирант, – согласны с врачами, что механическое раздражение желудка вызывает отделение сока.
Ученый подумал, что помощник вызывает его на откровенность, и неопределенно кивнул головой.
– И врачи и физиологи, – после короткой паузы продолжал говорить Быков, – будут вам благодарны, если вы разрешите затруднение науки и ответите, достаточно ли одного механического раздражения, чтобы железы выделяли желудочный сок.
Учитель был великодушней ученика. Он знал, что аспирант питает симпатию к клинической практике, мыслит как врач и не слишком доверяет лабораторному опыту, но зачем он противопоставляет физиологу врача? Какой в этом смысл? Через всю жизнь пронес Быков свою любовь к медицине, его привязанность к ней жива по сей день, по ту сторону лаборатории ему неизменно видится клиника…
Судьбе было угодно, чтобы благотворное влияние врачей, счастливо возникшее в дни детства Курцина, получило свое продолжение. Место дяди-профессора занял профессор Обуховской больницы Михаил Алексеевич Горшков. Знаток желудочно-кишечных заболеваний, он поддержал в аспиранте интерес к врачеванию и со временем стал его духовным отцом.
Как большинство практикующих терапевтов, профессор верил, что ложе больного – лучшая школа для познания организма. «Пройдут годы, – говорил он, – и наши потомки будут так же улыбаться над нашими потугами разгадать болезни человека по состоянию кролика, как мы взираем с улыбкой на римских гадателей, судивших о человеке и его судьбе по кишкам распотрошенной курицы».
Страстный приверженец лекарственного лечения, он воздавал должное отсталым народам, раньше нас оценившим достоинства сенеги, ипекакуаны, листьев кока и хинной корки и применявшим до нас лечение водой, паровые ванны, поглаживание и поколачивание больной части тела.
Аспирант не все разделял в суждениях профессора.
– Я не могу, Михаил Алексеевич, согласиться с вами, – сказал он ему однажды. – В ваших суждениях много восторга по адресу далекого прошлого и ни одного доброго слова в пользу тех, кто живет и трудится с нами сегодня. Как коммунист и врач, я должен вступиться за прогрессивные идеи современности. Потомки, возможно, и улыбнутся «над нашими потугами разгадать болезни», но и будут восхищаться нами.
Курцин был склонен к радикальным средствам лечения, к решительному вмешательству врача.
– Я далек от мысли выступить против лекарственных средств лечения, – сказал он Горшкову, – но как хирургу мне близки слова Парацельса: «Покой лучше тревоги, но тревога полезнее покоя».
Когда Курцин сообщил Горшкову, чем он намерен заняться, и спросил его совета, тот неожиданно пришел в волнение.
– Почетная задача, – сказал он, – весьма почетная, поздравляю.
Чем она почетная? Уж не тем ли, что к сотне противоречивых опытов ему предстоит прибавить сто первый?
– Я не вижу в этой работе ничего привлекательного для себя.
До чего молодежь безрассудна! Не приступив еще к делу, не потрудившись над ним как следует, не пожертвовав для идеи минутой покоя, они готовы от нее отречься.
Ученый помолчал, благодушно усмехнулся и с укоризной в голосе произнес:
– Было время, мой друг, когда хирургов называли шарлатанами и в метрических свидетельствах, выданных ремесленникам, писали: «Рожден в законном браке, не имеет в родне крепостных, цирюльников, банщиков и хирургов». Заплечных дел мастера причислялись также к медицинской профессии. Они, как известно, не только решали вопросы жизни и смерти, но и лечили… Снимая с дыбы свою жертву, палач должен был вправлять вывихнутые суставы. В ту пору с медиков немного спрашивали. Но вы живете, Иван Терентьевич, в советское время, когда звание исследователя делает честь человеку. Будьте же строже к своим суждениям… Порученным вам делом занимался и я. До меня интересовался им Павлов, были выводы, подкрепленные его авторитетом, и все же я дерзнул… Иван Петрович не обиделся, когда я ему заявил: «Железы желудка отвечают сокоотделением на раздражение зондом». Он пришел к диаметрально противоположному заключению, однако, выслушав меня, спокойно сказал: «Попробуем еще раз». Я был тогда не один; десятки врачей повторили мои опыты и согласились со мною. В лаборатории Павлова, где давно уже не исследовали пищеварение, вновь принялись за старое. Собакам через пищевод вводили тонкий зонд и раздражали им желудок. Опыты повторяли множество раз – и безрезультатно: железы оставались безмолвны. На съезде терапевтов было вновь и окончательно подтверждено, что механическое раздражение бессильно вызвать отделение желудочного сока… На вашу долю, мой друг, – закончил профессор, – выпала почетная задача – стать арбитром в этом старом споре…
– Простите меня, Михаил Алексеевич, – менее уверенно произнес аспирант, в равной мере смущенный упреками ученого и его искренним признанием, – эта работа не имеет значения для нас. Клиника проживет без нее…
– Ошибаетесь, мой друг, – сказал профессор. – Будет время, и вы посмеетесь над своими словами. Сейчас, когда полагают, что механическое действие на стенки желудка не усиливает отделение желудочного сока, мы разрешаем больному, страдающему повышенным сокоотделением, принимать грубую пищу. Опыт подсказывает, что этого делать нельзя, но ведь теория говорит другое.
Не без волнения приступил Курцин к заданию Быкова.
Молодой паренек, над которым проводились испытания с мнимым кормлением, согласился послужить науке. Он аккуратно приходил по утрам, готовый сделать все, о чем попросят. Исследования проводились в помещении, изолированном от всего, что могло напоминать о пище. В этой стадии исканий не было врага более опасного для опытов, чем мысль – живое представление о еде.
– Не курите, пожалуйста, – просил паренька аспирант, – отрешитесь от того, что на свете существуют завтраки и чаи… Хотите, я расскажу вам о чудесной кобылице, которая побила все рекорды на свете… Не интересуетесь лошадьми? Жаль, очень жаль… А как вы относитесь к боксу?
Непринужденный разговор имел назначение отвлечь испытуемого от мыслей о завтраке, который будет возможен лишь спустя два часа.
– Надо вам знать, – утешал он больного, – что воздержание в пище – мудрейшее изобретение самой природы…
Постится головастик, прежде чем стать лягушкой, куколка, готовящаяся стать бабочкой… И летняя и зимняя спячка без пищи – все это вынужденный и порой полезный пост.
Настроив испытуемого на благодушный лад, исследователь приступил к делу.
Промыв больному желудок, он стал раздражать его бородкой пера. Прошло немного времени, и надо прямо сказать – занятие утомило аспиранта. Уверенность в том, что у него ничего не выйдет, серьезно мешала ему. Павлов учил, и не без основания, что железы желудка откликаются лишь на строго определенные раздражения: на пищу и продукты ее расщепления, – чего ради спорить и возражать? Если механическое действие и способно вызвать отделение желудочного сока, то только в желудке, наполняемом пищей.
Может быть, попробовать средствами, близкими к естественному насыщению, оказать давление на стенки желудка? Ввести в фистулу резиновый баллон, наполнить его воздухом, затем постепенно снижать давление, как это происходит в желудке, когда пища частично переходит в двенадцатиперстную кишку. Короче – скопировать все этапы пищеварения. Пробудит ли этот опыт железы к действию?
Курцин так и поступил. В желудок ввели баллончик из тончайшей резины, наполнили воздухом и подставили склянку к свищу. Исследователь ждал ответа на вопрос: достаточно ли одного растяжения стенок желудка, чтобы железы пришли в возбуждение?
Прошло пять минут, и прозрачная влага капля за каплей потекла в пробирку.
– О чем вы думаете, мой дорогой? – с тревогой спросил аспирант.
Уж не случилось ли чего-нибудь с испытуемым? Не взбрело ли ему в голову мысленно представить себе сдобную булку?
– Со мной? Ничего… И думать я как будто не думал.
– Не подводите меня, – просил исследователь, – давайте лучше потолкуем с вами о чем-нибудь.
Темы о футболе, о боксе и кобылицах были снова отвергнуты, и аспирант поспешил заговорить о другом: о спасительных способах лечения холодом и об отважных друзьях медицины. Какое только испытание не готовы они принять во славу советской науки! Сколько мужества надо, чтобы дать себя охладить до двадцати восьми градусов, пролежать обнаженным среди мешков льда. Испытуемые при этом впадали в состояние, схожее со спячкой, и с перерывами просыпали до сорока суток. Эти страдания не были напрасны – метод лечения холодом был утвержден. Пусть над этим призадумаются те, кто не способен просидеть без мысли о пище два-три часа.
Простим Курцину его кажущуюся суровость и невеселую повесть о подвижниках науки. На что только не отважится нежное сердце врача, исполненное любви к медицине и к своим подопечным…
Опыт в клинике повторили. В желудок ввели баллончик из тончайшей резины, наполнили воздухом и подставили склянку к свищу.
Спустя пятнадцать минут пробирка наполнилась жидкостью до краев. Аспирант подставил другую и вскоре поспешил в лабораторию. Что принес ему этот опыт? Железы желудка выделяют воду и соли, слизь, соляную кислоту и ферменты. Чего же в этой склянке больше? Каково, наконец, качество самого желудочного сока?
Он опустил в пробирку несколько капель химического реактива, и жидкость в ней покраснела. Какая удача – резко кислая реакция, сок высокой переваривающей силы. И все это добыто механическим раздражением желудка…
Час спустя экспериментатор сказал испытуемому:
– Я скоро отпущу вас. Небось изголодались?
Тот отрицательно покачал головой:
– У меня и аппетита-то нет.
– Куда же он делся?
– Я и сам не пойму, куда он пропал. Был и не стало его.
Три часа непрерывно выделялся желудочный сок. Когда воздух был удален и резиновые стенки спались, возбуждение желез еще некоторое время продолжалось.
И на другом и на третьем больном подтвердилось, что механическое давление на стенки желудка, независимо от того, наполняют ли его пищей или растягивают резиновым баллоном, возбуждает деятельность желез. И еще было установлено, что в наполненном желудке возникают импульсы, ослабляющие возбудимость пищевого центра в мозгу, и чувство голода идет на убыль.
Курцина стала тревожить странная мысль: не слишком ли он легковерен, полагая, что затруднения столетней давности, стоившие исследователям величайших усилий, именно им разрешены? Среди тех, кто занимался этим вопросом, были опытные и мудрые люди, необычайно искусные мастера. Каждый из них так же думал, вероятно, как он: «Слава богу, с Карфагеном покончено». До какого-то' момента все шло хорошо, затем возникали изъятия из правил: одно исключение влекло за собой другое, из-под ног ученого ускользала почва, теория тускнела, и на смену ей появлялись другие.
Таких примеров в физиологии немало. Взять хоть бы историю с зондом, во всех отношениях поучительную и интересную. Внутренняя поверхность желудка усеяна, как известно, нервными окончаниями, возбуждающими железы к отделению сока, едва пища коснется стенок желудка. Однако введение зонда и его раздражающее действие не всегда вызывает сокоотделение.
Как это объяснить? Можно этот опыт и самому проверить, но заранее известны его результаты. Вначале возникнет незначительное препятствие – несоответствие между тем, что должно быть, и тем, что есть на самом деле. Исследователь разработает новую методику, утвердит свои поиски в другом направлении в надежде получить недвусмысленный ответ. Ничего из этой затеи не выйдет…
Тут Курцину неожиданно приходит в голову идея: что, если этот опыт поставить иначе? Все вводили испытуемому зонд через рот, а если его ввести через фистулу в желудок? Ничего лишнего на пути исследования, никаких побочных влияний!
Опыт был проведен и удался. На раздражения зонда железы желудка ответили сокоотделением. Не столь обильным, как в опыте с баллоном, но чем больше поверхность подвергалась воздействию, тем больше желудочного сока выделялось.
Беспокойные мысли аспиранта унялись ненадолго. Доколе будет он оставаться без помощи, во власти тревог и сомнений? Зачем ему так много брать на себя? Пусть взглянут на его работу и выскажут свои соображения другие. Нельзя же требовать от аспиранта, чтобы он на собственный риск разрешал вековые затруднения.
Быков просмотрел протоколы и, возвращая их Курцину, сказал:
– Выходит, что врачи были правы?
– Не знаю, – ответил помощник. – Приходите – увидите.
– Продолжайте работать, я завтра буду у вас. Приду не один, готовьтесь гостей принимать.
На следующий день в больничные палаты явились Быков и Горшков. В их присутствии Курцин провел опыты с баллоном и зондом, введенным через фистулу в желудок. Ученые тщательно проверили все подробности работы, цифры наблюдений, вновь и вновь возвращались к протоколам исследований и признали удачу аспиранта.
– Вот что значит содружество физиологии с клиникой! – сказал взволнованный Быков. – Наши учителя Павлов и Боткин прекрасно это понимали.
Горшков о чем-то подумал и с грустью произнес:
– Не все физиологи это понимают. Когда я установил, что одно только зондирование вызывает отделение желудочного сока, никто не пришел проверить меня, зато многие вдосталь посмеялись. Меня называли недальновидным, близоруким и даже слепым…
– Скажу вам в утешение, – усмехнулся Быков, – что близорукость и даже слепота не могут помешать ученому быть прозорливым. Человек, который лучше других разглядел законы иммунитета – Мечников, – был наделен весьма слабым зрением… Я разделяю мысль Павлова, – продолжал он, – которую он высказал в связи со смертью Боткина. «Покойный, – сказал Иван Петрович, – был лучшим олицетворением законного и плодотворного союза медицины и физиологии, тех двух рядов человеческой деятельности, которые на наших глазах воздвигают здание науки о человеческом организме и сулят в будущем обеспечить человеку его лучшее счастье – здоровье и жизнь». То обстоятельство, – закончил Быков, – что мы сейчас тут, служит лучшей иллюстрацией к этим словам…
Занятые разговором, ученые словно забыли об аспиранте. Он стоял поодаль, занятый собственными мыслями.
– Я сделал одно любопытное наблюдение, – напомнил Курцин о себе, – мне хотелось бы послушать ваше мнение.
Ученые насторожились.
– Я заметил у испытуемых в момент, когда баллон заполнял желудок, обильное выделение слюны. У меня возникло подозрение, что это неспроста. При насыщении, очевидно, из желудка следуют импульсы к слюнной железе… Я повторил опыт и убедился, что мы имеем дело с рефлексом…
– Каким? – заинтересовался Быков. – Врожденным или условным?
– Я не подумал об этом, – тоном глубокого безразличия произнес аспирант.
– О чем же вы думали? – укоризненно спросил ученый.
Курцин не обратил внимание ни на тон собеседника, ни на перемену в его настроении и спокойно продолжал:
– Мне казалось очень важным, что мы сможем помочь врачам распознавать болезнь желез. Если после короткого раздражения стенок желудка не наступает отделение сока, надо считаться с заболеванием…
Физиолог многозначительно взглянул на терапевта. Курцин в этом взгляде прочел осуждение.
– Не спешите, Иван Терентьевич, с рекомендациями, – произнес Быков. – Ваши опыты неполны и нуждаются в серьезной проверке, По сути дела, мы не много прибавили к тому, что давно известно клиницистам.
Как это понять? Ему задали урок на тему, давно разработанную медициной, и его же в этом винят.
– Вы исследовали сокоотделение желудка, – продолжает Быков, – вызванное раздражением баллона, и намереваетесь это научно обобщить, но ведь нормальные люди не питаются через фистулу… Пищеварение складывается: из участия полости рта, пищевода, нервных аппаратов, связанных с ними, и в конечном счете желудка… Физиологи вас спросят: «Почему вы исключили влияние прочих отделов пищеварительного тракта на желудочные железы?» Что вы ответите им?
– Вы хотите сказать, что найденная закономерность может не повториться…
– Я хочу сказать, – мягко перебивает его Быков, – что медицина не нуждается в исследованиях, не доведенных до конца. Вы изучили людей с поврежденным пищеводом, ограничив наблюдения на одном лишь желудке…
Какая несправедливость! Его ли тут вина?
– Вы знали, чем я занят, – оправдывается обиженный Курцин, – и сами же эту работу мне поручили…
Ученый пропускает мимо ушей реплику Курцина и продолжает:
– Проведите на людях мнимое кормление и сочетайте это с растяжением желудка. Пусть пища и не достигла пищевого тракта, зато побывала в полости рта. Это даст возможность участвовать всей нервной сигнализации… Добьетесь успеха, никто не помешает вам рекомендовать свое заключение врачам.
Если так угодно Быкову, извольте. Он проведет эти опыты по всем правилам физиологической премудрости. Какое счастье, что медики, лечившие наших дедов, не стали дожидаться, когда физиологи осчастливят их открытиями, сделанными на вполне здоровом организме и на системах, действующих целиком! Спасибо Мудровым, Захарьиным, Остроумовым, Снегиревым и миллионам других, лечивших русский народ средствами интуиции и опыта… Что ж, Константин Михайлович, ваш заказ принят и будет исполнен в срок.
По этому случаю Курцин призвал своих больных и долго увещевал их проявить терпение, – испытаниям скоро придет конец.
– Я прекрасно понимаю, – говорил он, – что вам надоели мои манипуляции, согласен, что наука порой утомляет, но кто из вас решится мне отказать?
Никто не собирался ему возражать, и он, взволнованный, заверял испытуемых, что их жертва не будет напрасна, наука не забудет своих друзей.
– Я тем временем расскажу вам о вчерашних скачках. Это был удивительный день. Никто из нас не ждал, что эта пегая замухрышка Зорька оставит позади красавца Капитана. Виноват, конечно, тренер, пустяковый человек. Нельзя половинчатыми мерами подходить к серьезному делу. Умри, но доведи до конца!
История о неудаче Капитана была достаточно велика, чтобы рассказа хватило до конца испытаний. Больные меж тем ели с аппетитом жареную рыбу, не подозревая, что трубка искусственного пищевода отведена в сторону и пища дальше рта не идет. Тем временем в фистуле расправлялся баллон, нагнетаемый воздухом. Он раздвигал стенки желудка, воссоздавая у испытуемого чувство сытости и даже пресыщения…
Так ли уж важно было проследить участие всей нервной сигнализации в пищеварении от полости рта до желудка?
Да, Быков был прав. Опыт принес неожиданные результаты. И по количеству и по качеству, по переваривающей силе и кислотности желудочный сок превосходил все, что было добыто при одном лишь раздувании желудка или мнимом кормлении.
Ученый запомнил нелюбезную реплику Курцина с его поспешным решением рекомендовать новый метод врачам и, выслушав своего помощника, заметил:
– Наш знаменитый соотечественник Николай Егорович Жуковский говорил своим ученикам: «Математическая истина только тогда должна считаться вполне обработанной, когда она может быть объяснена каждому из публики, желающему ее усвоить». Что годится математикам, годится, я думаю, и нам, физиологам…
У физиологии оказалась своя математика, своя форма анализа и времени. От того, в какой мере учтены соотношения частей в организме и все связи в физиологической системе, зависит порой, своевременны ли советы физиолога врачам.
Старый спор между школой Павлова и клиницистами был наконец разрешен.
Исследователь не забыл тех, кто содействовал его удаче. Когда испытуемые оправились от перенесенных страданий и выздоровели, Курцин пришел к директору больницы профессору Горшкову и сказал:
– Мои больные много перестрадали. Надо им помочь приобщиться к труду, и как можно скорее. Один из них пристрастился к киномеханике, он мог бы у нас работать монтером; девушка не прочь стать лаборанткой, а младшую надо определить в школу.
Профессор оценил душевное движение физиолога и просьбу удовлетворил.








