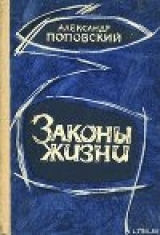
Текст книги "Пути, которые мы избираем"
Автор книги: Александр Поповский
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
Равнодушие хищника показалось подозрительным, и, удалив кошек из помещения, Слоним выпустил зверьков из клетки. Близость мышей не отразилась на поведении кота. Несколько часов он продолжал оставаться среди них, глубоко безразличный к своему окружению. В этот момент было трудно поверить, что Подхалим – истинный отпрыск свирепого племени кошачьих.
Иначе повели себя пущенные в лабораторию кошки. Они наглядно доказали, что роняют слюну, лишь поедая зверька, и не выделяют ее во время охоты.
Миролюбие Подхалима стало понятно, когда опыты повторили на котятах. Бессильные кормиться охотой, они также роняли слюну на всякую снедь. Пока хищник не умеет находить себе добычу, заключил ученый, его слюноотделение не отличается от слюноотделения собаки, новый способ добывания пищи изменяет функцию железы.
В этот трудный момент юный помощник с вдохновенным взором больших черных глаз нашел слабое место в гипотезе Слонима и поспешил привести свои возражения.
– Пусть вид мяса, – сказал он, – не вызывает у кошки слюны потому, что за ним еще надо охотиться, но молоко ведь не добыча, оно не бывает предметом охоты, почему же хищник и на него реагирует, как на мясо и колбасу?
Слоним сделал вид, что весьма озадачен вопросом, и после некоторого раздумья спросил:
– А как вы объясняете, почему кошки и все представители этого семейства по многу раз в день умываются? Вам известно, конечно, что у них жесткий язык, а тигр может одним движением языка слизать кожу у человека…
Молодой человек промолчал.
– Вдумайтесь хорошенько: чем отличается кошачья охота от волчьей или медвежьей?
К такому вопросу будущий физиолог был подготовлен. В последнее время он изучил все, что касается обширного семейства кошачьих.
– Кошка настигает жертву из засады, подпускает на расстояние прыжка, а волк в основном свою добычу догоняет.
– Очень хорошо. Вот и сообразите, – продолжал Слоним, – почему хищнику нужна частая баня. Неужели не ясно? Не будь он так чистоплотен, жертва по запаху могла бы узнать о присутствии врага. Ведь их отделяет лишь дистанция прыжка…
Ответ не удовлетворил молодого человека. Что общего между умыванием хищника и отношением его к молочной пище?
– Мы с вами отдалились от темы, – сказал он, – меня занимало другое.
– Какое там другое! Молоко – та же непойманная мышь, кошка все воспринимает по-кошачьи… Поведение хищника определяется его образом жизни и прежде всего – способом добывания пищи. Нет рефлексов, данных раз навсегда, независимых от среды, в которой развивается организм. Крот питается червями, но преподнесите ему червяка, едва ли такой подарок его устроит. Он должен потрудиться, прорыть метр-два земли, прежде чем настигнет добычу. Без тяжелой работы жизнь этого труженика немыслима, он переохлаждается и погибает. Для него наш червяк – непойманный червяк, его нужно еще вырыть.
Некоторое время спустя Слоним получил возможность подтвердить эти мысли в опыте над лисицей. Хищницу, как и кошку, искушали мясом, колбасой и живой мышью, подносили пищу ко рту, а слюнная железа оставалась заторможенной. В одном лишь лисица не походила на кошек: вид молока вызывал у нее слюноотделение.
То обстоятельство, что котята не умеют ловить мышей и так не похожи на своих родителей, заставило Слонима призадуматься. Как это возможно, чтобы хищник так долго был не способен заниматься свойственным ему промыслом? Тысячелетия приручения бессильны угасить врожденную склонность зверя. Может быть, в прошлом кошка охотилась не за мышами, а за каким-нибудь другим зверьком? Ее родина Египет, там она обитала на деревьях и питалась, конечно, не мышами, а птицами. В долине Нила зимует много пернатых, они прилетают туда отовсюду. Не за ними ли охотились далекие предки кошки?
Чтобы проверить это предположение, ученый пускает к Подхалиму чижа. Недавно еще столь миролюбивый к мышам, он бросается на птичку и поедает ее. Ему тут же дают беленькую мышку. Зверек разделяет судьбу чижа, кот убивает его, но не поедает. На колбасу он по-прежнему роняет слюну. Природа хищника проснулась, но не изменилась еще функция слюнной железы.
Слоним задумал ускорить пробуждение зверя, приучить кота к свойственному ему занятию. Если в результате железа перестанет отделять слюну на вид пищи, исчезнут последние сомнения.
Излишне описывать, как исследователь будил хищную натуру молодого кота, как голодное животное с трудом привыкало терзать свою жертву. Случилось то, чего ожидали: как только Подхалим убил первую мышь и тут же ее съел, он утратил способность ронять слюну на вкусную снедь, зрелище пищи больше не раздражало слюнную железу.
Снова встретились академик Быков и его помощник. На этот раз беседа их не затянулась.
– Я рассказал вам все, что мы узнали, – закончил Слоним. – На днях мы получили новое доказательство нашей правоты. Помогли нам сибирские долгошерстные кошки, и помогли хорошо. Они очень красивы, служат предметом забавы, но вовсе не ловят мышей. Было интересно познакомиться с животным, утратившим свой хищный инстинкт, посмотреть, как ведет себя слюнная железа зверя, переставшего заниматься охотой. У котят она раздражается при виде пищи, у кошки – лишь во время еды, а что происходит, когда хищнику изменяет его природа и он перестает быть самим собой?
Мы собирали этих кошек всюду, где только представлялось возможным, и потрудились не даром. Из первых же опытов выяснилось, что они во всем напоминают котят – роняют слюну на всякую снедь.
Быков слушал помощника и о чем-то напряженно думал. Временами казалось, что он далек мыслями от своего собеседника.
– Если с вами согласиться, – задумчиво произнес ученый, – надо допустить, что все травоядные животные, лишенные хищных рефлексов, должны выделять слюну на вид пищи. Особенно это относится к грызунам, пробующим все на зуб.
– Совершенно верно, – подтвердил Слоним. – Мы на опытах убедились, что любое явление раздражает у них железу. Даже такое постороннее, как смена белого экрана на серый. Удивительно подвижная реакция!
– Не более подвижная, – заметил Быков, – чем реакции кровеносных сосудов, сердечный мышцы, желудочно-кишечного тракта, газообмена и обмена веществ. Не более подвижная, чем нервные процессы и многое другое… Не правда ли? «Окружающая животная среда, – учил нас Павлов, – так бесконечно сложна и находится в таком постоянном движении, что сложная замкнутая система организма, лишь тоже соответственно колеблющаяся, имеет шансы быть с ней уравновешенной». Мне думается, – все еще занятый своими мыслями, продолжал он, – что на очереди у нас встанет обезьяна. Ее отношение к пище должно быть несколько иное, чем у травоядных и хищников. Тут овладение пищей зависит от руки, органа, неизвестного ни одному из животных, кроме человека… Мы встретимся, вероятно, с новой закономерностью. Слюноотделение может оказаться в плену у руки…
– Не кажется ли вам, – заметил Слоним, – что такое положение противоречило бы убеждениям Ивана Петровича? Слюнная железа обезьяны, полагал он, подчиняется тем же законам, что и собачья.
– Вы так думаете?
– Так, по крайней мере, полагал Павлов.
Академик улыбнулся: помощник угодил в капкан, который он расставил для другого.
– Я такого высказывания не слышал от него. Откуда почерпнули вы эту новость?
Уверенность начинала покидать Слонима, в голосе его зазвучали нотки сомнения:
– Сотрудники Ивана Петровича пришли к такому заключению…
Тут Быков счел возможным сделать некоторую паузу. Она означала передышку для одного и суровое испытание для другого.
– Высказывания учеников, – сказал он, – не следует смешивать с убеждениями учителя. Я далеко не уверен, что Павлов во всем согласился бы со мной, будь он сегодня между нами. Вы запомнили одни опыты, но ведь были и другие. Любознательные люди подметили, что, если показывать обезьяне плоды и не выпускать их из рук, она свирепеет, но желудочный сок не отделяется у нее. Иным будет ответ, если резать плоды на части, как бы приготовлять их для нее: тогда у обезьяны начнется сокоотделение… Рекомендую эти опыты к вашему сведению… Еще раз напоминаю вам: овладение пищей у обезьян зависит от руки, органа, которого нет у других животных… У Энгельса в его работе о роли труда в процессе очеловечения обезьяны сказано по этому поводу много интересного. «Рука, – говорит он, – служит преимущественно для целей собирания и удержания пищи…»
В первых же опытах Слоним имел возможность убедиться, что советы ученого имели глубокий смысл. Слюнные железы обезьяны оставались в покое, пока плоды находились вне досягаемости протянутой руки. По мере их приближения слюна отделялась все интенсивней и достигала своего предела, когда пальцы обезьяны касались желанных плодов. Способ добывания пищи животного и тут подчинил себе деятельность слюнной железы.
Автор на этом прерывает свою повесть. Слишком много еще идей осаждает Слонима, слишком много начато и не довершено. Ему хотелось бы еще узнать, к какому рефлексу следует отнести поведение мышки, готовой ринуться в отверстие металлической трубки, чуть наполненной, землей. Скажут, ее влечет к кажущейся норе, но ведь точно так же поведет себя серенький грызун, который родился и вырос в клетке, не видел норы и не жил в ней. У полевки, мышки или суслика, посаженных в камеру на земляной пол, сразу же повышается газообмен. Допустим, что вид почвы, в которую зверьки готовы зарыться, подготовляет организм к предстоящему труду, но ведь обмен будет тот же, хотя бы земли было мало, так мало, что и рыть ее не придется. Почему этот безымянный рефлекс не проявляется, когда камеру покрывают органическим стеклом или пластмассой?
Рассказывают, что сибирская лайка, которая следует за санями в дороге, будет дни и ночи стеречь оброненный багаж. Ничего съестного он в себе не содержит, а собака от него не уйдет, с голоду подохнет, а с места не тронется. Как этот рефлекс назвать?
Мышь, выпущенная на пол, покрытый светлыми и темными пятнами, предпочтет задержаться на темных. Что за влечение ко всему мрачному и страх перед светом и яркой окраской? Почему обезьяна, выбравшись из клетки или из рук экспериментатора, бросается в окно, а крыса или мышь бежит в темный угол?
На все эти вопросы Слониму предстоит когда-нибудь ответить. Мы еще вернемся к ним.
Прошли долгие годы с тех пор, как Быков направил своего помощника в Сухуми. Многое изменилось для прежнего ассистента: достойное подражания оказалось спорным и даже сомнительным, невероятное стало вероятным. В одном лишь он поныне верен себе: его опыты должны вестись без станков и камер, в естественной среде, в великой лаборатории, именуемой природой.
Слоним не прочь иногда потрудиться и в обычных условиях, но эти «обычные» он будет сам создавать. Свою новую лабораторию в Больших Колтушах Слоним проектирует в следующем еще.
Здание представляется ему строго изолированным, чем-то вроде уединенного островка. В верхнем этаже – ряды комнат для химических и прочих работ, в нижнем – подобие природной среды. Отепленные веранды, сообщающиеся с вольерами сетчатыми ходами, станут местом обитания мелких животных, хищников, птиц и грызунов. Наблюдательные пункты науки и регистрирующие приборы, искусно спрятанные в недрах вольеров, позволяют этот зверинец изучать издалека. Обмен веществ будет записываться под открытым небом, в камерах, построенных из стекла.
К услугам каждого вида – свойственная ему привычная среда: завалы из деревьев, посевы злачных культур, стога сена и соломы, В этом мире, отгороженном от всего окружающего, царит ничем не нарушаемый покой. Здесь нет дорог, есть только тропинки…
Самый нижний этаж приспособлен для животных подземного мира. В глубоких норах, уходящих далеко за пределы здания, самопишущие приборы отмечают течение зимней и летней спячки зверей. Искусственный климат сделает возможным эти опыты разнообразить.
Трудно изучить обмен веществ у крота, когда он роет земляные ходы, или у летучих мышей – в полете, у лисицы и ласки – в пору охоты, у серны – во время бега. Над всем этим предстоит еще подумать. Надо так приспособить исследование жизненных процессов, чтобы не вставать между животным и его обычной средой. Для зайца и тушканчика исследователь, кажется, нечто подобное придумал. Механизмы будут действовать как явление природы. Кто не видел, как эти зверьки подолгу скачут впереди автомобильных фар в степи? Что, если пустить в норе замкнутую ленту огней? Не побегут ли зверьки по воле экспериментатора из края в край подземного коридора? При лесонасаждении грызуны выкапывают и поедают посаженные желуди, как искусно ни заделали бы лунку после посадки. Необходимо оградить лесоводов от вредителя. Спрашивается, как это сделать? Надо также помочь каракулеводам изучить физиологию пастьбы и многое другое, но это будет уже решаться с глазу на глаз с природой…
Глава восьмая
Чувство и предчувствие
Еще один чудак!
Абрам Танхумович Пшоник был педагогом. Окончив курс естественных наук в Одессе, молодой человек увлекся психологией и стал ее пленником. Читал ли он детям курс биологии, проверял ли работы учеников – вопросы, связанные с изучением мышления и чувств, не покидали его. «Как, например, – спрашивал он себя, – идет усвоение знаний? Как они наслаиваются в мозгу? Что такое память? Где границы ассоциаций? Как эти процессы развиваются?» В психологии он ответа не нашел, и в душе у него начался разлад. Именно это привело учителя в Ленинград, в тот самый институт, где Быков приобщал к физиологии педагогов. Обстановка столичной лаборатории, камеры для выработки временных связей, о которых он так много читал, знакомство с профессором – учеником и последователем Павлова – произвели на него большое впечатление.
Свое отношение к физиологии он так объяснил Быкову:
– Я смотрю на эту науку как на средство всерьез осмыслить психологию. Меня интересует не собака с выведенным наружу протоком слюнной железы, а человек с его душевными ощущениями. Я хочу понять, как объективное преломляется в субъективном и внешний мир отражается в восприятии людей. Мы знаем, что перевоспитание достигается переменой среды, социальной направленностью и возникновением подлинных идеалов, – я хотел бы проследить эти перемены в организме так, как вы наблюдаете движение крови в сосудах, сокращения мышцы, регистрировать их на аппарате.
«Еще один чудак! – подумал Быков. – Сколько их тут бродит со своими идеями! Все они являются, отрывают от дела и требуют к себе внимания и времени».
Ученый выслушал молодого человека и сказал:
– Я должен вас огорчить. Мы так далеко еще не зашли и не скоро до этих высот доберемся. Мы скромные люди, нас занимают временные связи. Вам будет скучно у нас.
Пшоник виновато взглянул на ученого и не без волнения произнес:
– Я не предъявляю претензии к науке, это не так. Меня привела сюда необходимость, и мне ничего другого не остается, как просить вашего разрешения остаться у вас.
– Пожалуйста, – любезно предложил Быков, – я вам не помеха.
Молодой человек немного помолчал и с грустью в голосе сказал:
– Я думал, что вы поможете мне.
– Вряд ли, – последовал сочувственный ответ.
– Почему? Разве это так трудно?
– Да, нелегко. В науке все легкое уже сделано, впереди самое трудное. Нас с вами, молодой человек, интересуют разные вещи. Вам, психологу, объясни, как рождаются чувства, а меня занимают лишь их проявления и взаимосвязь. Далеко еще нам до того, чтобы как следует уразуметь законы воспитания.
Педагог был крайне огорчен, и голос его, вначале уверенный и звучный, упал до полушепота:
– Вы напрасно разочаровываете меня. Я нуждаюсь сейчас в поддержке, и вы не должны мне отказывать в ней.
– Отказывать? – удивился ученый. – Никто не намерен вас разубеждать! Приступайте к работе, а там видно будет.
Какой фантазер! И придет же человеку в голову этакий вздор! Зачем бы он стал его расхолаживать? Мало ли каких взглядов держатся его ученики и думают и работают каждый на свой лад.
– Займитесь собачкой, выведите у нее проток слюнной железы и выработайте временные связи. Поможете нам осмыслить психологию – скажем спасибо и руку пожмем.
Вскоре ученый и его новый помощник встретились снова.
– Как ваши дела? – спросил Быков.
– Неважно, – ответил тот. – Моя собака не образует временных связей.
– Где же вы откопали такое диковинное животное? Покажите мне его.
– Собачка неважная, – пожаловался молодой физиолог, – склонна к аффектам, эмоциональна, психически неуравновешенна…
– Остановитесь, пожалуйста, – перебил его ученый. – Что вы сыплете психологическими терминами? Какая-нибудь шавка, а вы такое приписываете ей, что об ином человеке этого не скажешь. Учитесь у Павлова, он не философствовал.
Тут Пшоник неожиданно ударился в амбицию.
– Я с вами не согласен, – заявил он. – Павлов был философом-материалистом, смелым в своих решениях ученым.
– И философом и смелым, но не любил терминологии, взятой из арсенала психологов… Запомните, пожалуйста, и это… Что же с вашей собачкой?
– Не пойму, Константин Михайлович. Звонок приводит ее в бешенство, она лает, скулит, рвется из станка…
Ученый задумался и сказал:
– Выясните ее происхождение: где она жила, как вела себя дома. Вот уж где не грех вам вспомнить свою педагогику.
Совет пригодился молодому физиологу. Собака оказалась приученной хозяином откликаться на звонок лаем. Когда условным раздражителем вместо колокольчика сделали метроном, временные связи стали вырабатываться.
Год провел Пшоник у собачьего станка, с горечью убеждаясь, что лабораторные занятия не приблизили его к решению тех вопросов, ради которых он прибыл сюда. Давно сданы испытания, изучена техника физиологического опыта, ну, а дальше как быть?
Аспиранту все более становилось не по себе. Его потянуло к прежним занятиям, в школу, к ученикам, вспомнилась психология, которую он с такой любовью преподавал, пришли на память лекции, задушевные беседы в школьной семье. С тех пор прошли годы, а как невелики его успехи! В одну из таких трудных минут Пшоник принял решение. Он обратился в райком с просьбой дать ему возможность читать лекции по психологии.
– Так ли у вас много времени? – спросили его.
Нет, времени у него в обрез. Но сейчас, ему кажется, он психологию читал бы по-другому. Прочитал бы курс – и излечился от нее навсегда. Да, дело за аудиторией.
Быков пригляделся к ассистенту и сделал первое открытие. Спокойный и ровный, как символ терпения, с выдержкой, не знающей границ, помощник совмещал в себе великодушие учителя с покорностью ученика.
– Вас, кажется, интересует, – заметил ученый, – область мысли и знания?
– Да, меня занимает все, что определяет душевный мир.
– Всего лишь? И ничего больше?
Настойчивость Пшоника начинала ему нравиться.
– А как бы отнеслись к задаче из области чувств?
– Я не вижу тут границ, – осторожно заметил Пшоник.
– Не видите? – переспросил физиолог. – Границы равнобедренного и разностороннего треугольников, разумеется, более определенны, чем границы мысли и чувства.
Аспирант поспешил исправить положение:
– Я охотно займусь сферой чувств.
– В таком случае, исследуйте влияние холода и тепла на кровеносные сосуды.
– Влияние холода и тепла на кровеносные сосуды? Так ли уж это интересно?
– Результаты опытов, – продолжал Быков, – пригодятся вам для исследования чувствительности кожи.
Чувствительность кожи? Разве о ней не все сказано? Ученый не на шутку его удивил.
Философское спокойствие помощника настроило профессора на морализующий лад.
– «Во всякой науке, – процитировал он ему Гарвея, – нужны прилежные наблюдения и советы собственных чувств. Мы не должны полагаться на чужой опыт, у нас должен быть свой, без которого нельзя стать достойным учеником естествознания…» И еще говорил Гарвей: «Не предвзятое мнение, а свидетельство чувств, не брожение ума, а наблюдение должно убеждать нас в истинности или в ложности учения».
Свидетельство Гарвея не оказало на Пшоника должного впечатления. Он твердо стоял на своем.
– То, что написано о кожной чувствительности, кажется мне бесспорным. Я не вижу основания не доверять опыту других.
Быков сделал второе, не менее интересное открытие: педагог свято чтит авторитет книжной истины, чтит его выше научного факта.
– Что же вам кажется бесспорным в учении о кожной чувствительности? – спросил несколько озадаченный Быков.
– Я решительно считаю, – уже не смущался ассистент, – что холод, тепло, давление и боль воспринимаются каждое различным прибором. Мельчайшие точки, приспособленные для приема этих раздражений, рассеяны всюду в коже.
– Вы, однако, неплохо знаете предмет, – добродушно заметил ученый. – И вы уверены, что точка, предназначенная давать ощущение холода, не откликнется болью, если стегнуть ее электрическим током?
– Ни в коем случае. Любое раздражение вызовет у нее присущий именно ей стереотипный ответ. Мы знаем, где эти точки находятся, сколько их в коже на каждом квадратном сантиметре: болевых не больше ста, холодных – тринадцать, тепловых – до двух… Всего: первых – девятьсот тысяч, вторых – четверть миллиона, третьих – тридцать тысяч, а точек давления – полмиллиона.
Аспирант торжествовал. Выражение его лица как бы говорило: «Науку надо охранять от посягательств. Одно дело критика, а другое – защита научного наследства».
– Допустим, что вы действительно правы, – сказал Быков, – однако ваша математика не объясняет самой сущности этих приборов. Мы не видели их в действии, не наблюдали в покое, не знаем, наконец, как они построены. Почему бы нам этим не заняться?
Можно, конечно, он нисколько не возражает. Одно дело – сомневаться в том, что бесспорно, другое – расширять общепризнанную истину.
– Теперь разрешите вам заметить, – с деланной серьезностью продолжал Быков, – что вы о многом позволили себе умолчать.
– Разве? – смутился помощник. – Что ж, я с удовольствием послушаю вас.
– И покаетесь, если упустили нечто важное?
– Несомненно.
– Вы ни словом не обмолвились о точках, вызывающих ощущение щекотки и зуда, не упомянули точек болей: колющих, режущих, давящих, стреляющих, рвущих, грызущих, сверлящих, дергающих, острых и тупых… Скажете – об этом еще спорят, таких точек, возможно, и нет. Охотно допускаю, думаю даже, что никаких точек вообще в тканях кожи нет.
Помощник слишком поздно сообразил, что ученый над ним посмеялся.
– Я расскажу вам об одном замечательном опыте, – продолжал между тем Быков. – Из него мы узнали, что так называемые точки боли порой ведут себя так, точно их нет и в помине. Знаменитый физиолог Цион, медленно варя живую лягушку, неизменно убеждался, что она незаметно для себя переступает опасную для жизни границу и, не проявляя беспокойства, погибает. В этом опыте точки боли как бы не затрагиваются горячей водой, ничто не сигнализирует о грозящей организму опасности…
На этом разговор их окончился.
Предложение Быкова серьезно встревожило Пшоника. Ему предлагали опровергнуть общепризнанную теорию. Ни опыта, ни знаний для этого у него нет. Уж лучше бы эту тему предложили другому. Просить об этом поздно, ученый откажет. Пшоник знал это и промолчал.
Таково было начало.
Аспирант взялся за дело без излишней веры в него, заранее убежденный в своей неудаче. Кожная чувствительность казалась ему научно решенной. Чего ради заноситься и выступать против бесспорных идей?
Итак, где искать истину? На чьей стороне? Определяется ли чувствительность кожи специализированными точками или точек этих вовсе нет? Достоверны ли теории, запечатленные в многочисленных ученых трудах, или верны догадки Быкова?
Метод, избранный Пшоником для своих опытов, показался бы многим неудачным. Кисть руки юноши покрывали чернильными точками, охлаждали и нагревали их и при этом записывали показания испытуемого.
«Какой наивный прием, – скажет объективный наблюдатель, – основываться на свидетельстве человеческих чувств! Так ли совершенно наше восприятие? Разве методы психологии одинаково пригодны и для физиологии?»
Пшоник прекрасно это понимал и сумел оградить свои исследования от случайностей. Он скоро убедился, что испытуемые ошибаются в своих ощущениях, воспринимают холод, как тепло, и наоборот, или вовсе не обнаруживают чувствительности. Одна и та же точка, одинаково раздражаемая, подсказывает им различные ответы. Предоставив испытуемым толковать свои ощущения как им угодно, ассистент позаботился и о контроле.
Пока левая рука подвергалась воздействию холода или тепла, правая находилась в аппарате, чувствительном к малейшим переменам в состоянии сосудов. Вращающийся барабан вел строгую запись объема крови в кровеносном токе руки. Так как всякое охлаждение и согревание одной руки вызывает сужение или расширение сосудов на другой, можно было все ответы левой руки проверить на записи, сделанной сосудами правой. Эти письменные признания контролировали устные свидетельства испытуемых.
Своих добровольных помощников Пшоник предупреждал:
– Вы ничего не узнаете из того, что я делаю, это не касается вас. Вы не должны во время опыта размышлять, забудьте о своих заботах, выбросьте их из головы.
И, как бы в доказательство того, что ему все известно и ничего не удастся скрыть от него, он среди опыта бросает молодому человеку:
– Чему вы радуетесь?
Они не видят друг друга, их отделяет плотный экран, откуда это известно ему?
– У меня сегодня удача, – смущенно признается испытуемый, – очень большая. Я даже не улыбался, а только об этом на секунду подумал.
– Удача! – негодовал Пшоник, рассматривая запись кровеносных сосудов на ленте, которая запечатлела эту перемену. – Ваша удача все испортила мне. Забудьте о ней.
Иногда он вспоминал назидание Быкова и, не то обращаясь к себе, не то к испытуемым, горячо говорил:
– Никакого воображения, никаких ассоциаций, эмоций, аффектов и прочей психологической трухи! Выбросьте этот хлам из головы…
Сам он спокоен и сдержан, его малейшее волнение передается испытуемым, и тогда записям пульса нельзя будет верить. Когда опыты проводили на собаках, оказалось, что и с ними следует быть осторожными. Малейшие перемены в самочувствии экспериментатора отражаются на животных, и работу приходится заново начинать. Уже с первых шагов он стал опасаться собственных чувств.
Проведенные опыты установили, что специализированные точки не выдержали экзамена.
«Неужели нет приборов, воспринимающих отдельно холод и тепло? – Ассистент отказывался верить собственным глазам. – Неужели все написанное об этом лишено основания?»
Есть ли большая тирания, чем узаконенное временем ложное учение! Нелегко было Пшонику отречься от того, что давно почиталось достоянием науки. Он был педагогом – хранителем знания, отнюдь не судьей, чего ради ему спешить с заключением? Не лучше ли еще раз поразмыслить, оглянуться, проверить, не грубы ли его приемы исследования, не слишком ли механистичен подход? Он мог порой повести себя необдуманно, забыть, что перед ним человек, и неосторожным словом или действием допустить ошибку. И показаниям плетисмографа нельзя доверять безгранично: испытуемого могла поразить неприятная мысль, внезапный испуг, от которых бросает в холод и жар. Для чувствительных точек это, правда, не имеет значения – независимо от происходящих в организме перемен они на любое раздражение должны откликаться соответственно своей природе, – и все же над этим следует подумать.
Решено было опыты поставить иначе, заново их проверить. Пшоник искусственно создает постоянную температуру руки; что бы ни произошло в организме, в кисти будет неизменный уровень тепла. Откликнутся ли специализированные точки присущим их природе ответом, если в это время точки охлаждать?
Аспирант нагревает левую руку испытуемого и затем охлаждает на ней намеченные чернилами места. На этой площади много так называемых Холодовых точек, они должны себя обнаружить.
Ничего подобного не произошло: испытуемые утверждали, что чувствуют одно лишь тепло. С этим соглашалась и правая рука – сосуды ее расширялись. Что бы это значило? И человек и его кровеносная система твердили о тепле, но ведь точки руки, то есть отдельные места на ней, испытывали холодом? Где же те кожные приборы, которые на любое раздражение извне должны отозваться ощущением холода?
Может быть, закономерности, свойственные этим точкам, станут более очевидны, если опыт проделать наоборот – охлажденную руку испытывать теплом?
Аспирант упорно сражался за жизнь бесславно умиравшей теории. Он добросовестно потрудился, но опыты ничего не принесли: остуженная рука не обнаруживала ни малейшего тепла, как долго и упорно ни согревали бы эти точки. Сократившиеся сосуды, скованные холодом, не расширялись. Организм оставался верным себе: он отзывался на охлаждение и нагревание всей руки, безразличный к манипуляциям на отдельных ее частях.
– Вышло по-вашему, – признался ученому аспирант. – Я верил в эту теорию, считал ее нерушимой… Вы как-то говорили, что причины и следствия постигаются опытом, отнюдь не верой и почтением к авторитетам. Я, кажется, в этом убедился…
Некоторое время спустя Быков сказал аспиранту:
– Пора нам вернуться к прерванным опытам. Как вы думаете?
– Я хотел даже об этом вас попросить.
– Вот и хорошо, сейчас же и приступим… Мы с вами узнали, что в коже нет точек, воспринимающих раздельно холод и тепло. Одни и те же нервы усваивают все колебания температуры – от арктического мороза до тропической жары. Следует еще решить, контролируются ли эти нервные приборы корой головного мозга. Могут ли высшие отделы центральной нервной системы изменять наши ощущения холода и тепла, ослаблять и усиливать их, устранять и воссоздавать?
Так началась вторая часть исследования.
То обстоятельство, что научная теория, казавшаяся безупречной, на практике не оправдалась, настроило Пшоника на скептический лад. С придирчивой страстностью сурового критика копил он теперь все, что свидетельствовало против низвергнутой теории. Не спеша, обстоятельно собирал он улики против нее.
Считалось установленным, что нервные приборы, вызывающие чувствительность кожи, воспринимают температуру и передают раздражение в головной мозг. Там формируются наши ощущения. Ни усиливать, ни ослаблять приходящие раздражения, ни влиять на чувствительность нервных приборов кожи головному мозгу не дано. Все автоматично с начала до конца.
На это у Пшоника были свои возражения, и число и убедительность их с каждым днем нарастали. Не хватало лишь одного – аудитории, которой он мог бы свои мысли изложить. И прежде всего это необходимо было ему самому. В кругу слушателей необыкновенно расцветает его фантазия: ему приходят в голову неожиданные примеры, красивые сравнения, художественные образы, припоминается нечто такое, что казалось давно забытым. Разъясняя другим сущность предмета, он глубже вникает в него и обнаруживает пути там, где их как будто и не было. Как много значит живое общение с людьми! Он пробовал представить себе аудиторию, мысленно увидеть множество глаз, обращенных к нему с интересом, но мысль от этого не становилась острее, фантазия не рождала ни страсти, ни вдохновения. Сотрудники лаборатории не были склонны превращать лабораторию в форум, и только в домашнем кругу его чувства находили удовлетворение. Происходило это обычно вечерами, когда домочадцы собирались за ужином. От их слуха не ускользали глубокие вздохи, идущие, казалось, от полного до краев сердца, и разговор как бы невзначай завязывался. В тот день, когда Быков предложил ему выяснить, влияет ли кора мозга на ощущение холода и тепла, его речь за столом звучала особенно жарко.








