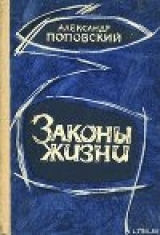
Текст книги "Пути, которые мы избираем"
Автор книги: Александр Поповский
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
В условиях работы ничего не изменилось: тот же аппарат, ведущий учет колебаниям кровяного тока, те же маленькие горчичники на запястьях рук. Единственное новое – это электрический свет, вспыхивающий на девятой минуте, в момент расширения сосудов – вестника предощущения.
Много времени потребовали испытания. Немало сочетаний было проделано, и без результатов. Поразительно упорство, с которым предощущение отказывалось вступать во временную связь со светом. Казалось, из этой затеи ничего не выйдет. Исследователь начал уже подумывать о том, чтобы отказаться от опытов, и снова его выручила память. Как мог он забыть, что и на внутренних органах временные связи образуются с трудом! Физиолог не вправе пренебрегать аналогией. Обнаружив одно какое-либо сходство между явлениями, нужно искать и другое. Этого нельзя забывать.
На шестидесятом сочетании времени наступления предчувствия со вспышкой электрического света образовалась временная связь. На испытуемых не было горчичников, но, когда вспыхнул синий свет, сосуды рук расширились и через три минуты – период предощущения – стали сужаться. При этом возникла острая боль. Зажженная лампа вызывала точно такое же ощущение, как если бы кожу прижигали горчицей. Две стадии из трех были воспроизведены действием условного раздражителя. Образовавшаяся временная связь поражала своей устойчивостью. Подобно временным связям внутренних органов, она прочно держалась независимо от того, подкрепляли ли ее подлинным раздражителем – действием горчичника. Не в том ли сила кажущегося страдания сердца, печени, легких, кишечника, что сигналы из этих органов, раз прорвавшись к мозгу, куда им обычно доступа нет, упорно не угасают?
Спутник оправдал возложенные на него надежды – состояние предощущения было воспроизведено одной лишь вспышкой электрической лампы. Всемогущая кора головного мозга, способная все воссоздать – от страданий, лишенных всяких причин, до чувства острого холода в жаркий день, – подтвердила, что в ее власти управлять стадией предощущения. Ничего пока больше. Никаких обещаний открыть сигналам предчувствия доступ в мозг эти опыты не давали. Подавленные импульсы, бессильные дать знать о болезненном действии горчичника, по-прежнему оставались за порогом сознания. Пшоник помнил свою задачу: проследить их восхождение туда, где нечувствительное становится чувствительным, и продолжал изыскания.
Нельзя ли добиться, чтобы спутник, так чудесно справившийся с одним, успешно сделал и другое: помог импульсам прорваться к большим полушариям?
План исследователя сводился к следующему.
Стадия предчувствия длится обычно три минуты. Если понемногу ее сокращать, она со временем, возможно, вовсе исчезнет? Предощущение, таким образом, станет ощущением, импульсы сразу же после стадии покоя получат доступ к коре. Цель будет достигнута.
Сочетая в опыте вспышку синего света с моментом наступления предощущения, Пшоник как-то включил лампу на полминуты позже обычного. Сосуды откликнулись расширением, а затем сужением просветов, но стадия, предшествующая наступлению чувствительности, продлилась не три, а две с половиной минуты. Словно этим был повернут неизвестный регулятор, в опытах наступил перелом. Свет синей лампы по-прежнему вспыхивал на девятой минуте, а промежуток между первой и третьей стадией – периодом покоя и наступлением боли – уменьшался. Фаза предощущения с каждым разом сокращалась, пока не исчезла вовсе. Электрическая лампа, зажженная, как всегда, на девятой минуте, сразу же вызвала сужение сосудов и слабое жжение в руках испытуемой. Состояние предчувствия как бы исчезло и длилось всего лишь сорок секунд. Начальная стадия покоя почти без промежутка перешла в последнюю – чувствительную. Импульсы предощущения из неощутимых стали ощущаемыми. Тут не могло быть ошибки, перемена произошла у всех на глазах.
Это сказалось на самочувствии испытуемых. Одна из них призналась потом:
– У меня было такое чувство, словно вот-вот что-то должно случиться.
Стадия предощущения продлилась у нее всего лишь пятнадцать секунд.
Другая испытуемая сказала:
– Не знаю, с чего это, найдет вдруг на меня словно предчувствие какое, ждешь, что сейчас обязательно тут же защиплет рука…
– Вообразите, Константин Михайлович, мою радость в тот день. Неужели, спрашивал я себя, так далеко шагнула физиология, что можно вызывать состояние предчувствия, приближать и отодвигать его наступление? Если это так, то мы не без гордости можем сказать, что увидели это впервые. Никто не обвинит нас в нескромности, никому это в голову не придет. До сих пор мы вызывали у животных ощущения и чувства, чтобы изучить их природу. Мы вынуждали инстинкты подавлять привычки животного и, наоборот, навыками оттесняли врожденные свойства поведения, навязывали, наконец, организму ощущения, которых не было у него, но навязывать ему предчувствия и экспериментировать ими никому еще, право, не удалось… Еще радовало меня сознание, что моя работа доставит удовольствие вам. Я знаю, как влечет вас к тайнам тайн организма, к самим истокам его, знаю, как страстно ваше стремление познать сущность жизни. Не потому ли, кстати сказать, так велика ваша любовь к книге – этому вечному носителю человеческой мысли?
…На этом исследования не оборвались, задача не была еще решена.
Наблюдения убедили ассистента, что и начальную фазу можно, вероятно, передвинуть, открыть доступ ее сигналам за порог сознания. Едва раздражитель прикоснулся к коже руки, залпы импульсов устремляются к мозгу, чтобы породить ощущение. Они либо поглощаются где-то ниже коры, либо терпят сопротивление на своем пути. Свет синей лампы, однажды сокративший паузу предощущения до полного исчезновения, должен был и на этот раз расчистить импульсам начальной стадии путь в кору мозга, чтобы неощутимое сделать сразу же ощутимым.
Опыты велись в следующем порядке. Прежде чем опустить руки в аппарат, на запястья испытуемых накладывались небольшие горчичники. Проходило восемь минут, и вспыхивала синяя лампа. После каждых двух опытов включение электрического света передвигалось на полминуты назад и на столько же сокращалась начальная стадия. Чувство боли наступало все быстрей и быстрей, и на сорок восьмом опыте вся эта стадия заняла лишь тридцать секунд. Уже спустя полминуты после наложения горчичника и вспышки синего света наступало сужение сосудов и боль. То же самое происходило при одной лишь вспышке света, когда горчичника не было на руке.
Между внешним раздражением и корой больших полушарий исчезли пороги – барьеры, созданные природой, чтобы оградить мозг от перенапряжения. Упорное повторение одних и тех же воздействий позволило предощущению стать ощущением. Импульсы достигли своего назначения, когда для них были проторены пути.
В жизненной практике эта закономерность особенно наглядна. Охотник, по признакам не совсем ясным для него самого, угадает близкую смену погоды, почует приближение опасного зверя и неведомо каким слухом услышит птичий зов: Все эти сигналы природы, некогда остававшиеся за порогом сознания, лишь с годами пробились сквозь препятствия к коре. Возможно, свет солнца или луны, багрянец рассвета или алый закат были спутниками этих импульсов, ставших постепенно чувствительными. Не объяснит нам охотник, как это произошло, не скажет и служитель водолечебницы, как удается ему прикосновением локтя определять температуру воды с точностью до половины или четверти градуса. Не расскажет и актер, какие логические причины руководили им на сцене, когда внезапный поворот в исполняемой им роли оказался неожиданным для него самого. Почему он не смог это вновь повторить? И дегустатор, различающий тончайшие нюансы запаха и вкуса, и механик, способный по глухому звучанию, доступному ему одному, почуять в механизме разлад, сумели множество сигналов из внешнего мира поднять выше порога сознания. Они могут считать эту сигнализацию проявлением предчувствия или наития, но она давно уже стала достоянием их чувств.
Медицинская практика знает тоже немало подобных примеров.
Об одном враче было известно, что он может произвольно вызывать различной интенсивности боль в любой части своего тела. Ее распознавали по пульсации сосудов в местах, ставших болезненными. Наиболее ощутительными становились боли в ладонях рук, и стоило немалых усилий их прекратить. Клиницисты наблюдали людей, способных произвольно сужать и расширять зрачки глаз, независимо от силы источника света; увеличивать и уменьшать удары пульса и останавливать биение своего сердца…
Нелегко далась Пшонику удача. Бывали минуты, исполненные безмерных надежд и безграничного разочарования. И то и другое не умещалось в груди ассистента и настойчиво рвалось наружу. Бессильный сдержать поток счастливых идей, он спешил порадовать ими своих слушателей. Пылкий пропагандист оттеснял исследователя, и в речах о сокровищах естествознания и философии неожиданно звучали чудесные признания о предчувствии, миновавшем запретный порог, чтоб воплотиться в чувство…
Долго длится увлекательная речь, давно пора кружководу закончить, время кружковцам уходить, а волнующая повесть продолжается… Не так уж важно, из кого состоит аудитория: из рабочих ли завода, крестьян подшефного колхоза или кружка слепцов, изучающих анатомию с закрытыми глазами, перебирая в руках скелетную кость.
– Ну, что вам сказать, – проговорил Быков после того, как прочитал доклад Пшоника. – Мир несравненно богаче мира наших ощущений. Магнитная стрелка непрестанно сообщает о возмущениях и магнитных бурях, а мы в эти мгновения ощущаем лишь покой… Вы сыграли на коре мозга, как на рояле. Мотивы чувствительности легко сменяются у вас нечувствительностью, и наоборот. Есть у вас тут и пиано, и крещендо, и фортиссимо. Мы смогли наконец увидеть, как объективные явления внешнего мира преображаются в чувства и ощущения. Бытие определяет сознание…
– Я с вами согласен, – ответил Пшоник, – мы могли убедиться, как материалистично все сокровенное в нас. Идеалистическая философия становилась в тупик перед вопросами предчувствия, наития и нечувствительности к физическим страданиям. Ее сторонники пожимали плечами и говорили: «Не знаем и не узнаем!» Извините, узнаем, и до конца! Не правда ли, Константин Михайлович?
Ученый улыбнулся и сказал:
– До конца не удастся. Напомню вам Энгельса: «Мы никогда не узнаем того, в каком виде воспринимаются муравьями химические лучи…» Так и сказано у него. И дальше: «Кого это огорчает, тому уже ничем нельзя помочь…»
Язвительная шутка вызвала улыбку и у учителя и у ученика.
– В этой работе, – после некоторого молчания произнес Пшоник, – осуществилось мое давнее желание вникнуть в физиологическую сущность предощущения, этого начала всякого ощущения.
– Мне кажется, что теперь нас не разделяют различия во взглядах, – с улыбкой сказал Быков, – в докладе вы подтвердили, что сигналы, связывающие внутренние органы с высшими отделами мозга, – той же природы, что импульсы подощущения. Состояние предчувствия могут с одинаковым правом изучать все: и психологи и физиологи…
– Я подумал о том, – мечтательно произнес Пшоник, – как это случилось, что сигналы, идущие от внутренних органов, от самой, казалось, жизненной основы, отодвигаются под порог ощущения и заглушаются голосами извне? Не знаю, согласитесь ли вы, но я пришел к убеждению, что в ходе эволюции по мере того, как усложнялась внешняя среда как арена борьбы за существование, сигналы внешнего мира эту власть захватили и их зов приобрел первостепенное значение…
Ученый кивнул головой: разумеется, так, иначе это объяснить невозможно…
Глава девятая
У изголовья больного
Опыты надо ставить на человеке
Когда Иван Терентьевич Курцин впервые переступил порог деревянного флигеля в Институте экспериментальной медицины и предстал перед Быковым, он был крайне смущен приемом. Ученый внимательно оглядел своего нового аспиранта, скользнул взглядом по его высокой фигуре, широким плечам, мускулистой шее и сильным рукам и спросил:
– Вы занимаетесь гимнастикой?
Аспирант даже растерялся от неожиданности:
– Я… собственно говоря… врач. По конкурсу зачислен к вам в аспирантуру. Физкультурой занимаюсь давно. Числюсь чемпионом по боксу полусреднего веса. Звание это получил на ринге.
– У вас выправка спортсмена… Вы и футболом занимаетесь?
– Обязательно. Ни одного матча не пропускаю…
– Что вы читали по физиологии? – спросил Быков и, не Дожидаясь ответа, продолжал: – Впрочем, все равно: проштудируйте лекции Павлова «О работе главных пищеварительных желез». Проделайте несколько опытов, хронических и острых.
Предложение ученого не пришлось по вкусу молодому человеку, он смущенно огляделся, опустил глаза и сказал:
– Что угодно, только не острый опыт. У меня на это духу не хватит. Мучить животных я не умею.
На лице его явственно отразилось отвращение. Быков невольно рассмеялся. Уж очень не вязалось признание молодого человека с его крупным и сильным телом.
– Хорош боксер, нечего сказать! Какой же из вас физиолог, если вы скальпеля боитесь?
Насмешка ученого задела аспиранта, он тряхнул головой, прочесал пальцами свою густую шевелюру и, глядя своему собеседнику прямо в глаза, твердо сказал:
– Я врач и скальпеля не боюсь. Ваш институт тем меня и привлек, что он экспериментальный. Здесь можно искать, до всего дознаваться и не складывать рук перед обреченным больным… Другое дело убить собачку без пользы… Простите меня, – несколько смутившись собственной смелости, добавил он.
Ученый пожал плечами, подумал что-то не очень лестное о молодом человеке и поспешил отпустить его.
Беседа с Быковым не слишком обрадовала Курцина. Не понравился ему тон – деловой и холодный, загадочная улыбка, часто появлявшаяся на губах собеседника, а больше всего – совет заняться опытами в лаборатории. Не этого он ждал. Ни слова о человеке, о клинической практике, о новых средствах лечения опасных болезней. Хороша медицина! А еще «экспериментальная»! «Проделайте несколько опытов, хронических и острых». Зачем? Уж не думают ли они сделать из него физиолога?… Стоило ли ради этого оставлять родные места: Ростов, где он учился, деревню, в которой прошло его детство, променять степные просторы на край болот и лесов, темные южные ночи – на бледную немочь белых ночей… «Не затем я сюда приехал, – хотелось ему бросить ученому. – Не время теперь собак изучать, надо подумать о клинике, о нуждах врача».
Давно уже беспокоит его мысль о том, как бессильна порой медицина, как далеко еще до желанного дня, когда человек научится одолевать болезни. Все более блекнут его радужные иллюзии, восхищение и вера в благодетельное искусство врача, дарующего больному покой и здоровье. Они возникли давно, в далеком детстве, под влиянием дяди – известного ученого-медика. В его приёмной мальчик впервые столкнулся с людскими страданиями, увидел больных, с благоговением взиравших на спасителя-врача, услышал рассказы о чудесных исцелениях, возвращении умирающих к жизни и труду и возмечтал стать врачом, обязательно знаменитым, как дядя… «Будешь верить в свое дело и любить его, – поучал профессор племянника, – не то, что доктором или академиком – любимцем народа будешь… Нет большей чести для человека…»
Как было не возмечтать?…
Влияние дяди-профессора не осталось без отклика – Курцин решил стать медиком. Теперь племянник встречался с дядей на кафедре, где тот читал студентам курс диагностики внутренних болезней.
Профессор часто приглашал студента в свою клинику, показывал ему больных, объяснял течение болезни, невольно обнаруживая силу и слабости врачебного дела. Однажды он сказал ему, указывая на мужчину средних лет, крепкого сложения и не слишком болезненного на вид:
– Обследуй-ка его… Диагноз, – продолжал он по-латыни, – неоперабельный рак правого легкого.
Студент выслушал больного, отвел профессора в сторону и спросил:
– Что значит «неоперабельный»? Почему?
– Потому что мы не умеем еще оперировать целое легкое, – с грустью ответил тот.
– Как так не умеем? Всему должна быть причина. Почему бы не попробовать?
– На ком? На человеке?
– Да, на человеке, – нисколько не смутился студент.
Профессор многозначительно покачал головой:
– Эксперименты на человеке запрещены. И это, конечно, справедливо.
– А обрекать людей на гибель только потому, что мы их лечить не умеем, можно?
В другой раз профессор повел студента в анатомический зал, где на мраморном столе лежал труп девушки лет двадцати, и, указывая на него, сказал:
– Она умерла от так называемого белокровия – неполноценной деятельности костного мозга. Вскрытие ничего нам не объяснило, и я не поверю, что в этом прекрасном и совершенном создании был плохой костный мозг. Нет! Тут разразилась катастрофа, которую мы не умеем еще объяснить.
Профессор не догадывался, какие страсти разбудил в молодом человеке. Вдохновив своего питомца на верность идее, он первым эту веру поколебал.
На четвертом курсе явилось новое испытание. Студент увлекся невропатологией – наукой о нервной системе и ее страданиях. Все в ней казалось ему достойным удивления; проводники к мозгу и к органам серьезно изучены, по одним лишь симптомам врач определит, в какой части спинного или головного мозга возникла закупорка кровеносного сосуда или наступило излияние крови в мозг. Нарушена ли только деятельность системы – и тогда нет повода для мрачных опасений, или опухоль грозит гибелью организму, ничто не ускользнет от пытливого взора невропатолога.
Диагноз будет бесспорен, но больному от этого легче не станет.
– Почему вы не действуете? – спрашивал врачей студент.
– Что бы вы предложили? – интересовались они.
Странный вопрос! Мало ли существует средств для спасения человека.
– Исследовать мозг, изучить состояние оболочек.
Оказывается, что в клинике не вскрывают череп без исключительных причин.
Новое разочарование постигло его во время практики в лаборатории. Молодой врач изучал природу чумного микроба. Не в пример медицине, в микробиологии все было понятно и все дозволялось. Вот он, виновник болезни, под стеклом микроскопа. Одна капля сулемы – и нет его и в помине. Ясен образ врага, известны средства борьбы с ним. Есть же безумцы, посвящающие себя медицине – науке трудной и сложной, полной жестоких запретов…
Микробиология не привлекла молодого врача, и он ушел в клинику, не в обычную, а в экспериментальную, в знаменитый Павловский институт. Кто мог подумать, что тут ему предложат возиться с собаками, в острых опытах черпать идеи!
Полгода спустя Быков пригласил Курцина к себе и сказал:
– В бывшей Обуховской больнице собрались врачи, готовые вместе с нами изучать пищеварение. Мы хотели бы определить вас туда.
Более приятного предложения аспирант не мог себе пожелать. В клинику, да притом в хирургическую, – превосходно, чудесно!.. Он любит хирургию давно, с тех пор, как узнал ее, любит за то, что операция так напоминает исследование, целительное для больного и нужное для искусства врача.
И с темой ему угодили. С каким удовольствием он в университете изучал кровеносную сеть! Особенно занимал его желудок – густо пронизанный артериальными и венозными сосудами. Он нагнетал в них быстро стынувшую красную и синюю жидкость, а самый желудок растворял в соляной кислоте. Мышечная и сосудистая ткань исчезала, оставалось алое и синее сплетение – застывшая схема кровеносного тока…
– С удовольствием пойду в клинику. Это по моей части. Там и опыт поставишь и человека спасешь.
– Какой опыт? – переспрашивает ученый. – У нас нет там собак. Экспериментировать вам не придется.
– Почему не придется? – недоумевает аспирант. – Можно, и сколько угодно.
На лице у него улыбка, он напоминает шалуна, который спрятал игрушку и заставляет других ее искать.
– На ком же вы намерены ставить опыты? – начинает сердиться ученый. – Неужели на больных?
– Именно на них, – спешит молодой врач заверить профессора.
Тот кивает головой и уже без тени раздражения спрашивает:
– Вы будете выводить им наружу слюнную железу или у вас имеется про запас другая методика?
– Зачем? Ведь мы намерены изучать пищеварение, главным образом деятельность желудка.
Какая странная манера объясняться! Пойми, что он этим хочет сказать.
– Значит, будете накладывать фистулу и перерезать у больных пищевод?
– Я позволю себе напомнить вам Павлова, – произносит аспирант. – «Неисчислимые выгоды и чрезвычайное могущество над собой получит человек, когда естествоиспытатель подвергнет другого человека такому же внешнему анализу, как должен он это сделать со всяким объектом природы, когда человеческий ум посмотрит на себя не изнутри, а снаружи».
– Как же вы все-таки поступите? – уловив смущенный взгляд аспиранта, повторяет ученый свой вопрос.
– Все это уже сделали до меня: и пищевод перерезали, и фистула наложена. Чего не сделает врач, чтобы спасти больного? Почему бы нам таких не понаблюдать? Найти их нетрудно: один пострадал от несчастного случая, другой вольно или невольно сжег себе пищевод… Я бы на них повторил опыты Павлова с мнимым кормлением. У человека мы такое с вами откроем, чего у собаки не увидим вовек…
Так вот что он имел в виду! Можно, конечно, прием не новый, известный давно. Не всегда только найдешь нужных больных.
Аспирант неожиданно обнаружил себя молодцом, у него и логики и здравого смысла более чем достаточно. Наблюдения в клинике – разумное дело, почему не воспользоваться случаем, одинаково важным для физиолога и медика? Величайшие возможности таятся в свидетельствах практикующих врачей. Не раз бывало, что их наблюдения становились запалом для исследователя и возникали открытия, прежде казавшиеся невозможными…
– Итак, вы хотите опыт с мнимым кормлением проверить на человеке? – спросил Быков.
– Да, пора бы, – уверенно произнес Курцин, – никто еще не брался за это всерьез. Что же касается больных, то позволю себе заверить вас, что здоровье и достоинство человека я ставлю выше всего. Ни себе, ни другим не позволю смотреть на больного как на экспериментальный материал. Физиологом я, возможно, и не стану, но врачом буду всегда.
Искренность аспиранта и его заверения не могли не растрогать ученого.
– Что же, уступить вам? – спросил он, внутренне уверенный, что не уступить нельзя.
– Да, обязательно, – подхватил аспирант. – Мы должны обратиться к человеку. Лабораторное животное эту задачу нам не решит.
– Вы как-то говорили, что на острый опыт у вас духа не хватит, – неожиданно вспомнил Быков. – Вы что же, жалеете животных?
– Жалею и очень люблю…
Глаза его покрылись мечтательной дымкой, голова чуть склонилась набок.
– Я люблю лошадей, чистокровных, горячих… Люблю их видеть на скачках, во всей животной красе… И собаки мне приятны, но только не в станке…








