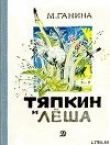Текст книги "Алексей Ставницер. Начало. Восхождение. Вершина (СИ)"
Автор книги: Александр Чебручан
Соавторы: Валерий Албул,Александра Старицкая,Александр Токменинов,Хобарт Эрл,Виктор Ставницер,Вадим Сполански,Игорь Шаврук,Владимир Мамчич,Абрам Мозесон,Михаил Ситник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Сегодня те маршруты, на которые у нас уходило по несколько дней, ребята играючи делают за день. Во многом из-за удобного и качественного снаряжения, но еще и потому, что предыдущие поколения наработали целый банк приемов, создана методика обучения скалолазанию, технические восхождения обрели права гражданства. Ничего этого не было, когда Алексей методично и последовательно взялся за освоение Крымских гор. Хотя опять-таки пальма первенства тут не его. Альпинизм в Крыму начинался еще в 1890 году, когда родилось «Крымское горное общество». Его назначением было исследование Крымских гор. Потом общество трансформировалось в клуб и даже издавало свой журнал «Записки Крымско-Кавказского горного клуба». Спорт это был аристократический, поэтому после 1917-го отношение к нему было соответственное. Лишь в конце тридцатых годов альпинизм начал возрождаться. И что важно – при активном участии Одессы. Одним из энтузиастов был профессор Одесского университета Елпидифор Кириллов. Это он поддержал студента университета Александра Блещунова, решившего создать в Одессе альпинистскую секцию. В 1940 году одесситы даже ходили на Памир.
В послевоенные годы в Крым одесситы ездили мало, наш базовый лагерь стоял поближе, на Южном Буге. Открытие Крыма по-настоящему произошло в шестидесятые. И Леша был среди тех, кто понял роль и значение Крымских гор для развития альпинизма. На Куш-Кае и других вершинах осталось немало маршрутов его имени, что, в общем-то, престижно, но это не главное. Главное, что Леша открыл эру современных стенных восхождений. Это его несомненная и, быть может, не до конца понимаемая сегодня заслуга перед украинским альпинизмом.
Для альпинизма, как его понимал Алексей, Крым был идеальной тренировочной площадкой. И тут сразу возникает вопрос, как Леша видел и понимал альпинизм. Без этого не понять многие события в нашем клубе.
Леша, Алексей Михайлович, был чистым технарем. Что это значит? Условно все восхождения альпинистов делятся на несколько дисциплин. Скальные – это подъем на стены с перепадом высот до 500 метров. Занятие сложное, так как скала не только крута, она еще и нависает, продвижение по ней измеряется метрами. Альпинист поднимается, забивая в скалу крючья, провешивая для страховки веревки, таща тяжеленный рюкзак со всевозможным снаряжением – от примуса и спальника до молотка и ледоруба. Технические восхождения предполагают плюс к сказанному еще и обледенение скал, просто крутой лед, снег. Высотно-технические включают в себя все вышесказанное, но происходят за линией, поэтически говоря, зеленой жизни, в условиях кислородного голодания и капризной погоды. Понятие высоты начинается с 2000 метров. И наконец, высотные восхождения – это подъем в поднебесье, на семи– и восьмитысячники. Уже на 6000 организм приспосабливается к кислородному голоданию очень трудно, привыкание идет дольше обычного, а еще выше – не приспосабливается вообще. Чтобы ходить на большие высоты, нужно иметь особый, «высотный» организм или подниматься в кислородной маске.
Леша наиболее предпочитал скально-технический класс, хотя был ему интересен и пограничный, высотно-технический. И в его биографии немало восхождений на пяти– и шеститысячники. Что же касается больших высот… Уже на рубеже 6 000 ему не хватало кислорода. Это – особенность организма, его на высокогорные условия не натренируешь. Не думаю, что этим можно пояснить его выбор в пользу технических восхождений, где требуется больше мастерства, чем силы. Тем более что он никогда не говорил, что высотные восхождения менее интересны. Леша отстаивал равенство и необходимость всех дисциплин. Такова была и традиционная позиция клуба. Технически сложные стены Чатына, Башкары, Дых-Тау, Чанчахи и многие другие были пройдены альпинистами старшего, послевоенного поколения. Виктор Лившиц, Эдуард Вайсберг, Борис Британов, Владимир Федченко, Вячеслав Нелупов, Вадим Шатилов, Павел Тепляков, Рада Ставницер – только первые в шеренге лиц, заложивших традицию равенства всех видов восхождений. Рада, старшая сестра Леши, пришла в альпинизм тоже в послевоенное время. Она была одной из немногих женщин, получивших звание мастера. С ее легкой руки примерялись к альпинизму и все братья.
Крым – идеальный учебный полигон. Нет кислородного голодания, он «всепогодный», можно тренироваться зимой и летом, его скалы обладают высокой сложностью – при желании можно найти маршрут и 5–6 категории, он близкий. Но он стоял как бы осторонь альпинистской жизни, потому что престижно было взобраться на Пик Коммунизма или Пик Победы, такие восходители сразу входили в почетный клуб «Снежных барсов». В своей среде мы, конечно, ценили мастеров-технарей, но для покорения высоких гор можно вполне обойтись и без умения подниматься по нависающей стене. Скажем, я побывал на четырех восьмитысячниках в Гималаях, и ни разу мы не прибегали к альпийским маршрутам. Но я понимаю, что близок тот час, когда спортивный азарт подведет к высотным восхождениям со сложными маршрутами, пройденными в альпинистском стиле.
Одесская команда проторила в Крым дорогу, но он не сразу стал для нас соревновательным пространством. Сначала – просто тренировочной базой. Но Леша методично добивался проведения в Украине соревнований в малых горах. Практически это было продвижение к признанию стенолазания равным высотным восхождениям. И таки ему удалось убедить альпинистское начальство, что это необходимо. Поэтому ничего удивительного, что именно Леша стал капитаном и лидером сборной Одессы в соревнованиях в малых горах. Особенно это важно сейчас, когда Памир и Кавказ заграница. Считалось, что альпинизм как спорт – чисто советская придумка. На Западе альпинизм – просто альпинизм. Ни разрядников, ни мастеров спорта. Хочешь лезть на Монблан или на Эверест – в добрый путь. Сорвался и в пропасть – твои риски. Хотя нужно сказать, что при такой, казалось бы, вольнице, в европейских горных странах четко работают спасательные службы. Случись где-нибудь в Альпах трагедия, как с нашими на Дых-Тау, никому не пришлось бы снаряжать самодеятельную экспедицию и искать для нее средства. Спасатели сняли бы с горы терпящих бедствие без промедления и бесплатно. У них там какое-то свое понимание рыночной экономики и ценности человеческой жизни.
Излишняя зарегулированность в советское время действительно была. Но соревновательность – основа всякого спорта. Вот теперь, наконец-то, создана Международная Евроазиатская федерация альпинизма, признающая альпинизм как спорт. Первый Кубок мира по малым горам был намечен на осень 2012 года в Крыму. Тисовские альпинисты – Леша создал у себя на предприятии альпинистскую секцию, а в Крыму базу для нее – будут зрителями сбывшейся мечты Алексея Ставницера.
Альпинизм – спорт в известном смысле иерархический. То есть старший и более опытный имеет определенные преимущества перед молодым. К примеру, капитан, как правило, идет первым. В этом есть не сразу постижимая логика. Первый бьет в скалу крючья и вешает веревки. Это тяжелая работа. Но с каждым метром его рюкзак легче. Последний крючья выбивает и веревки снимает. Тоже нелегкое занятие, но рюкзак при этом еще и становится с каждым метром тяжелее. Леша не то чтобы пренебрегал традицией, совсем нет. Но на тренировочных восхождениях он частенько пускал впереди спортсмена, что называется, без биографии. И тут оказывалось, что снимать и тащить крючья тяжело, а выбрать правильный, безопасный маршрут – еще тяжелее и ответственнее. Цена ошибки в альпинизме всегда одна – жизнь или травма. Достаточно один раз пойти первым без надлежащего опыта, ощутить ответственность за жизнь идущих за тобой товарищей, чтобы понять, как и почему создавалась традиция.
Свои первые восхождения по крымским стенам я делал в связке с Лешей, поэтому его принцип – не рассказывать, а показывать, не сковывать инициативу, а наоборот, раскрепощать ее – я испытал на себе. Он один из немногих инструкторов давал человеку возможность, шанс выйти за предел своего умения, знания, мастерства. Ясное дело, что это было сопряжено с большой ответственностью. А вдруг что не так? Так Леша это «а вдруг» выносил за скобки. Вот пример.
Мы ходили на Куш-Кае по скалам, выбирая маршруты позаковыристее. В команду входили Володя Альперин, Вадим Леонтьев и я малоопытный. И вот в один из дней, утром, Леша смотрит на гору и говорит: «А слабо ли нам взойти вот по этой стене без страховки?» Стена – так себе. Ничего опасного. Может, по сложности на двойку потянет. Но без страховки… Уж лучше по пятой категории подниматься, но точно знать, что в случае чего – повиснешь на веревке, товарищи помогут. А без страховки, как в популярной тогда песне, «оступился и вниз»…
Мне потом приходилось подниматься на самые высокие пики и в Гималаях, и на Памире, и ходить по сложным склонам в других горах, но такого напряжения, такого состязания с самим собой, как на этом трехсотметровом подъеме на Куш-Кае, я не помню. Но зато навсегда усвоил – в случае чего я могу ходить и без страховки. Я себе это доказал. Нечто подобное потом случилось и на Кавказе.
На Виа-Тау мы ходили часто, по сложности маршруты там разные, гора для тренировок идеальная. Обычно группа выходит из альпинистского лагеря, поднимается до подножья, ночует. На рассвете подъем – и на штурм. Железное правило в альпинизме – в сумерки не ходить. Поэтому успевали после восхождения спуститься в «зеленую гостиницу», там еще одна ночевка и утром домой. Я был второразрядником, Леша, кажется, кандидатом в мастера. Мы ходили с ним в двойке на тренировочные восхождения, набирали форму. И вот как-то он с прищуром смотрит на нашу группу из четырех молодых парней и говорит: «А слабо ли нам в один день сбегать туда и назад вернуться?»
Я как-то в серьезность такого предложения не поверил – в один день «сбегать» на Виа-Тау и вернуться в базовый лагерь еще никому не удавалось. Да что там не удавалось – мысли ни у кого такой не возникало! Но вижу, что Леша настроен серьезно, и соглашаюсь. Никому ни слова – готовимся. Ложимся пораньше, поднимаемся еще до рассвета и с фонарями – в путь. Идем налегке, ни запаса продуктов, ни палатки. Ранним утром начинаем восхождение. Сама мысль, что нам предстоит подняться и спуститься засветло, подстегивает, и поднимаемся достаточно быстро. Но Леша смотрит на гору, прикидывает и говорит, что в принципе здесь можно идти и без страховки. Быстрее будет. Что в связке темп замедляется, это азбука. Но и то, что на Виа-Тау без страховки не ходят – тоже азбука. Существовавшие правила запрещали это категорически. Леша всматривается в маршрут и показывает, до какого места можно идти не страхуясь, и поясняет почему. И впрямь, думаю я, зачем на этом отрезке идти в связке?
Это уже потом, когда я впервые пойду в горы с иностранцами, а это было ни много и ни мало, а восхождение на Эверест, я открою для себя, что Леша учил меня, условно говоря, западному стилю в альпинизме. В Альпах ли, в Андах или Гималаях наши коллеги ходят, сами определяя меру безопасности. Каждый отвечает за свою жизнь сам, а не инструктор или директор альплагеря, каждый полагается на свое мастерство и сноровку. В таком стиле есть риск, но есть и существенное преимущество. Оно в воспитании ответственности за свою жизнь, в самодисциплине.
Хотя альпинизм и командный спорт, но мера индивидуальной ответственности в нем неизмеримо выше, чем в иных, игровых видах.
В те годы связь между альпинистами и базовым лагерем поддерживалась при помощи радиостанции «Недра». Громоздкая, тяжелая и ловившая все на свете помехи, она была придумана будто в наказание альпинистам. Не лучше была и обувь: мы поднимались в отриконенных ботинках, которые с каждым шагом все тяжелее было отрывать от земли. Да и прочее снаряжение, казалось, изготовлено исключительно для того, чтобы отвратить у человека охоту от альпинизма. Мы все воспринимали это как норму, а Леша – как бунтарь. И когда у нашего альпклуба появится свое помещение, он по собственной инициативе обустроит там мастерскую и с присущей ему решительностью возьмется за изготовление современного альпинистского снаряжения. Теперь в это поверить трудно, но в семидесятые годы прошлого века мы не только не могли купить иноземное снаряжение легально, не только не могли его «достать» нелегально, мы даже не знали, как оно выглядит. Мы его в лучшем случае видели на картинках. Но когда в конце семидесятых оно таки начало «проникать» в страну, оказалось, что Лешины самоделки ничуть не хуже. А титановые скальные и ледовые крючья были так хороши, что иностранцы готовы были отдать за них что угодно.
Разумеется, в том однодневном восхождении на Виа-Тау мы выбрали не самый сложный путь. Но чем выше поднималось солнце, тем идти было опаснее. Снег превращался в кашицу, камни вытаивали и выскальзывали из-под ног. Тем не менее, мы вкладывались в свой график. И когда спустились к зеленой зоне, где уже бродили предвечерние тени и откуда снежные шапки Виа-Тау сияли все еще ослепительно, я понял, что сделал то, что раньше считал невозможным. Но только потом, со временем, оценил умение Леши дать человеку возможность открыть самого себя, превзойти самого себя. Если человек хотя бы раз в жизни сделал то, что считал невозможным, он всегда будет знать, что его личный предел находится за границей его умения, достижений и прочее. Потому что победить себя – это и есть самая важная победа.
Я не скажу, что был в круге самых близких товарищей Алексея. Он чаще, чем со мной, ходил с Николаем Ческидовым, Петром Старицким. С Анатолием Королевым они вообще, как мне кажется, были друзьями не разлей вода. В клубе вообще-то не было постоянных, неменяющихся составов. Они создавались на каждое восхождение ситуативно, но, естественно, в первую очередь, учитывалась совместимость по душе, а уже потом – по всему остальному. Мы с Лешей вместе поднимались на Ашам, очень интересная вершина на Памире, это было первовосхождение по достаточно сложному маршруту. Оно внесено в классификатор альпинистских побед. Много вместе ходили по Крыму, по Кавказу. К счастью, ходили удачно. А врезаются в память, как правило, ситуации экстремальные, опасные для жизни. Поэтому со временем в памяти все сгладилось, сравнялось и осталось только ощущение удовлетворенности, которое всегда испытывает альпинист после восхождения. На самом деле нормальному человеку трудно понять, в чем это удовлетворение. Подниматься в гору – трудная работа. Ничего радостного в ночевках, вися над пропастью в гамаке или примостившись на скальном карнизике, когда сон – в полглаза, а холод до костей. Ко всему этому, мало на какой физической работе человек устает так, как при восхождении. Побывав и на семитысячниках, и на четырех вершинах выше восьми тысяч, должен сказать, что помимо кислородного голодания, не менее тяжело просто идти в гору, навьюченным тяжелым рюкзаком. К тому же снега – в пояс, ветры срываются непредсказуемо, мороз. Но именно странная любовь к такому занятию объединяет людей, если не сказать – отбирает, сепарирует по особым качествам. А уже заболевших этой странной любовью нужно учить.
Алексей оказался тренером удивительным. Он однажды с восторгом рассказывал мне о ленинградском учителе литературы, призабылась его фамилия, который пришел на урок по Достоевскому в пальто. Детям предстояло изучение «Преступления и наказания». Учитель распахнул пальто, под полой на веревочной петле у него висел топор. «Вот так подготовился Раскольников к встрече со старухой-процентщицей», – сказал он. И эта находчивость учителя, нашедшего не просто хороший педагогический прием, а демонстрирующего реальность, нелитературность ситуации романа, его удивила.
Он и сам, работая начальником учебной части в разных альпинистских лагерях на Кавказе, был не учителем-начетчиком, а в высшей мере изобретательным педагогом. Он работал в Шхельде, в Терсколе и «Эльбрусе», и переход Леши из лагеря в лагерь характеризовался потоком желающих попасть на сборы именно к нему. Разумеется, к одесситам у Леши было особое отношение. Инструкторами он тоже чаще всего приглашал выучеников Одесского клуба и меня в том числе.
Склонность Леши к техническим восхождениям, на мой взгляд, предопределила суть его педагогической школы. В этом определении нет преувеличения, в подготовке альпинистов Алексей Михайлович действительно создал свою школу, как, к примеру, в системе общего образования создал ее В. Сухомлинский.
Как и в заштатном Павлыше с неказистой сельской школой, так и в Шхельде или Эльбрусе с обычными лагерями, обычным финансированием и обычным штатным расписанием, он создавал главное. Оно называется – атмосфера творчества. Говорят, в Шхельде до сих пор стоит тренажер – внимание! – для страховки сорвавшегося альпиниста. В переводе на понятный язык. Впереди вас по горе идет ваш товарищ. Он срывается и летит вниз.
Как вы должны поступить? Что вы должны сделать, чтобы спасти его и не сорваться самому? До Ставницера обучали так. Бросали бревно или мешок, который нужно было изловчиться и поймать. Леша смоделировал это на скале, создал механизм, который сбрасывал манекен, равный по весу человеку. И идущий внизу альпинист должен был до автоматизма отработать движения по спасению падающего тела. Как держать руки, как ставить ногу, как смягчить силу удара и так далее. Из нелюбимого занятия по ловле мешка или бревна, занятия по страховке стали увлекательной игрой. И понятно почему – все понимали, что рано или поздно все срываются вниз и рано или поздно все ловят тех, кто срывается.
Думаю, Леша многому научился в команде Лео Кенсицкого, который был несомненно не только талантливым восходителем, но и классным тренером. Учебно-тренировочный процесс в лагере всегда был насыщен и нескучен, потому что шел в максимально приближенных к реальности условиях. Слава о нетрадиционном начуче Ставницере быстро пошла по Союзу, он стал заметной фигурой, к нему валом повалил народ. Это, разумеется, приятно, но…
Леша с семьей жил что в Шхельде, что в Эльбрусе или Терсколе далеко не в дворце. Понятия о гостеприимстве исключали встречи с более-менее знакомыми людьми в казенном кабинете или в лагерной столовке. Поэтому жена Алла, тоже, к слову сказать, альпинистка, пошучивала, что она работает у Леши заместителем по гостеприимству. В альпинистской среде немало людей интересных, знаменитых, и поэтому дом Ставницеров был чем-то вроде клуба интересных встреч. Хозяевам гости были не в тягость, жизнь в глухих горах для семьи была более насыщена и интересна, чем где-нибудь в асфальтовом пространстве городов. Как-то потом, уже после возвращения в Одессу, Алла вздохнет – наплыв гостей был всем хорош, кроме одного: маленький Егор рос в «гостевом водовороте», а ребенком нужно было заниматься больше. Хотя лично у меня сложилось впечатление, что Егор был личностью вполне самостоятельной, если гости его не привлекали, он уединялся с книжкой. К тому же и традиционный быт семьи Ставницеров был, что называется, нараспашку. В их квартире на Троицкой, пока у нас не было клубного помещения, были постоянно встречи, собрания, обсуждения. Я помню свое первое впечатление от посещения этого дома – никакого занудства и чопорности, в большой комнате почему-то лежало бревно. Возможно, эта была деталь «арт-хаузного» интерьера, но на нем очень славно было сидеть, оно располагало к непринужденности.
Полагаю, что популярность Ставницера-тренера была причиной того, что он оказался в Терсколе. Это туристская база у самого подножия Эльбруса, и принадлежала она Министерству обороны СССР. Само собой разумеется, что, где звезда на воротах, там и КПП с дежурным, особый режим и так далее. Конечно, друзья в гости к Леше ездили, но чем он там занимается…
– Да чем везде занимаются инструктора – учу ходить по горам, – говорил Леша. – Только вместо цивильного народа – народ военный, дисциплинированный в лагерь приезжает учиться альпинизму и туризму настоящим образом.
Я в этом убедился сам. Министерство обороны решило в 1983 году совершить восхождение на Эльбрус команды числом сто человек. Оно посвящалось 40-летию снятия фашистских штандартов с вершин и намечалось на 23 февраля – День Советской Армии. Как я теперь понимаю, пропагандистская кампания должна была переплюнуть давнюю геббельсовскую по поводу водружения штандартов на самой высокой горе Кавказа. Вопроса, почему фашистские флаги оказались на Эльбрусе, у меня тогда не возникало.
Леша пригласил меня на эту альпиниаду начспасом. В команду спасателей сразу включили Олега Ерохина, Пашу Зайда, Валерия Розенберга. Ее можно было по необходимости расширять, но изначально предстояло продумать и упредить все нежелательные происшествия. Леша предупредил нас, что команда будет сборной, в общем-то, физически подготовленной, но не альпинистской в нашем понимании. То есть без опыта восхождений.
В Терскол Лешу взяли начальником учебной части, база эта жила, скажем так, особой жизнью. В ней и отдыхали, кому хотелось отдыхать, и проходили горную подготовку, кому по роду службы нужна была такая подготовка. Со свойственной ему инициативностью и знанием дела Леша создал в Терсколе учебно-методический центр подготовки офицеров. Замечу, что в Союзе только в одном военном училище, в городе Орджоникидзе, готовили «горных офицеров».
У Эльбруса, как известно, две вершины. Сначала проходим одну, потом по седловине между ними – на другую. Когда мы оказались между вершинами и шли цепочкой, обозвался сердитый генерал: он всех нас посчитал в свою трубу, проверяя доклады командиров отделений, что никто не отстал, и… обнаружил двоих лишних.
– Командиры групп докладывают, что у них численность строго соответствует спискам, – гремел он по рации Алексею. – Следовательно, лишние только штатские. Разобраться и доложить.
Разобраться было несложно. «Зайцами» среди восходителей оказались спасатель, мастер спорта Паша Зайда, который посчитал, что, коль его обязанности по базе выполнены, то он тоже может сбегать на гору, и Таня Борисевич, студентка нашего технологического института (в этом вузе альпинизм среди девушек был почему-то популярнее всех вместе взятых женских видов спорта). У Тани были теплые дружеские отношения с Олегом Ерохиным, так что никакого секрета, как она оказалась среди военных, не было. Сознаюсь и покаюсь, о «зайцах» я знал, присутствие ребят среди восходителей не считал великим грехом и нарушением дисциплины, тем более, что у обоих была приличная квалификация. Увы, генерал думал иначе… Он там, внизу, метал громы и молнии и «строил» Лешу, как старшина новобранца. Мы со своей цивильной логикой – дескать, чего уж теперь, виноваты, справимся, большую часть пути прошли и т. д. – генерала только раззадорили. Он приказал немедленно отправить лишних штатских вниз. И пришлось подчиниться…
Пожалуй, я один из немногих могу оценивать не теоретически, а по существу, что значило для Леши и его семьи более чем десятилетнее пребывание на Кавказе и что это значило для развития альпинизма в стране. В давние времена мы с женой, тоже альпинисткой, счастливые молодожены, прожили год на Кавказе, работая инструкторами. Внешняя сторона такой жизни – горные красоты, любимое занятие, словом – романтика. Реальность – глухомань и бездорожье, оторванность от привычных условий жизни, оторванность от друзей и близких, примитивный быт, достаточно суровый климат. Я понимал, почему Леша каждое свое временное пристанище обустраивает, как будто жить там до скончания дней. Человек мастеровой, рукастый, он старался создать для семьи тот минимум бытовых условий, на который она имеет право. Даже так: которого он не имеет права ее лишать. Он понимал, чего лишается Алла, молодая и красивая женщина, меняя Одессу на туманные или заснеженные ущелья. И смею сказать, он был хорошим и заботливым мужем. И он был к тому же поглощен идеей реформирования советского альпинизма в аналог западного – не так зарегулированного, но так оснащенного и вооруженного. Разумеется, теперь понятно, что для того, чтобы иметь западную модель альпинизма, нужно быть западным обществом. Но тогда ведь мы полагали, что можно худшее выбросить, лучшее – оставить. Теперь, имея немалый опыт восхождений вместе с зарубежными мастерами, зная роль и место альпинизма в разных странах, я убедился, что стратегическое направление, избранное Лешей, было правильным. Оставался сущий пустяк: чтобы его поняло государство. Не страна, не общество, а государство. К сожалению, не понимает.
Я помню Лешино возвращение с Кавказа. Оно было в никуда. Десять лет, отданных подготовке классных альпинистов, государство оценило так, как всегда оценивало патриотизм и самоотверженность, – никто ничего никому не должен. Новая методика, новая система подготовки альпинистов, созданная Алексеем, оказалась выброшенным на берег китом. Не столкнуть в море – погибнет.
Семья Алексея разбогатела на Кавказе на одного сына – и не более. Нужно было приспосабливаться к новой, кардинально изменившейся за время гор, жизни. Альпинизм становился перевернутой страницей биографии.
Михаил Ситник

В 1979 году Леше присвоили звание мастера спорта СССР по альпинизму. Лето он провел в экспедиции ЦС ДСО «Авангард» на Юго-Западном Памире, совершив там сложные восхождения.
А осень – традиционное время для прохождения стен в Крыму. Уже стоял ноябрь, но по-летнему жаркий. Мы добрались к Ялте около полудня, около часу были под Ай-Петри. Решили идти на стену двумя двойками по параллельным маршрутам. Я шел с Лешей, а Сережа Сипкин – с Толей Гениушем.
Поскольку намерение было обернуться быстро, то пошли налегке, только со снаряжением, без теплых вещей, в одних футболках.
В нашей связке лидировал Леша. Он легко прошел все сто пятьдесят метров отвесной стены, после которой мы вошли в лесистую, некрутую чашу, ведущую к предвершинной стенке. Здесь мы встретились со второй связкой и дальше полезли одной командой. Но и простенькие сложности, вроде внезапно возникавших стенок в пять-десять метров, тоже требовали времени. Таким образом, вершина оказалась гораздо дальше, чем предполагалась. И как ни скоро мы продвигались, но тьма таки нас догнала с присущей ноябрьской ночи заморозками. Лезть в темноте опасно, пришлось подумать о непредвиденной ночевке на стене.
Склон, на котором мы решили ночевать, был градусов 45. Мы прикинули, к чему будем вязаться веревками, чтобы не скатиться вниз по склону, и пока окончательно не утонули в темноте, собрали сушняк (слава Богу, в чаше деревья росли). И тут вдруг оказалось, что развести костер нечем. Спички буквально перед местом ночевки на крутой стенке выпали у меня из кармана. Я даже не стал за ними возвращаться, спичек там было всего несколько.
Мое признание ребята встретили молчанием, более красноречивым, чем холод ноябрьской ночи. Потом Леша уточнил – точно ли я помню, где именно потерял коробок. Я помнил. Присвечивая глазами и злостью, мы с Лешей полезли назад. Опускаю подробности, как мы на ощупь искали коробок. В конце концов, он нашелся. Ощупью добрались до места ночевки, развели костерок и, поворачиваясь к нему то одним боком, то другим, полулежа-полувися на крутом склоне, стуча от холода зубами, ждали рассвета.
Самым предусмотрительным из нас оказался самый молодой и неопытный Толя Гениуш. Он разумно решил, что свитер много не весит, и запихнул его в рюкзак. На всякий случай. Свитер кавказский, из теплой шерсти. Толя натянул его, улегся и благостно похрапывал. Правда, почему-то все мостился к огню головой ближе – мерзла. Мы же, коротая время, говорили обо всем на свете и действительно не заметили, как стрелки переползли за полночь и приблизились к рассветному часу.
Утром мы снялись и решили, не поднимаясь на вершину, спускаться со стены. Все быстро собрались. Но Толя медлил, чертыхался, как-то неловко у него каска на голове сидела, мешала, и он никак не мог ее поправить. Он дергал каску, нервничал, но снять не мог. Леша начал тихо хихикать, потом разобрались, в чем причина «косоголовости», и мы. Оказалось, пододвигаясь головой все ближе к костру, Толя нарушил безопасную черту, каска… расплавилась, и волосы намертво влипли в пластмассу. Хохот стоял на все горы. Но наш товарищ смеха не понимал и не принимал, с ним начиналась форменная истерика. И тогда Леша, не вступая с Гениушем в переговоры, тихо зашел сзади и тюкнул по каске молотком. Каска лопнула и распалась. Переждав боль и испуг от неожиданного удара, начал смеяться и Толя. Злость на самих себя за ошибки и холодную ночевку перешла.
Мы благополучно спустились под стену и на время расстались, из членов одной команды превратившись в соперников – конкурентов. Начинался Чемпионат Украины «Малые горы». Леша выступал в немзакоманду ЦСДСО «Авангард», а я – за альпклуб «Одесса».
Перестройка, о которой теперь осталась смутная память, в горы поднималась медленно. О ней в «Эльбрус» привозили новости, отфильтрованные восприятием среднестатистического интеллекта. Как он мог не иметь примеси совка, если даже самородное золото имеет группу сопутствующих металлов?
Алексей с семьей прожил в горах около десяти лет, к переменам относился положительно. Избыточность патриотизма среди местного населения он тоже воспринимал спокойно, потому что, как и каждый нормальный человек, исключал короткое замыкание в нормальном сознании на национальной почве. Свой – это порядочный, честный, профессиональный. Чужой – дурак, неумеха, подлый. Что, казалось бы, проще для понимания? Но извечное для пояснения собственной несостоятельности «понаехали тут…» проклюнулось и среди кавказцев. И вот вчера начальник учебной части лучшего в стране альпинистского лагеря Алексей Ставницер был гуру, перед ним в знак уважения снимали папахи, а сегодня – чужой, пришелец. И вполне может помешать «перестройке», как ее понимали аборигены. А понимали просто: альпинистский лагерь нужно взять под свой контроль, а еще лучше – в собственность, и деньги тогда потекут, мимо кассы, разумеется, бурной рекой.
Как-то не думалось «орлам», что популярность «Эльбруса» строилась многие годы, что в ее основе не столько окрестные красоты, постройки и налаженный быт, а система подготовки альпинистов, хорошо организованный учебно-тренировочный процесс. Последующее развитие событий, к слову сказать, все это и показало.
Ставницера решили «схарчить». Завели по партийной линии персональное дело. Для него нужны были не факты, а желание. И Алексея скоро исключили из партии. Райком и обком решение партийной организации утвердили и даже гордились этим – идет процесс очищения. Алексей обжаловал несправедливое решение в Комитете партийного контроля ЦК КПСС – высшей инстанции, имевшей репутацию партийного ЧК.