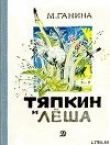Текст книги "Алексей Ставницер. Начало. Восхождение. Вершина (СИ)"
Автор книги: Александр Чебручан
Соавторы: Валерий Албул,Александра Старицкая,Александр Токменинов,Хобарт Эрл,Виктор Ставницер,Вадим Сполански,Игорь Шаврук,Владимир Мамчич,Абрам Мозесон,Михаил Ситник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
– Вы не переживайте, – успокоил его Алексей. – Не разбив, мы не узнаем, из чего эти зацепы делают. А узнав, сделаем сами. Я вам через неделю таких зацепов ящик подарю…
В неделю мы не управились. Точно определить химический состав зацепа наши лаборанты не сумели. Но основные компоненты назвали. Главной составляющей там были эпоксидные смолы. Что там еще могло или должно было быть, мы додумали сами. Параллельно конструировали альпинистскую стенку, для чего организовали мозговой штурм, в котором участвовали лучшие скалолазы и тренеры. Придумали, как изготовить на основе стеклопластика основу искусственных скал – модули размером метр на метр. На этих модулях должны были крепиться зацепы. Несущие конструкции – трубы. Для их сборки нужны были особые крепления, которые тогда не выпускала наша промышленность – замки. Лешу это нисколько не смутило – он куда-то звонил, с кем-то договаривался, скоро в комнате сидели конструкторы, инженеры, токари и слесари, которым Леша на пальцах показывал, какие нужно придумать замки. У меня до сих пор сохранились папки технической документации на эти соединения. Он невесть каким образом узнал, что под Котовском есть завод по ремонту тепловозов с приличной литейкой, уговорил их принять наш заказ.
Леша вообще демонстрировал удивительную системность – в «Промальпе» толклись химики, механики и конструкторы, технологи. Вряд ли когда на наших производствах технологические карты создавались такими темпами. Нужные смолы в наибольшей близости оказались в Грозном, тогда еще не охваченном войной. Нужные трубы – где-то в Донбассе. Зацепы самых разных конфигураций лепил по заказу Леши его брат Виктор – профессиональный скульптор. Оказалось, что Леша любит масштабность действия – он придумал установить первый искусственный скалодром на Куликовом поле, в центре города, чтобы за карабкающимися по отвесной стенке альпинистами могла наблюдать вся Одесса.
Ровно через месяц после того, как Леша расколотил «сувенирный» зацеп Владимира Шатаева, на Куликовом поле состоялась демонстрация первого искусственного скалодрома. На диковинку ехали посмотреть, желающие могли попробовать себя в скалолазании. Праздник едва не испортил внезапный ветер – стенка сильно парусила, но Леша невесть откуда добыл кран и бетонные блоки, сооружение закрепили. Потом скалодром перекочевал во дворы Маразлиевской, где служил по назначению, а спустя некоторое время кооператив продал его по себестоимости одному из заводов.
Само собой разумеется, что производство скалодромов было коммерческим проектом. Не без содействия московских чиновников искусственные стенки пошли по стране. Первую мы установили в Казани, самую далекую – на Алтае, в Бийске. Всего же мы их произвели и смонтировали более трех десятков, причем, каждая последующая была лучше, интереснее. Во многом потому, что Алексей засел в научной библиотеке и изучил весь массив специальной литературы по теме – раз; потому что изучил всю информацию в патентном бюро и выудил там массу интересных решений – два; потому что серьезно работал с открытыми источниками и перенимал лучшие идеи – три. Наши последние тренажеры мало чем напоминали тот, что демонстрировался на Куликовом поле. От идеи применить по бедности для создания модуля фанеру мы пришли к созданию пластиковых скальных рельефов с углублениями и выступами, нависаниями и так далее. Смею предположить, что наши скалодромы в то время ничем не уступали западным аналогам. И нужно отдать должное Виталию Томчику – он не жалел средств кооператива на зарубежные поездки в признанные альпинистские школы, на международные соревнования, которые, к слову сказать, все чаще проходят в Европе на искусственных стенах, и где мы многому учились.
Кооператив Томчика стал для Леши хорошей «школой капитализма». А он в ней – успешным учеником. Он прозорливо усмотрел, что власть скоро начнет кооперативное движение душить. И задолго до того, как вопреки законам и обещаниям пошла кампания против кооперативов, мы уже создали ряд малых предприятий, потом трансформировали их в СП, всякий раз опережая власть, которая никак не может понять, что гораздо выгоднее создавать для бизнеса условия, чем драть с него семь шкур. Мы не все умели, не все у нас получалось, но Леша первым сообразил, что малый бизнес должен быть многопрофильным. Наши предприятия принимали и сопровождали горных туристов, искали с немецкими орнитологами в горах Тянь-Шаня птичку серпоклюв, с ботаниками – редкий вид примулы, не забывали и промышленный альпинизм.
В начале «лихих девяностых» мы частенько ездили в Москву, которая инерционно все еще воспринималась, как всемогущий и всеопределяющий центр.
Мы в своем предпринимательстве пытались не отрываться от альпинизма. Все спортивное снаряжение выпускалось под контролем Спорткомитета и отраслевого профсоюза. У Москвы в руках были нити управления, у нас – готовность работать. Мы были полезны друг другу…
Честно говоря, я не совсем понимал, зачем Леша брал меня с собой. Но только благодаря этим поездкам я понял, что значит заниматься предпринимательством всерьез. Он работал дни и ночи напролет. Если не вел переговоры, то висел на телефоне, ночью читал и писал проекты, круг контактов и знакомств был фантастически обширен. Москвичей не просто удивить, но даже их Лешина напористость заставляла открывать рты. Так было, к примеру, с выпуском портативных газовых баллонов для альпинистских газовых горелок. Уже весь мир ходил в горы с газовыми горелками, а мы все еще таскали тяжеленные бензиновые примусы. В конце концов, Спорткомитет решил вооружить современными плитками и нас. Но баллоны оказались весом в пять килограммов каждый. В отличие от зарубежных, вес которых был около 200 граммов. Почему? Потому что по нашим ГОСТам баллоны рассматривались как «сосуды, работающие под давлением» и по требованиям Котлонадзора должны иметь толстые стенки.
– Значит, нужно менять ГОСТ, – сказал Алексей московским партнерам. – Какой дурак будет тащить пятикилограммовую плитку в горы. И тем более, какой дурак за нее будет платить деньги.
Москвичи верили в ГОСТ, как в «Отче наш». Но Леша начал звонить, доказывать, писать письма, заказывать экспертизы, и, в конце концов, ГОСТ был изменен. И не за сто лет, как предрекали пессимисты.
Часто, если не все чаще, бизнес-проекты уходили все дальше от альпинизма. Мы оба сожалели об этом, но такова была жизнь. В те же годы среди его партнеров появился вальяжный греческий бизнесмен, который и Алексею, и Виталию Томчику преподал мастер-класс ведения бизнеса. Он покупал в Украине металл дешево, продавал его на западных рынках дороже, на вырученные деньги покупал продукты и вез их в Одессу. Цены были доступными. На его родной Троицкой появился магазин «Эммануэль», по имени греческого предпринимателя. Прилавки его были завалены продуктами, которые ранее нужно было «доставать». Леша чертыхался: получив партию австрийских конфет, продавщицы тут же взялись их прятать под прилавок. В образовавшейся очереди кричали, чтобы продавали не более пяти коробок в одни руки. Уверениям, что берите, сколько хотите, всем хватит, – не верили.
Скоро Леша создал свое предприятие и назвал его «Эверест». Мстислав Горбенко, первый из одесситов, взошедший на Эверест, шутил, что Леша должен помогать альпклубу за использование альпинистской символики. Мало кто знал, что с того самого времени, как он начал зарабатывать более-менее приличные деньги, он помогал чем мог собратьям по альпинизму. Из прибылей «Эвереста» он еще долго поддерживал наши общие с ним предприятия по альпинистским программам, так как доходность их становилась все меньше и меньше. Моя «гражданская» специальность, забытая мною ради альпинизма, – морские порты. Бывая часто у Леши в «Эвересте», я заметил однажды у него на столе кипу технической документации. И что-то знакомое увиделось мне на этих чертежах.
– Хочу заняться новым портом, – сказал Алексей. – Понимаешь, в перестроечные годы рядом с портом Южный планировали начать строительство новых специализированных причалов, даже оборудование частично завезли. А потом, как и везде в то время, оставили эту идею нереализованной. А оборудование ржавеет…
– Леша, а ты знаком с работой портов? Там специфика своя, и кастовость в управлении портами – пробить что-либо чужаку невозможно!
– Не знаком, но я специалистов найду, – ответил Алексей. – Правда, есть одна проблема. Причал планировался для импорта насыпных грузов, а теперь ситуация изменилась, и требуется перепрофилировать оборудование на экспорт грузов!
Зная конструктивные особенности причальных перегружателей этого типа, я сказал, что это невозможно!
– Если мне не веришь, проконсультируйся в Черноморниипроекте, – организации, специализирующейся на проектировании портов и портового оборудования, сказал я.
– Консультировался, тоже сказали – невозможно.
Прошло время, и я узнал, что Леша добился своего, изменил таки конструкцию машин, и они успешно работают! Затем вошел в строй первый из планировавшихся к пуску причалов. И был создан ТИС – стивидорная компания с собственным портовым терминалом.
Как-то при встрече я предложил Алексею Михайловичу в Крым съездить, какое-никакое восхождение совершить.
– Ты понимаешь, в моей работе сейчас адреналина больше, чем на опасном восхождении. Да и некогда. Не могу!
И вдруг, несколько лет назад Леша позвонил мне и предложил вместе поехать в Крым. Позже я узнал, что он решил организовать встречу ветеранов команды Кенсицкого, своих друзей по альпинизму из далеких уже семидесятых годов, и оплатил все расходы по этой встрече. Из одесситов Леша пригласил с собою старых своих друзей: Николая Ческидова и Анатолия Королева. Встреча была трогательной и теплой. Все постарели и выглядели не такими бойцами, как тридцать лет назад, но держались бодро, на жизнь не жаловались. Конечно, помянули ушедшего в мир иной Лео, вспомнили былое…
Неожиданно утром Леша согласился пройти на Куш-Каю – стене его молодости – маршрут. Сколько же лет прошло с его последнего прохождения этой стены! Сколько волнений здесь пережито, мгновений счастья и разочарований! Как молоды мы были тогда: вся жизнь впереди, и какою счастливой она нам виделась в перспективе!
Третьим с нами пошел Андрей, младший сын Леши.
Подход к началу маршрута. Вот поляна у подножья скалы – здесь мы тридцать с лишним лет назад разбивали свои палаточные городки. А вот камень-великан, на котором Леша восседал, будучи главным судьею наших соревнований и проводя судейские совещания! Но пора связываться веревкою и начинать маршрут!
– Я пойду первым! – вдруг сказал, как отрубил, Леша.
– Тебе нельзя рисковать, – попытался протестовать я, – опасно, а ты руководитель огромного производства!
Для непосвященных отмечу, что первый в связке, прокладывая путь остальным, рискует сорваться и упасть на большую глубину – до предыдущей установленной им точки страховки, а затем на столько же ниже. Если точка страховки выдержит динамический удар – падение прекратиться, если нет – продолжиться до следующей точки. И закончиться такое падение может непредсказуемо…
– Я пойду первым! – уверенно повторил Леша. Я редко хожу вторым, с волнением я начал страховать Лешу: прошли десятилетия, и естественно, что спортивную форму без тренировок сохранить нельзя, а тренироваться Леше было некогда. Вначале неуверенно, затем все смелее и раскованнее Леша полез по скале. Тело вспоминало забытые сознанием движения! Мы с Андреем, затаив дыхание, наблюдали, как шаг за шагом Леша удалялся от нас. И скала уступила, мы прошли длинный (около 300 м) и достаточно трудный маршрут, поднялись на ее вершину.
Когда Леши не стало, вспоминая это последнее его восхождение в горах, я подумал, что всю свою жизнь, вот так же шаг за шагом, рискуя сорваться, но смело и решительно Леша прокладывал путь другим, каким бы делом он не занимался! И своим примером учил нас смелости, мужеству, настойчивости в достижении цели.
Александра Старицкая

Шла последняя для Аллы и Леши кавказская зима, весной они собиралась возвращаться в Одессу по весьма уважительной причине – родившийся уже на Кавказе Андрей дорос до школы. Впрочем, у Леши там еще оставались кое-какие дела, и он мог задержаться. Я как никто понимала, что такое прожить полтора десятка лет в горах, даже если ты любишь альпинизм, лыжи и прочие прелести. Лично мне хватило и одного года.
Тем не менее, никогда я не слышала даже от Аллы жалоб, сетований и горьких вздохов. О Леше и говорить нечего, дай ему работу, он и на Марсе будет, как рыба в реке. А работы у него всегда было выше самых высоких кавказских вершин. Алла с Лешей не просто приноровилась к жизни в горах, они жили, пожалуй что, даже более насыщенно и интересно, чем иные горожане. Всякий раз, когда я приезжала к ним и в Терскол, и в Шхельду или Эльбрус, Алле было что рассказать о новых знакомствах, о встречах с потрясающе интересными людьми, которые бывали у них в доме. Если бы еще Егору было где учиться, и вовсе все ладно. Но мальчику приходилось добираться до школы на перекладных, да и школы в горах известно какие. Так что его образование было самообразованием, благо, что Алла и Леша сами обладали учительским даром, а главное, конечно, книги. Удивить их какой-нибудь литературной новинкой – не пытайся, все знали и все читали. Но повторять такой же педагогический опыт с Андреем было опрометчиво.
Мы с Лешей познакомились на скалах Южного Буга. Годы были шестидесятые, мы с Аллой – студенты инженерно-строительного института. Альпинизм у нас в строительном был в моде, и мы просто не могли пройти мимо такого романтического спорта. Но у многих горная лихорадка как быстро начиналась, так же быстро и проходила. Моя оказалась на всю жизнь. И во многом благодаря Леше, которого вообще-то полагалось бы называть тогда Алексеем Михайловичем – он уже был альпинистом с именем, инструктором. Но чем он никогда не был озабочен, так это субординацией и чинопочитанием.
Гранитное Побужье с обрывистыми скальными берегами было для одесских альпинистов такой себе «малой родиной». Места эти в то время были заповедными и завораживающе красивыми – порожистая быстрая река, скалистые обрывы, на которых, казалось, со всего света сбежались выгреваться ящерицы. Мастера поддерживали там форму, новички вроде нас обретали первый опыт. Леше, видимо, понравилось, как я лазаю. Умения у меня не было никакого, но опытный глаз способен и в неумехе увидеть родственную душу. А я, еще мало что смысля в направлениях развития альпинизма, тянулась именно к скалолазанию. Подниматься метр за метром по вертикальной стене с тяжелым рюкзаком за плечами было для меня интереснее, чем просто идти по тропе.
Леша, убежденный технарь, потому и обратил на меня внимание, что я ловко поднималась по стене. Он уже тогда присматривал кандидатов в свою команду скалолазов. И через два года я уже ходила с ним, маршруты становились все сложнее – вплоть до пятой категории. Памир, Тянь-Шань и Кавказ были не просто географией наших экспедиций, а настоящей жизнью.
Возвращаясь с гор, мы «отбывали» свою работу, свои обязанности, норовя всеми правдами и неправдами снова уйти в горы. Имея квалификацию инструктора и вызов из альпинистского лагеря, можно было вполне законно провести лето в горах. У Аллы с Лешей романтический спорт перерос в роман и семейную жизнь.
К слову сказать, в альпинистской среде вообще семьи складывались часто, чему есть пояснение. Какой муж (или жена), не ходивший в горы, поймет, зачем это его половина рвется каждое лето (и зиму тоже) в полные опасностей и тягот экспедиции?
Альпинизм, в отличие от иных видов спорта, не делится на мужской и женский. И здесь нужно отдать должное Лешиному толерантному отношению к женщинам в команде. Между прочим, это гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Когда вы в одной связке поднимаетесь по стене с ночевками, когда коротаете ночь, сидя плечо к плечу на узкой полочке, когда вы сутками друг у друга на виду, живете, что называется, глаза в глаза, то согласитесь, что в «однополой» команде жизнь обстоит проще. Ну и, само собой, что мужчинам, как ни крути, а приходится быть джентльменами и не только при распределении нагрузок. Женщину, конечно, можно по формальным признакам поставить последней в связке, чтобы она выбивала и тащила крючья, но так практически не бывает. В нашей среде было принято не распускать языки. Если молодые люди забывались, их быстро ставили на место. Иногда жестко. Как-то Алла сделала замечание молодому человеку, заступившему за красную черту в лексике, потом еще одно. Потом предупредила – за следующий мат одену казан на голову. И немедленно так и поступила – девушка была еще с тем характером.
Когда Леша с Аллой уехали на постоянную работу на Кавказ, почти каждое лето я получала от Леши, как начальника учебной части, приглашение поработать инструктором.
Поэтапная, шаг за шагом, альпинистская подготовка была советским изобретением. Упаси Бог сказать, что она была плохая. Уровень наших альпинистов был высок, и когда открылось окно в мир, наши начали ездить на соревнования в другие страны, их ценили очень высоко. Но Леше хотелось сделать альпинизм массовым, открытым. И именно такие методики подготовки он и создавал, такие маршруты разной степени сложности разрабатывал и, естественно, инструкторов подбирал под свою программу.
Стоит ли говорить, что во всех лагерях, где они жили, быт был спартанский? Правда, Леша сумел создавать комфорт из ничего, все было обустроено и приспособлено. А поскольку для семьи все, что называлось в те годы «вещизмом», было третьестепенным, то создавалось впечатление уютного домашнего очага.
Кстати сказать, они и в Одессе не увлекались обстановкой. Квартира на Троицкой была скорее открытым домом для друзей и соратников, в большой комнате лежало экзотическое бревно, усевшись на котором можно было вести демократические споры о чем угодно душе. Однажды одна наша знакомая сняла комнату на Троицкой как раз напротив Ставницеров. При встрече она рассказывала о странной квартире напротив – вечная толчея, а поскольку окна без занавесок, то все видно. Как штаб какой-то…
Мы все в те годы жили по советским стандартам, вроде и все есть, и на самом деле ничего нет.
Леша с Аллой тоже не выделялись достатком. Кое-как семейный бюджет поправлялся тем, что Леша изготавливал альпинистское снаряжение, стандартное было никудышним. А Алуня шила альпинистские куртки и «ноги», она вообще была замечательная рукодельница. Алла могла появиться в необычном пальто-пуховике, в котором никто не мог заподозрить «индивидуальный пошив», или в сногсшибательном кожаном плаще. Фасон необычный, броский.
На традиционное: «Где достала?» – ответ с туманом. Нам с Валей Королевой со смехом рассказала, что смастерила плащ из старых курток. Если мне случалось бывать на Кавказе зимой, мы с Аллой непременно устраивали себе лыжный праздник. Кататься она любила и умела. Леша, к слову, тоже был заядлым лыжником. Но для него главное было скорость. Никакого страха перед падением, дайте склон покруче и вперед. Он так и на машине ездил, летал от светофора к светофору. И не потому, что спешил, просто был рисковый человек.
В ту последнюю зиму мы с Аллой и детьми поехали кататься по ущелью Адырсу в альпинистский лагерь Уллу-Тау. Стояли трескучие для Кавказа морозы, в ночном небе висели такие мохнатые звезды, которых не увидишь в долинах. Мы любовались звездами, горами, снегами. Подзарядившийся нашими эмоциями Андрей как-то не по-детски воскликнул: «Это же моя родина! Когда же я еще ее увижу?»
Мы посмеялись, знать не зная, какие нас ожидают перемены в самые близкие годы. В перестроечные и последующие годы никому не нужны оказались ни альпинизм, ни альпинисты. Мы все искали себе место в новой жизни. Леша занимался всяким бизнесом, видимо, успешно. Но в его ироничных, чуть насмешливых и всегда веселых глазах теперь поселилась грусть.
Но что в нем не изменилось – это готовность помочь товарищу, знакомому, другу. Если на вскидку, то это была главная, определяющая черта его характера. Леша был надежен, как скала в горах.
Он таким оставался, когда горная жизнь стала перевернутой страницей биографии. Леша брал к себе на работу товарищей по горам, не особенно, как мне кажется, заботясь об их квалификации. Я помню, как Валя Королева, тренер по большому теннису, оказалась без работы и по Лешиному приглашению пошла к нему на какую-то важную должность в только открывшийся супермаркет «На Троицкой». Шла в панике, так как раньше в магазине бывала только покупателем. Но что делать, если ты больше никому не нужен? И ничего – справлялась. Потом, правда, Алуня ее сманила в свой магазин «Окно в Париж», название это придумал Андрей – первый магазин в Одессе, где, бери не хочу, лежала вся заграничная косметика и парфюмерия.
Есть истина – восходя на Гору, никогда не знаешь, что увидишь оттуда, что тебя там ожидает.
Точно так же не знаешь, что тебя ждет внизу. Возвращение семьи с гор совпало с крутыми переменами в стране, в судьбах, в душах. Но, помимо всего – для всех общего, сначала Алле, а потом и Леше пришлось пройти через испытания, которые потребовали огромного личного мужества, терпения и, если хотите, смирения. Мы, самые близкие подруги Аллы, до самого последнего часа не знали, как борется со смертельной болезнью Алла. На все расспросы ответ был – все в порядке, просто устала. Точно так же вел себя и Леша. Человек открытый к дружбе, к общению, он, как мне кажется, хотел до последнего часа быть вместе с теми людьми, которые были ему дороги и с которыми печально расставаться.
Абрам «Асик» Мозесон
Заслуженный мастер спорта по альпинизму
Воскресное раннее утро. Телефонный звонок из Одессы: ночью в Киеве умер Леша Ставницер. Позднее узнаю, что по дороге в Киев ему стало плохо, его отвезли в больницу, оперировали, но он умер. После ужасного известия в голове роятся воспоминания.
В 1966 году я впервые участвую в одесском сборе на Кавказе. До этого были целина, членство в Казахском альпклубе. Здесь все другое. Приглядываюсь, обращаю внимание на Лешу – он в прекрасной физической форме, немногословен, сдержан, не эмоционален, что для меня непривычно – одессит ведь. У нас выход в высокогорную зону. Палатки на леднике, объекты восхождения рядом. Группы на восхождениях, у Леши день отдыха. Начальник сбора В. Я. Лившиц посылает его с товарищем подготовить завтрашнее восхождение на Башкару – познакомиться с маршрутом, может, провесить пару веревок. Когда мы возвращаемся с горы, выясняется, что от «разведчиков» никаких известий, и В. Я. посылает меня с Колей Стеценко посмотреть, где они и что делают. «Вместе и вернетесь», – говорит он. Подходим к маршруту.
Голоса слышны, людей не видно. Перекрикиваясь, пытаемся увидеть их на пути завтрашнего восхождения – никого. С ужасом обнаруживаем Лешу с товарищем на скальной стене высокой степени сложности, вдалеке от маршрута. Сейчас они спускаются, но сломался молоток для забивки крючьев; есть проблемы, но все будет хорошо. Позднее Леша рассказывал, что впервые услыхал, как я ругаюсь, и понял, какую глупость они совершили. На разборе он объяснил, что, поглядев на предполагаемый путь подъема, решил, что ошибся, т. к. там сильно легко, а поскольку опыта было еще немного, а здоровья – наоборот, то он и выбрал стену посложней.
Более подобные казусы не повторялись. Напротив, занявшись альпинизмом профессионально, будучи начальником учебной части лагеря, Леша в совершенстве овладел искусством выбора маршрута в горах, а позднее и в гражданской жизни.
В 1968 году Леша – один из участников Одесской школы инструкторов. Теоретическая подготовка проведена в Одессе, учебно-методический сбор на Кавказе. Это было прекрасное время: занятия были в радость, каждый из нас по очереди был и преподавателем-инструктором, и участником-новичком, мы легко воспринимали наставления наших руководителей и, в конце концов, сдали экзамены, получив звания инструкторов альпинизма. Незадолго до этого у нас в гостях побывала моя знакомая из Одессы со своими друзьями-метеорологами, которых мы прекрасно приняли.
Жили они на Чегете и, конечно, пригласили нас к себе, в кафе «Ай». В выходной день Леша, Виталий Нелупов и я отправились к ним в гости. Нас уже ждали полуспортивное застолье, местные жители, научные работники. Нас со всеми знакомят, угощают, приглашают. Так мы попали на верхнюю метеостанцию. Вышел босиком на снег один из метеорологов с кружкой спирта в руках и предложил по глотку за знакомство. Разговорились, расхвастались. Он рассказал, что глиссирует босиком по снегу. И вдруг Леша говорит, что в этом нет ничего особенного, снимает обувь и демонстрирует то же самое.
Так же мгновенно он присоединяется к нам, когда после тренировочного восхождения, ожидая остальных участников, я и Коля Ческидов прыгаем со скалы на снежную перемычку, соревнуясь, кто сделает это с большей высоты. Сегодня мне кажется, что он использовал любую возможность проверить себя. Вернувшись с Чегета, узнаем об аварии на Южной Ушбе с японскими альпинистами, и мы, весь одесский сбор, на ночь глядя, отправляемся на спасработы. По их окончании все вернулись в лагерь.
Виталий, Леша и я сопровождаем доктора с пострадавшим в Местию, в больницу. На обратном пути Леша подвернул ногу, и мы долго добирались втроем до родного «Эльбруса». Конечно, мы его разгрузили, но путь через перевал был для него очень нелегок. Он стоически переносил боль в поврежденной ноге. Наверняка, так же мужественно вел он себя и в последние годы своей жизни.
Вскоре после окончания института Лешу призвали в армию. Через короткое время его часть участвовала в съемках «Войны и мира», и он защитил собой своего командира от взрыва заряда. Его премировали внеочередным отпуском домой. Позднее Лешина готовность помочь другим нашла прекрасное воплощение в его благотворительной деятельности. Скромно, с достоинством, не афишируя, он оказывал необходимую помощь многим в нашем городе.
В 70-х Леша кардинально меняет свою жизнь – оставляет Одессу и уезжает работать на Кавказ. Это поступок! На десяток лет горы становятся его профессией. Став начучем в «Шхельде», Леша приглашает меня поработать у него с разрядниками. И хотя меня уже ждут в «Эльбрусе», соглашаюсь с его доводами и еду в «Шхельду». С интересом наблюдаю его жизнь. Нормальная квартира, даром что в горах, много книг, в т. ч. и последних – привозят участники и инструктора, зная его страсть, фонотека; занятый своими делами Егор, маленький Андрей и огромная собака – почти всегда вместе. Оба уверяют меня, что пес добрый, но проходить страшно. В лагере хорошая спортивная атмосфера, поощряются восхождения инструкторов – это привлекает молодых. Стиль руководства – сдержанно-деловой, хотя со многими хорошо знаком. Расслабляется только дома. Скучает по Одессе. Делится планами и проблемами. И никаких жалоб, хотя оснований хоть отбавляй. Позднее, став крупным бизнесменом, сетовать он будет только на недостаток инициативных, знающих специалистов. Решение этой проблемы он найдет, предоставляя таким людям благоустроенное жилье, построенное специально для этих целей. Практически он действовал в полном соответствии с новейшими рекомендациями по научной организации труда. Я сказал ему об этом. Жизнь заставила, ответил он. Когда, уже живя в Германии, я приезжал в Одессу, Леша обычно узнавал об этом и договаривался о встрече. Интересно было просто пообщаться, «поговорить за жизнь». Оказалось, ему нравятся Сорокин и Пелевин, он читает русских философов и мемуары, знает и использует в работе новейшие рекомендации науки управления. Встречались мы и в Мюнхене. Какое-то время он даже жил у нас вместе с Леной. Тогда мы и познакомились.
Леша доверял Лене во всем: что есть-пить, что надеть, куда пойти-поехать. Приятно было видеть ту любовь и заботу, которой она его окружила. Эти же отношения прослеживались и в их новом доме. Все было сделано с учетом Лешиного вкуса, пристрастий, увлечений. Ему было комфортно там.
В августе прошлого года мы были у него в гостях. Вместе с Леной они с удовольствием знакомили нас со своим хозяйством, делились планами, договаривались о встречах…
Еще эпизод. В Мюнхене Леша идет на официальную встречу-переговоры в банке. Одет удобно и просто – рубашка, вязаная кофта, полуспортивная обувь. Принципиально отлично от существующего стандарта деловой одежды. Отмечаю это. Рассказывает: в Киеве был как-то в «высоких кабинетах»; одет так же; спрашивают – что, костюма нет? Думаю – в костюме буду, как все, а так запомнят именно меня – не по форме, а по содержанию. Своим отношением к себе, людям, работе, окружающей жизни он заслужил такую память. Мы почувствовали это, когда город прощался с ним.
«Будем же их помнить постоянно, как они бы помнили про нас».
Мюнхен, март 2011
Владимир Мамчич

Нас с Алексеем Михайловичем, с Лешей, книги роднили не меньше, чем горы. Он вообще выделялся начитанностью даже среди читающей альпинистской публики. В экспедициях мы не обминали ни одного книжного магазина и в городах, и в горных селах, так как по разнарядке туда отправляли литературу, за которой мы убивались в Одессе. Однажды нам сильно повезло в Душанбе. Там в «Академкниге» на полках тосковали книжки из серии «Литературные памятники». Мы их скупили на все имевшиеся деньги, но помимо этого еще и заключили с дирекцией негласный договор – из всех новых поступлений они будут нам посылать в Одессу по четыре экземпляра. Игорь Оробей, Николай Ческидов, Алексей и я выручали книжную торговлю Таджикистана не только приобретением «памятников» – в нагрузку к ним прилагалась еще и литература таджикского политиздата.
В годы зрелые, когда интерес в собственной библиотеке сужается к однойдвум полкам, Леша дал мне ключ от квартиры, доверив привести собрание книг в заранее оговоренный порядок. Я был рад видеть, что некогда подаренные мною Леше книжки занимают свое место. В частности, выуженная мною из бука на Греческой достаточно редкая теперь вещь – речи А. Вышинского на людоедских процессах тридцатых годов. Я сопоставил добротный строй его «литературных памятников» со своим и подумал, что, если бы их соединить, получилось бы впечатляющее собрание. Потом Леша мою готовность передать свою часть книг для полноты его серии оценил…
Кстати, всеядным библиофилом он не был. Как-то в порыве доброты я предложил ему прижизненное издание Льва Толстого. Леша отказался – душа не дрогнула. А вот за академическим собранием Александра Сергеевича, к которому он благоволил, мы охотились долго. И даже когда наш бук власти выдавили из Греческой площади на улицу Новосельского, это на регулярности наших посещений не сказалось. Увы, народ сдавал все, что угодно, но не Пушкина. Поэтому сторожить пришлось долго, но, в конце концов, настойчивость была вознаграждена.