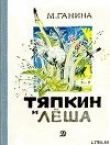Текст книги "Алексей Ставницер. Начало. Восхождение. Вершина (СИ)"
Автор книги: Александр Чебручан
Соавторы: Валерий Албул,Александра Старицкая,Александр Токменинов,Хобарт Эрл,Виктор Ставницер,Вадим Сполански,Игорь Шаврук,Владимир Мамчич,Абрам Мозесон,Михаил Ситник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Строя угольно-рудный и контейнерный терминалы, мы понимали, что к их причалам должны швартоваться суда с водоизмещением до 100 тысяч тонн. В украинских портах такие гиганты по ватерлинию не грузятся – нет глубин. Поэтому их загружают до максимально возможной осадки, а потом догружают на рейде. Дорого, неудобно. И Алексей Михайлович принял решение, которое в самых осторожных оценках можно назвать рискованным. Он решился провести дноуглубительные работы, построив таким образом подводной канал к нашим причалам. Глубины возле них должны были достичь 15 метров, как раз для океанских стотысячников. Решение было бы абсолютно разумным и экономически выгодным, если бы деньги за судозаходы получал ТИС. Но по существующему законодательству, акватория порта является собственностью государства. За пользование ею деньги может получать только государство. Но порт Южный и не помышлял вести весьма затратное дноуглубление. Ему оно зачем? Хочет ТИС принимать океанские суда – пусть черпает ил со дна лимана. Пусть построит для нас за свои деньги акваторию и… передаст нам. А мы потом с ним рассчитаемся. Как-нибудь…
Мы подрядили для дноуглубления известную в Европе фирму «Мебиус». Вычерпали миллионы тонн ила и вывезли его из лимана в море, теперь эксплуатация этой акватории приносит порту доходы. Но возместить ТИСу затраты на ее создание – это сложная задача.
Такая же ситуация возникла и с увеличением пропускной мощности железной дороги – она не могла обеспечить прохождение составов к нашим причалам, а самостоятельно вкладывать деньги в развитие не имела возможности, пришлось строить нам совместными усилиями и передать железной дороге новый участок пути. Можно было бы привести длинный ряд таких примеров, постоянно державший ТИС и Алексея Михайловича в напряжении, в судебных тяжбах, в противостоянии с государственной машиной. Но если все эти примеры проинтегрировать, то получится вот что. Все сделанное на ТИСе во имя страны и государства было сделано в противоборстве с государством, против его воли, против воли чиновника, против существующей системы удушения частного предпринимательства, против здравого смысла.
Один из самых драматичных эпизодов был, когда летом 2009 года начальник порта Южный, не моргнув глазом, решил прибрать ТИС к своим негосударственным рукам, изобретя не сильно сложную схему. Удушение предприятия было организовано по всем правилам: лишение скидок на судозаходы, отказ в регистрации причалов, запрет на заход в порт судна с уникальным контейнерным перегружателем. За его продвижением из Китая следили все морские средства массовой информации. Проводка судна через Босфор стала сенсацией, которая попала в топ-новости ведущих телекомпаний Европы. И вот на рейде Южного судно встало на якорь… Только вмешательство высших руководителей страны спасло положение.
Протестуя против самоуправства начальника порта, рабочие ТИСа организовали акцию протеста. Алексей Михайлович тогда только-только поправлялся после рецидива тяжелой болезни. Но вместе со всеми он вышел на причал и участвовал в демонстрации, отвечал на вопросы телевизионных журналистов. Это была его последняя война. Как и многие предыдущие, она не прибавила ему ни сил, ни дней жизни. Но его поведение в те непростые дни было еще одним уроком мужества для всех нас.
Человеческая память – не лучшее хранилище ни поступков добрых людей, ни образов светлых личностей.
Из нее все достаточно быстро, как вода в песок, утекает в вечность. У памяти свои законы и закономерности, у нас нет влияния на них. И я допускаю, что через десятилетия забудется, и как начинался «Лиман», и чего стоило всем нам создать такое дело, как ТИС, сотрутся в памяти даты, имена и поступки. Но есть утешение: будет стоять ТИС. Он уже навсегда стал тем звеном экономики, без которого она существовать не сможет.
Алексей Федорычев

Мы познакомились раньше, чем увиделись, – по телефону. Я Алексей Михайлович, он Алексей Михайлович. У меня есть химический груз, у него химический терминал– почему бы ине свидеться? ТИС тогда терялся вбезграничном просторе, который можно было оценивать двояко: и как пустыню, и как перспективу для развития. Мы с тезкой склонялись к последнему. Это стало ясно из того, что Алексей, когда я через несколько дней после телефонного разговора приехал на ТИС, приготовил для меня сапоги и предложил познакомиться с терминалом глаза в глаза. Мои деловые интересы корнями – на околицах, в степях и тундрах, так что простором меня не удивить. И все же тот, молодой ТИС, произвел впечатление. Такую площадку для развития в самом центре Европы нужно было поискать, а с таким партнером – тем более. Алексей был из тех людей, которые вызывают доверие изначально, в его облике, в речи, в манере поведения не было ничего, что меня бы насторожило. Это при том, что опыт ведения бизнеса на руинах бывшего Союза научил меня осторожности, осмотрительности и недоверию. Годы были, как известно, лихие.
Мы договорились о партнерстве без процедурных формальностей: договоров, протоколов, расписок. Хотя было ясно, что затевается масштабный, значимый для экономики Украины проект. И он требовал огромных вложений. А деньги были считанные и у меня, и у Алексея, уже ожегшегося на неудачном опыте с инвестором. В кабинете, доставшемуся ему в наследство от советского предприятия «Лиман» и соответственно по-советски обставленному, мы договоренность скрепили традиционно – махнули по рюмке водки из запотевшей бутылки и закусили, чем Бог послал.
За полтора десятка лет я ни разу не пожалел об этом. Первое впечатление – человек надежный и верный – меня не обмануло. Эта «человеческая составляющая» для меня всегда была определяющей, и я рад, что она была и в нашем сотрудничестве. Мои коллеги, узнав, что я вошел в ТИС, не очень, как мне кажется, верили, что я не оговорил себе в предприятии какие-то особые условия. И, тем не менее, это было так. У меня были серьезные химические грузопотоки. Иметь в таком случае свою грузовую базу – дело важное.
Но мы нацелились на глобальную схему развития предприятия, мы видели его публичным, то есть открытым для всех грузовладельцев и перевозчиков, без ущемления чьих-либо интересов и, следовательно, выгодным для всех. Был ли в этом начинании риск для меня? Для Алексея? Конечно же, был. Бизнеса без риска вообще не бывает. Вся соль – с кем ты риски делишь, кто тебя страхует. Мы пребываем в условиях постоянно меняющихся жизненных ситуаций, мы вынуждены подстраиваться под них, и тут важно сохранить незыблемыми нравственные принципы и ценности. Нет таких обстоятельств и нет таких причин, которые могут оправдать нечестность. И я рад, что между нами никогда не пробежала не только черная, но и белая кошка.
У нас с Алексеем сложилась достаточно простая система принятия решений. Она опять-таки была непротокольной, нескованной процедурой. Если нужно было обсудить проблему, мы назначали место и встречались. Часто это было за границей, чаще всего, в Вене, посреди пути от его и моего дома. В нашей традиции встреч были маленькие, уютные кафе или ресторанчики. Мы никогда не устраивали пышных торжеств. Если случалось быть ближе к дому, предпочитали посидеть по-домашнему, так, чтобы больше поработать, а не пофасонить.
Каждая такая беседа становилась еще одним кирпичиком в здание ТИСа. Скорее всего, я бы определял наш союз не как партнерство. Партнеры – это иной градус доверия и отношений, мы же больше руководствовались не уставными документами, а целесообразностью, определением скорости движения к общей цели. Мы были единомышленниками. Не только в бизнесе, но и в жизни такие отношения складываются редко.
ТИС стал успешным предприятием благодаря нескольким обстоятельствам. Первое – мы завоевали расположение партнеров честной работой. Их доверие было определяющим. Без этого было бессмысленно строиться и развиваться. Помню, как приехал посмотреть нашу Землю терминалов Николай.
Андреевич Янковский, руководитель горловского «Стирола», народный депутат, Герой Украины, один из столпов экономики страны. Человек с огромным производственным опытом, он сказал так: «Я давно не видел такого строительства. Пожалуй, не увидь я все это, мог бы посчитать, что такое строительство уже и невозможно». Каждое большое дело имеет свой передний край. В нашем впереди, на острие атаки всегда находился Алексей. Он был идеологом и прорабом одновременно, на него ложилась тяжесть организации строительства и контроля над ним. Справедливость требует сказать, что у него была надежная опора – Олег Кутателадзе. Они вместе, можно сказать, и придумали ТИС, и вдохнули в него жизнь. Это был органичный тандем, если не сказать дуумвират. Олег обеспечивал юридическую надежность и неуязвимость компании, вел переговоры с властными структурами, словом, занимался всем тем, что в большой мере отвлекало бы Алексея от созидания компании. Что меня особо удивляло в Алексее и Олеге, эти гуманитарии в совершенстве владели инженерным мышлением, экономическим видением перспектив развития предприятия.
Тонкая интуиция Алексея позволяла видеть стратегию развития. Так было с зерновым терминалом, который сегодня по экспортным возможностям является ведущим в Украине. Мы понимали, что историческая, если не миссионерская вообще, роль Украины стать житницей мира.
Но именно Алексей заглянул за горизонт и определил, что нам нужны не только силосные башни для зерна, но и горизонтальные склады для кукурузы. Это теперь очевидно, что по ее экспорту страна выходит на первые места в мире. Но в конце девяностых о кукурузе еще вспоминали только в связи с анекдотами о Хрущеве. ТИС и сейчас – практически единственная компания, которая может обеспечить качественную перевалку этого зерна. Аравийские шейхи, покупающие его, осмотрели все экспортные терминалы в Украине и остановились на ТИСе, как раз благодаря тому, что Алексей создал современную технологию перевалки кукурузы.
Доверие – категория не экономическая, это из области нравственности. Но многое у нас получалось только потому, что все строилось на доверии. Наши зерновые мощности еще были в чернильнице, когда одна весьма уважаемая трейдерская компания, работающая по всему миру, высказала желание поучаствовать в создании зернового терминала. Кто же против? Алексей Михайлович с Олегом Джумберовичем начали переговоры. Я узнавал о подробностях по телефону, прыгая дома на костылях – давняя спортивная травма потребовала хирургического вмешательства. День ото дня в голосе Алексея становилось все больше раздражения – именитая фирма методично, день за днем составляла все новые соглашения, страхуясь от возможных рисков. В общем, это нормальная практика. Хотя, как известно, все не предусмотришь, и по известному закону неприятности выскакивают именно там, где соломку не постелили. Я предложил продолжить переговоры у меня дома. Все согласились, съехались. И я понял всю меру терпения Алексея, который вообще-то был человеком весьма эмоциональным, – наши возможные партнеры и впрямь были зануды. Исчерпав свое терпение, я предложил строить зерновой терминал за наши собственные средства. Представители фирмы, похоже, не очень в это поверили. Они, конечно же, были осведомлены, что «лишних» денег у нас нет. Если бы это не я предложил продолжить переговоры с моим участием у меня дома, то мог бы подумать, что тезка специально привез переговорщиков ко мне, чтобы я не выдержал испытания перестраховками и принял такое решение. Оно было для меня очень непростым, но я, в отличие от представителей фирмы, знал Алексея и верил в то, что проект – выигрышная фишка. Кстати, фирма потом спохватилась, готова была инвестировать строительство, но мы ее успокоили – строить будем сами, а вот везти зерно через ТИС милости просим. Публичность, открытость к партнерским отношениям со всеми грузовладельцами были нашим незыблемым правилом, и что зерновая фирма не состоялась как наш партнер, ничего не значило.
Есть много примеров, как, начиная большое дело, партнеры проходят сквозь густые тернии невзгод, делят по-братски кусок хлеба и глоток хлебной, но становятся чуть ли не врагами, когда приходят большие деньги. Легко пренебречь ради добрых отношений гривней или долларом, и куда сложнее – миллионом. Алексей был человеком, для которого деньги были из ряда вторичных ценностей. Упаси Бог понять это как склонность к транжирству, как неумение вести денежные дела. Как раз наоборот – он был щепетилен в расчетах, знал цену копейке. И, может, то, что мы оба знали эту цену, нас тоже сближало. Но деньги для него значили только то, что и должны значить деньги для каждого нормального человека.
Как его партнер, единомышленник и один из учредителей компании, я ценю особое, нечасто встречающееся в бизнесовых кругах качество Алексея – его понимание социальной роли бизнеса. Не социальных обязательств – это совковая придумка плохо учившихся политологов. Именно – роль.
В эту роль входят и развитие гуманитарной сферы, и качество образования и культуры, и благотворительность, и еще многое. Алексей Михайлович, не значащийся в списке национальных олигархов, был упорным строителем национальной буржуазии. Чтобы понять важность этой идеи, нужно вспомнить вот что. Доставшиеся нам в наследство от Российской империи больницы, университеты, гимназии и театры, музеи и галереи были созданы как раз национальной буржуазией, и что советская власть в этой области не так уж преуспевала, а где просто успевала, то по качеству гуманитарные объекты значительно уступали буржуазным.
Кроме ТИСа, уникального производственного образования, потенциал которого еще далеко не раскрыт, в биографии Алексея Михайловича остались построенные школы, клубы и храмы, благотворительная деятельность. Я удивлялся его привязанности к Визирке, к селу, которое он не просто избрал для проживання, но считал своим, и сам себе определил по отношению к нему серьезные социальные обязательства.
Мне запомнился последний день рождения Алексея. Он пригласил нас к себе домой – достаточно узкий круг близких людей. Было видно, что болезнь его не отпускает, как было и видно, что он ей не поддается. Начало сентября было по-летнему теплым, мы разулись и гуляли босиком по лужайке перед домом – давно забытое детское ощущение счастья. Он мужественно боролся со своим недугом в одиночку, никогда о нем не говорил, вплоть до этого дня. Да и тогда он сказал о болезни так, вскользь, не жалуясь на долю. И я вновь вернулся к своему предложению – посетить Афон. Алексей не был, что называется, воцерковленным человеком, но и человеком без веры не был тоже. Республика монахов на Святой горе, существующая уже более тысячи лет и накопившая премного мудрости и знания, вряд ли могла излечить, но могла помочь в его единоборстве с болезнью. Мы обсуждали эту идею так и эдак, и, в конце концов, Алексей сказал: вот по двору, босиком по траве, и то ходить тяжело, а по горам…
Мы прогуливались босиком, как когда-то в болотных сапогах по рыжей глине развороченного берега Аджалыкского лимана. Я только представил тогда, сколько нужно было срезать земли, чтобы раскрыть простор, построить территорию для развития предприятия, и подумал, что только человек незаурядный, смелый способен взяться за такое дело.
Потом я буду вспоминать этот сентябрьский день как день прощания, хотя Алексею оставалось еще полгода жизни. Он распорядился этими последними днями и часами так, как и жил, – работал. В том бронзовом Алексее, который появился из-под серого покрывала перед управлением компании в годовщину ухода, он был похож на живого и улыбкой, и свободной одеждой, которая была его стилем, и выраженным стремлением к свободе в делах, и самой композицией – камни и ступени, символизирующие восхождение от вершины к вершине.
Александр Чебручан

Мы опоздали на рейс так безнадежно, что даже стоящие у ворот на летном поле таксисты, промышлявшие тем, что догоняли с опоздавшими пассажирами самолеты даже на взлетной полосе, развели руками. Нужно было возвращаться из Шереметьево в Москву. Но можно было и не возвращаться, если заночевать в гостинице для летного состава. Она была задрипаной даже для провинциального аэропорта, а уж для столичного международного – тем более. Так что я был на тысячу процентов уверен, что Алексей Михайлович примет решение ехать в город. Но он сказал: «Не на жизнь же мы поселяемся? Одну ночь можно поспать где угодно». На календаре были лихие девяностые, бизнесмены с достатком куда скромнее, чем у Алексея Михайловича, даже бизнес-классом пренебрегали, предпочитая летать чартерами. Поэтому удивиться было чему. Мы поселились в один номер – кровати с панцирными сетками и удобства в конце коридора, что опятьтаки его не смутило. Я засыпал под шуршание газет – Алексей Михайлович накупил их целую пачку. Подремывая, я в полглаза наблюдал, как он с ними расправляется. Сначала пробегал страницу глазами, если что-либо внимание останавливало, читал. Потом бросал страницу на пол – за неимением корзины. Он скорее даже не читал, а как бы просеивал информационное пространство. Такое чтение мне было незнакомо. Из того, как он отбрасывал просмотренные страницы, было понятно, что больше он к ним не вернется, в этом была и какая-то линейность движения вперед, и решительность характера.
Возвращались мы в Одессу с переговоров. Моя роль на них была мне самому не совсем ясна. Алексей Михайлович вполне мог обойтись сам, ни помощник, ни советчик ему не требовался. Тем не менее, я сидел рядом, предусмотрительно помалкивая, чтобы не сказать лишнего. Бизнес тогда у Алексея Михайловича был многопрофильный, хотя вместе с Виталием Томчиком они уже нацеливались на узкую специализацию – экспорт металла. Тандем этот был интересный. Виталий Сильвестрович, один из пионеров кооперативного движения в альпинистской среде, был воплощением системности, выверенного менеджмента с минимальными рисками. Алексей Михайлович не то чтобы был противоположностью ему, скорее, они оба дополняли друг друга. У него был иной градус эмоциональности и раскованности. Из него рвалось нетерпеливое желание идти вперед и дальше. Поскольку оба были альпинисты, а я тоже имел к этому склонность, то напрашивалось сравнение с парным восхождением по крутой скале, где удача во многом зависит от того, как надежно спортсмены страхуют друг друга.
Оба они, и Алексей Михайлович, и Виталий Сильвестрович, пришли в бизнес, мало что понимая в нем и мало что зная о его законах. Как и многих, их к предпринимательству принудило время. По жизни у обоих за плечами были не только профессиональный альпинизм, но и вузы, аспирантура, научная работа, приобщение к искусству – бизнес тех лет им был скорее противопоказан. Что они могли противопоставить парням в малиновых пиджаках с золотыми цепями на бугристых холках? В руках нужно было уметь держать не скрипку, а биту. Тем не менее, они день ото дня становились на ноги крепче и увереннее, что наводило на неожиданную мысль, что капитализм может быть не только диким. Как им это удавалось?
У нас не было постоянного офиса, мы меняли адреса, исходя из достатка, и при каждом таком переезде с нами путешествовало около десяти телевизионных коробов. Они были плотно набиты специальной литературой: правовой, экономической, популярными учебниками по менеджменту и философии торговли, психологии. Словом, всем тем, о чем когда-то хорошо сказал поэт – «ни при какой погоде, я этих книг, конечно, не читал». Они читали. И это было их главное преимущество перед распальцованными пацанами, ставшими авангардом первой предпринимательской волны. Значительную часть места в коробах занимали вырезки из периодики – эти публикации служили материалом для анализа, более четкой ориентации в рынках и нравах. Проще говоря, они учились. И это заставляло учиться всех, кто хотел работать рядом с ними. Теперь я приближаюсь к тому возрасту, в котором Алексей Михайлович начинал свое восхождение к ТИСу, и понимаю, что учиться – занятие особое. Это скорее состояние души и беспокойство ума, чем просто получение необходимой информации. С каждым прожитым годом учиться становится сложнее. По утрам желательно прощупывать макушку, чтобы убедиться, что никакой короны там нет, и, следовательно, грядущий день вполне может поставить задачу, на которую у тебя нет ответа. Он умел учиться. И, что самое важное для руководителя такой компании, как ТИС, умел учить.
Думаю, я такой не один. Но говорю только от себя – многому, что должен знать и уметь руководитель, менеджер, организатор производства, я обязан Алексею Михайловичу. И беря меня с собой на переговоры, в чем не было особой нужды, и отправляя в командировки на семинары для знакомства с работой других компаний и портов, на всевозможные выставки, он нас учил. Как мне представляется, он один из немногих понимал глубинное значение формулы – кадры решают все. Он учил кадры принимать решение и создавал для этого пространство свободы. В этом было и уважение к человеку, которому он доверил управление частью своего бизнеса, и доверие, что он не поступит бизнесу во вред. Но было и бремя ответственности. Причем, мне это кажется особо важным, в этой кадровой стратегии Алексея Михайловича не было меркантилизма – мол, я его научу, а от этого мне будет больше прибыли. Алексей Михайлович умел считать деньги. Но главным, определяющим для него была не прибыль, а интерес, развитие компании, стремление подняться на высоту (опять-таки черта альпиниста), на которой еще никто не стоял. Он строил кадры, как архитектор здание. Ему важно было, чтобы они были не только четкими исполнителями, но и участниками процесса, его творческим локомотивом. Как-то в компании было особенно трудно с деньгами, мы тогда только-только поднимались на ноги, нужно было купить карбюраторы для пожарных машин. Мы перегружали серу, и, по требованиям безопасности (или по одной из версий безопасности), возле причалов должны дежурить пожарные. Думаю, разобраться, нужно или не нужно тратиться на карбюраторы, Алексей прекрасно мог и сам. Но он собрал весь топ-менеджмент, чтобы все и понимали цену копейке, и учились принимать оптимальные решения.
В понимании Алексея Михайловича хороший работник – это свободный работник. Чувство и понимание свободы как главной ценности он ценил сам чрезвычайно и учил ценить других. Речь идет о свободе руководителя (или рабочего) в пределах его полномочий. Каждый может и должен сделать работу лучше, качественнее, менее затратно. Но для этого человеку нужно предоставить свободу. На таких людей, с потребностью свободы, у Алексея Михайловича был обостренный нюх. Не раз случалось, что он принимал на работу человека «на потом». Сегодня, вроде, его и загрузить особо нечем, но если от его услуг отказаться, то завтра такого нужно будет искать со свечкой средь бела дня. Обычным был вопрос у старых знакомых, у соискателей работы на ТИСе о должности, о зарплате, о карьерном росте. Ответ их обычно ставил в тупик: лучшая карьера – это, если ты Иванченко, работать Иванченко. Есть призвание командовать массами – докажи это и командуй массами. Хочешь кабинетного творчества – докажи и твори в кабинете. Чем ты работаешь лучше, чем больше пользы приносишь компании, тем зарплата выше. Такое пояснение ставило в тупик не только тех, кто работал в государственных структурах, но и работников частных компаний. Не очень просто было понять, что часто декларируемое, но мало где соблюдающееся уважение к человеку, к его личности – тисовская норма. Я мог бы привести много примеров, как люди, придя на ТИС рядовыми рабочими, как Сергей Синица или Виталий Качуренко, стремительно продвигались по иерархической лестнице: начальник смены, начальник участка, ведущий инженер, консультант. И даже сейчас компания, имевшая в самом начале около 200 человек сотрудников и выросшая до 3 000, не потеряла способность замечать способных и талантливых людей.
Разумеется, управлять людьми с обостренным чувством свободы архисложно, к ним нужно проявлять максимум такта и уважения. И здесь неизбежно, как ночь после заката, возникает проблема ошибки. Если ты свободен в принятии решений, если ты – стандартное обстоятельство – настаивал на своем варианте решения, который оказался ошибочным, к тому же принес компании убытки, как быть? Пожурить? Предупредить? Наказать рублем?
Наверное, это признание меня не украсит, но я вырос на собственных ошибках. Молодой и неопытный студент-вечерник, я мало что понимал в менеджменте, был плохим переговорщиком, когда Алексей Михайлович назначил меня директором одного из своих предприятий. Нашей задачей была перевозка грузов от пункта «А» к причалам порта. Преимущественно, это был металл. Наша роль начиналась после того, как стороны приходили к соглашению, ударили по рукам. Составление договоров, график отгрузок и поступление грузов – все то, что входит в понятие логистики, было нашей заботой. Ясное дело, что работа была не без ошибок, но не было ни одного случая распекания, грохота кулаком по столу, угроз увольнением. Главное было на ошибках учиться.
Уже работая на ТИСе, я, прогнозируя загрузку терминала минеральных удобрений, пришел к выводу, что поток удобрений на экспорт будет падать. И, естественно, наращивать мощности на этом направлении смысла нет. В сущности, речь шла о политике развития всего ТИСа. Поэтому мой прогноз обсуждали и препарировали все ведущие специалисты компании. Коллективный ум оказался прозорливее. Сообща мы вытащили на свет божий такие обстоятельства и скрытые механизмы развития рынка, что вызрело противоположное моему прогнозу решение. Что от этого была польза компании – бесспорно. Но какой блестящий урок проведения аналитических исследований, прогнозирования рынка получил я! И какой оценки заслуживает умение Алексея Михайловича не просто провести обсуждение анализа, а препарировать его, как студент лягушку, увидеть скрытые обстоятельства и закономерности рынка – кстати, общие для всех сегментов, не только для химических грузов, – чтобы расширить кругозор всех специалистов.
Почти всегда получалось так, что, если в моих прогнозах, анализах или планах была ошибка, то Алексей Михайлович не тыкал меня в нее носом, а исподволь, наводя аргумент за аргументом, подводил меня к тому, что я находил ее сам и сам исправлял. Тут просится в строку такой пример.
Чтобы привлечь грузопотоки, речь идет о самом начале работы ТИСа, мы держали щадящие тарифы. Постепенно клиенты переходили к нам, кроме выгодных ставок, они начинали понимать и другие преимущества ТИСа: честная конкуренция, обязательность и корректность в расчетах, современные технологии. Но совершенно естественно, уже переключив свои грузопотоки на ТИС, хотели работать по низким ставкам. И поскольку, пользуясь к партнеру, обращая внимание, как учили психологи, на то, как кто сидит, берет стакан, пьет и поправляет манжеты или галстук. Он пропускал обязательные расспросы о том, как доехали, как у вас погода и что идет в театрах. Алексей Михайлович четко и жестко формулировал проблему, предлагал ее обсудить и тут же предлагал варианты решения. Буря и натиск.
Однажды на ТИС пожелал заехать важный норвежский бизнесмен. Он ехал из Новороссийска, добираясь до Одессы едва ли не на перекладных: такси до парома через Керченский пролив, случайным транспортом до Симферополя. Одесса была для норвежца промежуточным пунктом – назавтра он улетал в Вену. И вот захотел познакомиться с ТИСом.
Опыт брака по расчету и развода по несходству характерами с одной уважаемой норвежской компанией нами еще забыт не был. Но предварительный сбор информации говорил, что крупный норвежский бизнесмен вроде бы из другого теста. Он владел танкерным флотом и искал место для терминала наливных грузов – то ли сам хочет строить, то ли ищет партнеров. Танкеры его были высокого качества, корпуса сделаны из особо прочных сплавов – нержавейка рядом не лежала. Вел себя норвежец по пути следования необычно для человека его состояния – то с тетками на пароме закорешил, то со случайными людьми пускался в длительные разговоры, нервируя собственную охрану.
Встречались мы в Южном. ТИС предусмотрительно оставили на потом, но какой-то видеоряд захватили для убедительности аргументов о наших возможностях. В своей манере не тратить время попусту Алексей сразу взял быка за рога. Норвежец оказался такого же характера. Минут через пять стало понятно, что никакого общего проекта не будет. Танкерный флотоводец равнодушно смотрел на наши камыши и рыжий берег, где мог вырасти терминал, и у него на лице было написано, что такие площадки и камыши он видел сто раз не менее. А вот Алексей Михайлович его явно заинтересовал. Знаете, как рыбак рыбака…
Они начали свой разговор, как бы предоставив всем остальным роль зрителей и наблюдателей без права голоса и мнения, так как разговор пошел какой-то сугубо личный – о детях, о том, как их учить и чему учить.
– Отцы капитал зарабатывают, дети приумножают, внуки пускают все по ветру, – загибал норвежец палец за пальцем. Алексей Михайлович смеялся и приводил в доказательство примеры из жизни и литературы.
– Но только это и обеспечивает прогресс, стимулирует развитие общества, – выдвигал Алексей Михайлович новый тезис, а норвежец тут же его брался развивать.
Потом разговор продолжился уж в совсем неформальной обстановке, и гость сказал, что на ТИС ехать ему нечего, он о нем больше, чем из знакомства с Алексеем Михайловичем, не узнает. Они расстались по-дружески, насколько я знаю – больше не встречались. Но как память о той встрече и беседе Алексей Михайлович сохранил формулу, которую несколько раз, как мантру, повторял норвежец: «Порт – это, в первую очередь, месторасположение, во вторую очередь, месторасположение и, в третью очередь, месторасположение».
У меня и теперь перед глазами Алексей Михайлович, стоящий у уреза лимана и повторяющий эту истину. Берег то глинистый, то в сваях, то в бетоне. В зависимости от страницы нашей прожитой жизни.
Виталий Котвицкий

– Как тебе новая метла? – спрашивал меня приятель, имея в виду новое руководство «Лимана». Фамилию Ставницер тогда мало кто знал, «Трансинвестсервис» тем более никто не выговаривал.
– «Новая метла» всем недовольна, – честно отвечал я. Товарищ сочувственно вздыхал. Меня же неудовлетворенность Алексея Михайловича больше радовала и обнадеживала, чем огорчала. А почему, пояснение сложное. И тут придется изложить предысторию ТИСа.
«Лиман» при рождении был предприятием уникальным не только по техническим характеристикам или технологиям, а как и некое новое производственно-социальное явление. Это стало особо заметно потом, при обретении им статуса самостоятельного предприятия. Даже во внешнем облике комплекса сквозила какая-то ущербность и беззащитность. Два причала, силуэт странной машины, похожей на заблудившийся маяк, горчичная крыша приземистого ангара с такого же цвета галереей к нему – все открыто и доступно хоть ветрам, хоть взорам и посетителям. К ангару – а на самом деле крытому складу, которых в наших портах доселе не водилось, – жалась, будто ища защиты, площадка для хранения посеревших от солнца и ветров ящиков. В тылах 16-го причала голодными журавлями маячили два крана. Когда к ним чахкал тепловоз с вагонами, они оживали и что-то грузили на теплоход, стремившийся немедленно убежать от сиротского места.