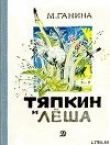Текст книги "Алексей Ставницер. Начало. Восхождение. Вершина (СИ)"
Автор книги: Александр Чебручан
Соавторы: Валерий Албул,Александра Старицкая,Александр Токменинов,Хобарт Эрл,Виктор Ставницер,Вадим Сполански,Игорь Шаврук,Владимир Мамчич,Абрам Мозесон,Михаил Ситник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
На пути вагонов к причалу рябил шлагбаум, что внимательного человека заставило бы задуматься и недоумевать – обычно преграду ставят перед рельсами, а не на рельсах. Но никто ничему не удивлялся. Моя первая должность на «Лимане» была начальник ОКСа – отдела капитального строительства. Само собой, что никакого строительства здесь не было. Как и остальной персонал, я занимался… Проще бы сказать, чем я не занимался. Рабочие будни составляла сумма регулярно возникавших неприятностей: рвало трубы и вентили, неизвестные граждане по-хозяйски вскрывали ящики, ища поживу. Обычно пьяные охранники на это ухом не вели – они сами уже все там осмотрели и убедились, что воровать нечего. А что можно было украсть – украли. Редкий день обходился без ЧП: кто-то что-то разбил, не туда въехал, не вовремя сделал и так далее. При этом бедламе предприятие значилось живым. В военной терминологии есть такое понятие, как кадрированная воинская часть. То есть существующая с минимальным штатом, позволяющим в случае необходимости развернуть ее до боеготовности. Вот нечто такое было и с «Лиманом». На все огромное электрическое хозяйство было два или три монтера, столько же сантехников, инженеров. Пребывавшая в полудреме бухгалтерия раз в неделю отправляла платежки, дважды в месяц выплачивала зарплату, получить которую мы всякий раз не надеялись. И не получали бы, не сообрази наш директор Владимир Трофимович Хоменко зарабатывать на идущих к причалам грузах.
В основном это был металл из Днепродзержинска. На 16-м причале его перегружал порт Южный, специально пригнав и разместив краны. Докеры, бригадиры и специалисты-стивидоры тоже были портовые. Порт в то время хозяйничал на причале всевластно, по инерции считая «Лиман» своим. До недавнего времени это был один из его грузовых районов, а наш директор – начальником района. Выделение «Лимана» в отдельное предприятие было формальным, он оставался привязанным к порту инфраструктурой надежнее, чем младенец к матери пуповиной. Тепло, вода, электроэнергия, связь и десятки других нитей – от пожарной сигнализации до канализации, все шло от порта. И было ясно, что такое мирное сосуществование с alma mater вечно продолжаться не будет. Равно же как и с другими полумифическими предприятиями на станции.
Химической.
Здесь нужно пояснение. Как таковой станции Химической с перроном, вывеской, какими-то станционными строениями или даже будкой стрелочника нет в природе. Это просто прилегающие к ТИСу пути, куда прибывают составы с грузом. И кто управляет этой станцией, тот фактически и контролирует грузопотоки на терминал.
«Лиману» давали много комплиментарных характеристик, говорили, что он вобрал в себя всю передовую европейскую мысль. Я хочу это подтвердить и опровергнуть одновременно. В той части проекта, которая касается собственно механики и технологий, комплекс был само совершенство. Но в той, которая называется инфраструктурой предприятия… Назвать эту вторую часть плохой, непродуманной, неэкономичной или затратной – ничего не сказать. Она была идиотской. Так вот, недовольство, если не сказать раздражение, «новой метлы» касалось именно ее.
Один из первых осмотров Алексеем Михайловичем терминала с моим участием был посвящен теплотрассе. Эта картина перед глазами до сих пор. Паропровод удавом лежал на монументальных бетонных опорах, весь в свисающей клочьями стекловате. Эта бесконечная труба, тянущаяся в бурьянах к порту, была украшена черт знает каким количеством хомутов в местах утечек. В зимнюю пору картину дополняли облака пара над прорывами. Алексей Михайлович был поражен бессмыслицей схемы: какой идиот придумал подавать пар от котельной к паре-тройке объектов на расстояние в 4 500 метров? И уж совсем терял дар речи, что в систему паропровода – диаметр трубы 250 миллиметров – встроили еще и трубу-обратку, по которой в котельную возвращается конденсат. Зимой с ним наибольше хлопот – замерзает, рвет систему.
– Обрежьте ее к чертовой матери! – принял он радикальное решение. – С такой экономией воды мы вылетим в трубу.
В этих же полях лежал бетонный водовод – труба 1 200-миллиметрового диаметра, по ней порт подавал нам воду. И столь же монументальный канализационный коллектор. Когда-нибудь, в грядущих временах, его найдут археологи и будут терзаться в догадках: кого поил этот монстрообразный потомок акведуков? Мы от него скоро избавились от сожаления, оставив трубы земле.
Недоумение Алексея Михайловича мне было понятно. Услуги порта обходились дороже золота. Пока никто ничего всерьез не считал, взаимоотношения строились как между своими. Но отношения начали осложняться, когда «Лиман» выделился в самостоятельное предприятие. И стали критически напряженными после образования ТИСа – примерно три четверти всех своих доходов нам нужно было отдать порту за услуги.
В этом месте просто необходимо сделать отступление о советской практике проектирования. В титул «Лимана» было заложено Бог знает сколько объектов, не имевших никакого отношения к самому «Лиману». Это и строительство канализационно-насосной станции в Суворовском районе Одессы, и двадцатикилометровый водопровод к городу Южному от Днестровского водовода, жилье для сотрудников будущего комплекса, рыбозаградительная станция и еще много чего. Это была обычная практика местных властей. Если планировалась важная, директивная стройка, в ее титульный лист впихывали все, что могли. И по существовавшим тогда правилам государственная комиссия не могла принять стройку, если весь перечень объектов не был выполнен. Парадокс состоял в том, что государство рухнуло, а правила остались.
Первая задача, которую нам, инженерной службе, поставил Алексей Михайлович, было отчекрыжить «портовскую пуповину» и создать автономную инфраструктуру. Реальность заданий была его стилем, поэтому он не требовал невозможного – сделать вчера, немедленно и так далее. Но поэтапность, шаг за шагом, предполагалась. Нам не нужно было пояснять важность задачи – сами понимали, что уродство инфраструктуры утянет нас на дно. Но создание своей системы жизнеобеспечения требовало средств, а их не было. Наш партнер и инвестор «Норск-Гидро» это понимал, советская размашистость его коробила, но норвежцев озаботила только ключевая проблема – станция Химическая.
Инвестор готов был открыть финансирование ремонта и развития подъездных путей. А они были в состоянии плачевном. Однажды, после ливня, Алексей Михайлович пригласил нас осмотреть Химическую. Это, к слову, было в его стиле – вместе оценивать обстановку, советоваться, принимать решения. Увы, мы мало что увидели – пути скрылись под водой, а где вода сошла, рельсы прятались в наносах ила. К сожалению, добрыми намерениями порыв норвежской компании и закончился. Нам предстояло вычухивать ее самим.
Думаю, мало кому выпадало такое начало биографии, как ТИСу. Мы всущности были хозяевами без прав, полномочий и перспектив, если ничего не менять. Мы даже не могли формировать свой грузопоток, так как не имели необходимой техники для погрузки судов. И Алексей Михайлович начал многотрудную, упорную борьбу за самостоятельность предприятия. Это малоизвестная, полузабытая страница истории ТИСа. Прежде, чем здесь загрохотала стройка, прежде, чем предприятие ожило на удивление всем, нужно было расчистить такие конюшни, в сравнении с которыми Авгиевы кажутся приятной разминкой мышц.
Порт Южный не был к нам враждебен. Тамошние экономисты просто по-своему понимали рыночные отношения и солидарность. Они накручивали нам тарифы ровно в такой мере, в какой могли их придумать и обосновать. Их не интересовало ни наше финансовое положение, ни трудности становления. Помню, как при пояснении тарифов на воду нам предоставили выкладку – там, помимо прямых затрат, были амортизация насосов и электродвигателей, зарплата слесарей, охранников и еще много чего.
Что касается тепла, то порт определял наше потребление «на глаз». Мы предложили поставить счетчики. «Кто же против? Хотите – ставьте свои приборы», – был ответ. Правда, в порту даже не нашлось уголка, где бы их можно было поставить– мы специально для этого построили зданьице, держали там оператора.
Разумеется, мы, в отличие от «Лимана», хотели не «получать», а зарабатывать. Но едва начало налаживаться дело с перегрузкой металла, как порт решил забрать свои краны с 16-го причала. Получалось, что мы опять у разбитого корыта. Но тут проявилось то качество Алексея Михайловича, которое я бы назвал умением смотреть за горизонт. Он поведение порта предусмотрел. Он вообще умел просчитывать действия партнеров, исходя не только из логики, а из царящих в их среде нравов и обычаев. Скажем, была ль необходимость порту перегонять краны обратно? Ни малейшей. Грузопотоки Южного мелели, краны в порту были обречены на простой, поэтому выгоднее было оставить их у нас и зарабатывать на лизинге, да мы ведь и не исключали, что порт продолжит перевалку металла. Но порт поступил по своему разумению, так как и должен поступать монополист, привыкший повелевать и «проучать». Порту важно было щелкнуть нас по носу, показать, кто мы и кто он. И Алексей Михайлович это предвидел. Он загодя заказал два подержанных крана в Рени. Тамошний порт, один из самых современных в стране, потерял свою роль и значение благодаря головотяпству правительства В. Пустовойтенко, его 90 кранов стояли без дела.
Быть может, главным признаком ТИСа того времени были многовекторность, одномоментность наших действий. Как сторукий Шива, мы одновременно и освобождались от зависимости от порта, и готовились сами к перегрузке, и работали над знаменитым «Контрактом № 20». Почему № 20? В нумерации нет ни последовательности договоров, ни мотивации – так придумалось, и точка. Но смысл его был важнейшим, если не определяющим: реверс комплекса фосфоритов. Теперь, спустя годы, я могу допускать, что, с инженерной точки зрения, возможно, лучше было бы строить сразу вторую очередь – экспортную. Дороже, но с большим запасом современных инженерных решений. Все же без малого десять (!) лет комплекс простоял. Но тогда единственно верным, с политическим окрасом решением была реконструкция. Да и по деньгам это было проще.
Становлению ТИСа серьезно мешала неопределенность наших отношений с инвестором – «Норск-Гидро». Человек в высшей степени дипломатичный, Алексей Михайлович в оценке партнеров был предельно корректным. И если мы, случалось, закипали, он неизменно повторял – другого партнера у нас нет, будем строить отношения с теми, кто есть. Он принимал эти «внешнеэкономические» хлопоты на себя, и я могу только догадываться, чего это ему стоило.
Одной из особенностей характера Алексея Михайловича было частое бросание курить. Так, приблизительно раз в полгода. Причем наблюдалась интересная особенность. Начинал курить он обычно, когда все было хорошо, после успешно проведенных переговоров с партнерами, клиентами или просто после каких-либо торжеств, заканчивающихся рюмкой хорошего коньяка и приятно проведенным вечером в компании друзей. И, наоборот, бросал он курить, когда все шло из рук вон плохо, «враги» наседали, денег не было, стройка буксовала. Это было для него своего рода медитацией, помогавшей собрать в кулак волю и настроиться на борьбу. В этой связи вспоминается одна история, связанная с этой особенностью его характера. Это было пять лет назад, строительство комплекса на 18-м причале шло очень тяжело, денег не хватало, у меня на голове сидел надзиратель от Жеваго К. В., некто Филипп Лейси, у Алексея Михайловича и Олега Джумберовича шли тяжелые переговоры с Жеваго. В общем настроение – хоть вешайся. Однажды утром в наш с Олегом Романовичем прокуренный кабинет вошел Алексей Михайлович, поморщился от дыма и сказал: «Котвицкий, бросай курить, а заодно и я с тобой брошу». Я на полном автомате сказал: «Давайте», – и пока мои мозги лихорадочно искали предлог, чтобы слинять с «базара», он уже составлял условия пари. Поскольку каждое хорошее дело обычно соображается на троих, то тут же был найден третий участник пари, им оказался подвернувшийся не вовремя под руку заядлый курильщик Иван Ильич Дорожан, а также был пристегнут в качестве арбитра Олег Романович Сологуб. Тут же были сформулированы и условия пари. По ним, каждый из нас назначает дату дня своего «бросания», вносит арбитру денежный залог (мы с Дорожаном – 2 тыс. долларов, Алексей Михайлович – 5 тыс. долларов), не курит на постоянной основе в течение двух месяцев (при этом разрешаются единичные выкуривания сигарет при условии внесения по 200 долл. за каждую), в случае «небросания» по окончании двух месяцев залог передается на благотворительные цели в детскую музыкальную школу. Алексей Михайлович пошел к себе в кабинет, принес 5 тыс. долл., передал Олегу Романовичу, и тот вместе с бумажкой с условиями пари и нашими с Дорожаном виртуальными 4 тыс. долл. сложил все в коробочку, а коробочку спрятал в сейф. При этом, как я понял несколько позже, деньги в коробочке были неглавным. Вместе с деньгами на алтарь пари легли проверка нас на «вшивость», в плане нашей способности держать слово, честно выдерживать условия и сроки пари, а также проверка наших волевых качеств. Приблизительно через неделю он зашел к нам в кабинет, молча положил на стол Олегу Романовичу 200 долл., посмотрел проницательно на меня, сидящего с опухшими от недостатка никотина ушами, и спросил: «Что-то ты сильно хорошо выглядишь, наверно, куришь по ночам под одеялом?»
В конце концов, два месяца прошли, все мы успешно бросили курить, а Алексей Михайлович сделал то, что показало нам, что деньги в этом пари были не главным.
Он просто велел Олегу Романовичу передать его залог детской музыкальной школе. А я не курю до сих пор, за что и буду благодарен ему всю жизнь.
Я не знал тогда, что Алексей Михайлович прошел советскую, скорее нелегальную, чем открытую, школу предпринимательства, изготавливая альпинистское снаряжение. Тогда было все нельзя, но и все можно – за деньги. Теперь же было все можно, но ничего нельзя – без денег. Поэтому его свободное, без неловкости умение вести себя с чиновниками, которых нужно было не уговаривать или убеждать лозунгами, а элементарно «благодарить», сунув на лапу, меня удивляло. Мне эту школу только предстояло пройти.
Особенно тяжело шли всяческие согласования в уже упомянутом «Одесводоканале». Это сегодня, если вы придете в эту организацию и заявите, что желаете потребить два моря воды, вас будут на руках носить – чем больше вы берете, тем больше и платите. Прямая выгода. Но стояло время перемен, в которое, по Конфуцию, лучше не жить. Главным понятием был лимит. Вот вам положено два ведра и три ложки – будьте добры, укладывайтесь. Почему не больше? А потому, что «вас много, а я одна». То же самое мы проходили и в энергосбыте, который наблюдал, чтобы электричество расходовалось исключительно по назначению. Инструкцией строго запрещалось тратить электроэнергию на отопление и подогрев воды. Это в стране, где избыток электричества. Бдительные инспекторы следили, как расходуются лимиты. И как нам было избавиться от почти пятикилометрового паропровода? Свою ТЭЦ строить?
Возможно, отопление было первой задачей на смекалку, которую решала наша инженерная служба. Причем, с весьма поверхностными познаниями в теплотехнике. Нужно было установить котлы и обогреть – внимание! – административный корпус, помещение охраны, столовую и несколько помещений на станции Химической. Вот ради этого при Союзе и протянули пятикилометровый паропровод. Начали мы проблему решать весной, а осенью уже жили в тепле, с горячей водой и без головной боли тревог, по которым в прежние годы поднимались ликвидировать прорывы. Более того, трубы самого ходового диаметра мы получили как дефицитный ресурс для перекладки существующих сетей и отвязки от порта. Следом возникла проблема с канализацией стоков: порт нас отсоединил от своей системы, мы решили врезаться в коллектор припортового завода. Обошлось нам это недешево, но Алексей Михайлович рассудил так: «Деньги большие, но зато никто и никогда потом не посмеет сказать, что мы на птичьих правах. Свобода всегда стоит дорого».
Конечно же, жизненно важно было организовать свою перевалку, зарабатывать, и пока не запущен терминал – на чем угодно. Было дело, мы выгружали мандарины. Случался металл – грузили металл. Отправляли в Турцию скот. Мы перебивались случайными заработками, знали цену копейке, и думаю, это во многом научило нас в будущем быть предельно внимательными к каждому клиенту. Стивидорная компания вообще-то и должна быть всеядной, в ее специализации всегда есть опасность оказаться пленницей как собственных капитальных вложений, так и не всегда предсказуемой конъюнктуры рынка. Мы этого счастливо избежали, хотя изначально встали на путь именно узкой специализации – химических грузов.
Первый настоящий грузопоток нам дал Алексей Михайлович Федорычев. Этот человек вообще сыграл особую роль в нашей истории. Жесткий в бизнесе, умеющий работать масштабно и ценящий масштаб, живущий больше в самолете, чем в своем доме. Говорящий то ли на пяти, то ли на шести языках, кроме русского, гражданин Монако по паспорту и русский по духу, культуре и ментальности – он был для нас первым примером, если не открытием, нравственного бизнеса. Честь, а потом уже прибыль. Два Алексея Михайловича оказались людьми одной группы крови.
«Федкоминвест» поставлял нам серу, сначала комовую, потом гранулированную, поставлял сульфат аммония – это такие азотные удобрения, которые у нас считаются бросовыми, а у рачительных хозяев тоже идут в дело. Сульфат шел в контейнерах на железнодорожных платформах, их у нас крутилось 33 штуки, и потом, когда грузопоток закончился, они так и остались, запружая подъездные пути. Применение им нашлось случайно, я об этом расскажу ниже.
Само собой, чтобы перегружать товар, нужны докеры. У нас не было ни одного. Они не знали к нам дороги, так как рядом, в порту, для них всегда была работа, там была сложившаяся десятилетиями традиция льгот и гарантий.
Считалось, что там рабочий – это звучит гордо, что он проходит как хозяин, а у нас хозяин буржуин, эксплуататор, которому прибыль застит глаза.
У нас на 16-м причале работали откомандированные докеры Южного – бригада Сергея Аникина. Уговаривали ее перейти к нам все – и Алексей Михайлович в том числе. Но думаю, вряд ли уговоры закончились бы успешно без Сергея Аникина, в то время работавшего бригадиром портовских докеров. В последствии к нам перешел и Алексей Лукич Гладушевский, который был откомандирован портом на 16-й причал начальником грузового района. Один из лучших специалистов-эксплуатационников, он проработал в порту около 20 лет. Это важно сказать, так как именно с этого момента началось создание рабочего коллектива ТИСа. Иначе – никак. Начинать самостоятельную перевалку и не иметь своего рабочего коллектива невозможно.
Мы все прекрасно понимали, что набрать квалифицированных специалистов вряд ли удастся. Квалифицированные всегда устроены, им цена особая. И, благодаря во многом Алексею Гладушевскому, мы через учебно-курсовой комбинат порта начали готовить свои кадры. Порт – спасибо ему – поступил по-товарищески, и скоро у нас появилась своя крановая группа, формировались необходимые для нормальной работы все службы и подразделения.
К слову, именно тогда мы поняли, что нужно создавать свою школу подготовки кадров – система профтехобразования уже была погублена, 1996–1997 годы мы прожили в небывалом напряжении. Реверс был у всех на слуху, все удачи и неудачи воспринимались как дело личное. Да, собственно говоря, так оно и было – не удастся пустить импортно-экспортную линию, у нас перспектива нулевая. ТИС, казалось, вот-вот или надорвется, или возьмет рекордный вес. 13 мая 1998 года я запомню навсегда – к 17-му причалу встал первый теплоход под погрузку. Экспортная линия начала работать. Это сказать просто – начала работать. На самом деле все были напряжены до предела, так как теория и практика иногда конфликтуют до смерти, и неизвестно, так ли все будет крутиться, как задумано. Конечно, мелкие недоделки вылезали на каждом шагу, но в целом линия работала надежно. Интенсивность погрузки судов была 500–600 тонн, что далеко от рекорда, но мы все понимали – это ученическая стадия. Что оказалось правдой – теперь мы грузим в десятки раз больше. Думаю, по производительности погрузки ТИС опережает все родственные терминалы в стране.
Как в жизни любого человека есть значимые, поворотные события, так они были и на ТИСе. После того, как порт Южный забрал свои краны, мы купили себе два крана в порту Рени. Демонтаж машин был не так сложен, как перевозка сначала по Дунаю, потом морем. После этого у нас не просто стало на две единицы механизации больше. Портальный кран – оборудование достаточно сложное, я бы даже сказал, что каждый кран со своим характером. Крановое хозяйство требует своей службы, кадров и продуманной загрузки. Алексей Михайлович это прекрасно понимал. В кадровой работе была особенность. По характеру, по ментальности все мы были продуктом советской школы воспитания. Я сейчас оставляю в стороне рассуждения, хорошая это была школа или плохая.
Проблема была в том, что нам нужна была иная школа – рыночная, без ложных ориентиров и совкового пафоса, когда на собраниях все дружно осуждали расхитителей социалистической собственности, а после собрания так же дружно тырили доски или цемент. Для инженерно-технического, управленческого персонала новые подходы к работе осложнялись еще и тем, что рыночные отношения требовали мобильности, оперативности, умения быстро реагировать на вызовы рынка.
Государственная машина тяжела, ее маховик раскручивается долго и имеет большую инерционную силу. Вот, к примеру, если бы порт начал, как мы в свое время, принимать комовую серу, он бы к ней сначала притерпелся, потом сроднился и грузил бы, пока есть грузопоток. Мы, несмотря на то, что серу отправлял наш инвестор, не скрывали, что груз вынужденный. Мы начали ее принимать потому, что Мариупольский порт замерз и стоял – первое, потому что у нас иного грузопотока не было – второе. Мы не скрывали от инвестора и поставщика, что могли бы принимать серу гранулированную – скорость ее перевалки в пять-шесть раз выше, но с комовой наш союз временный.
Нам не нужно было ни у кого спрашивать разрешения, ни у кого согласовывать свои грузопотоки. Выгодно – работаем.
И теперь мы подошли к главному, определяющему моменту в строительстве тисовского коллектива. Алексей Михайлович не только создавал совершенно новую систему управления. В этой системе решения вырабатывались и принимались сообща. Каждый руководитель службы должен был думать, как будет выполнять решение, как организовать работу, расставить людей и пр. Но эти правильные и понятные истины должны были иметь фундамент – систему оплаты труда. Такой системы с «белой бухгалтерией», с прозрачными и понятными критериями оплаты труда в отрасли не было. Мы ее создавали, исходя из простого и понятного правила – каждый должен получать столько денег, сколько стараний и труда вложил в деятельность предприятия. На деле это выглядит так.
Каждый работник ТИСа имеет в своей зарплате незыблемую базу – тариф. А прибавка к нему зависит от перевалки грузов. Это правило для всех. Кроме количественных показателей, оплата зависит от многих условий. Это и соблюдение норм безопасности, и качество переработки грузов, и сохранность оборудования, и дисциплина. Свою систему оплаты мы отрабатывали не один месяц, тщательно взвешивали, так как понимали – менять принципы оплаты труда нельзя. Всякий раз в порту или на заводе, когда возникала идея – как правило, по указанию сверху – пересматривать нормы и тарифы, все рабочие были уверены, что их надурят. И их дурили, полагая, что рост зарплаты – из общесоветского достатка.
На ТИСе на наши поиски рабочие тоже смотрели сначала с подозрением. Мы не разубеждали их, а задавали встречный вопрос: как было бы по справедливости? И это ключевое слово – справедливость – и стало мостиком взаимопонимания. Что сегодня спрашивают рядовые рабочие, приходя на смену? Сколько вагонов на подходе, на сколько загружен трюм судна, какие проблемы могут возникнуть? Иными словами, мы включили инициативу рабочих в процесс производства. И если в конце девяностых ТИС перегружал миллион тонн с небольшим, а сегодня преодолел рубеж 17 миллионов тонн, то соответственно интенсификации производства росла и заработная плата. И еще очень важное обстоятельство.
Алексей Михайлович всегда ценил труд рабочего, но знал и настоящую цену толковому инженеру, толковому организатору производства. Поэтому уравниловки у нас никогда не было, каждый инженер получал зарплату, перефразируя советский принцип, по своему уму.
Подбором и созданием рабочих подразделений занимались непосредственно руководители на местах – это естественно. А вот управление было исключительно заботой Алексея Михайловича. Если искать сравнение, то это было похоже на то, как формируется садовое пространство. Именно пространство, в котором вдумчиво подобраны сорта, чередуются или соседствуют косточковые и семечковые, к месту высажен куст шиповника или разбита клумба роз. Все вместе, в сочетании дает не только пользу, прибыль, которая и есть главным предназначением сада и по которой оценивают работу садовника, но и гармонию. С налету, с наскоку эту особенность тисовского коллектива не увидеть. Но каждый, кто знакомился с ТИСом обстоятельнее, отмечал именно его гармоничность. Алексей Михайлович отбирал свои «саженцы» поштучно, внимательно, непременно учитывая, как они будут сочетаться с соседями. Наверное, этим поясняется, что, как правило, у нас сложилась естественная, определяемая жизненными условиями и проблемами текучесть кадров.
Думаю, Алексей Михайлович нашел также единственно правильное и весьма оригинальное решение проблемы карьерного роста для замкнутого социального пространства – компания, безусловно, пространство замкнутое. Оно заключается не в том, как называется твоя должность, а что ты делаешь. Если в обычном коллективе карьерный рост означает продвижение от рядового инженера к старшему, от старшего к еще более старшему, что предопределяет известное соперничество, напряжение в отношениях, то в ТИСе карьера делается иначе. Реализация способностей, идей или предложений не ограничена должностью. Цена руководителей служб и подразделений, в первую очередь, определяется умением раскрыть способность, творческое начало специалиста. Если упростить, то Петренко на ТИСе получает возможность работать именно Петренко, делать то, что не сумеет делать никто другой. Именно это и создает необходимую атмосферу творчества, поиска оригинальных, неожиданных решений, которыми мы не раз и удивляли, и озадачивали своих друзей, конкурентов и, увы, противников.
Теперь много и велеречиво рассуждают о «социальных лифтах», которые худо-бедно сложились и работали при советской власти и исчезли, как дым, в современных условиях. Вот то, о чем я сейчас говорю, и есть система социальных лифтов в масштабах одной компании. Наша система воспитания, обучения кадров дает возможность каждому толковому рабочему остаться рабочим и много зарабатывать, дает возможность учиться и расти по службе, позволяет рассчитывать на помощь предприятия в учебе детей, лечении, оздоровлении и так далее. Когда наши, мягко говоря, оппоненты блокировали развитие компании, они не только блокировали тем создание рабочих мест, но и заставляли «зависать» социальные лифты.
Я ни разу не видел Алексея Михайловича, склонившегося над технологической схемой или чертежом и думающего, как Чапай, свою конструкторскую думу: куда здание посадить, где резервную технологию заложить и пр. Тем не менее, он был блестящим стратегом, тонко, интуитивно ловящим нюансы географического положения предприятия, его места в транспортной системе Украины, вибрации рынка. Быть может, самый яркий тому пример – зерновой терминал.
После реконструкции первой очереди комплекса фосфоритов мы прочно заняли на рынке место специализированного предприятия по перевалке химических грузов. Об опасностях такого выбора я говорил выше, но понял гораздо позднее. В первый год работы, в 1998-м, мы перевалили всего около полумиллиона тонн. Но потом темпы начали нарастать стремительно. Хочу сразу внести ясность: мы не только работали «к морю», но и пусть и немного, но принимали импортные потоки. В том числе были и фосфориты, и ильменит. С последним вообще складывалась ситуация парадоксальная – свой, украинский ильменит мы экспортировали, а для «Крымского титана» закупали за границей. Технология крымчан была ориентирована на чужое сырье, а уж как это получилось – вопрос не нам.
Едва мы перевалили за миллион тонн, стало ясно, что на 17-м причале нам скоро станет тесно, что возникнут заторы на станции разгрузки вагонов. И мы начали строить новый склад на 16-м, новую станцию разгрузки. Строили быстро, и это, пожалуй, был самый безоблачный такой наш период. Конкуренты с существованием ТИСа смирились, власть благоволила, так как ее доля собственности все еще оставалась определяющей – 52 процента, она получала свои дивиденды и нас не беспокоила. Алексей Михайлович откровенно радовался темпам, после каждой отлучки, а командировки у него случались часто, он всегда с аэропорта ехал не домой, а на стройку. Причем, не осматривал ее издали, а заглядывал во все уголки, вникал в детали, особо его беспокоила новая станция. А если конкретно – сможет ли конвейерная линия, рассчитанная под удобрения, быть универсальной. Это мы проходили раньше, на первой очереди, конечно же, сможет.
В одно из таких возвращений, уже ближе к вечеру, мы пошли с Алексеем Михайловичем на строящуюся станцию разгрузки вагонов (СРВ), пока что это был только котлован с бетонными балками перекрытия. Он по обыкновению побеседовал со строителями, которые опять-таки по обыкновению на что-нибудь да пожалуются, а потом пошел по балке над котлованом. Высоты там было метров восемь, но он перемещался ловко и уверенно. То-то – альпинистская школа, подумал я. Но все же под сердцем екало и ненапрасно. В какое-то мгновение он оступился и полетел вниз.
Как я слетел на дно котлована – не помню. Помню только, как обмяк, когда увидел, что Алексей Михайлович поднимается на ноги. На бетонном полу, утыканном торчащей арматурой, было единственное пятно без этого смертоносного железа, и именно в пятно он угодил. Скорее с изумлением и интересом, чем с испугом, он смотрел вверх, откуда только что слетел, и потирал ушибленный бок. Онемевшие от происшествия рабочие стояли соляными столбами. Утром следующего дня один из них принес Алексею Михайловичу в кабинет часы, их сорвала в полете с запястья арматура. Очевидно, у Господа еще были на него свои планы.