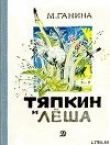Текст книги "Алексей Ставницер. Начало. Восхождение. Вершина (СИ)"
Автор книги: Александр Чебручан
Соавторы: Валерий Албул,Александра Старицкая,Александр Токменинов,Хобарт Эрл,Виктор Ставницер,Вадим Сполански,Игорь Шаврук,Владимир Мамчич,Абрам Мозесон,Михаил Ситник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Я попал на «Лиман» по распределению после водного института, и хотя вместо инженерной должности меня отправили в слесари (почему-то считалось, что это лучший метод закрепления вузовских знаний), был очень доволен. Комплекс был вершиной инженерной мысли того времени. Помахав вдоволь молотком и накрутившись гаек, я, в конце концов, оказался в службе главного инженера. Главные тогда на «Лимане» не задерживались, комплекс стоял. Очередным главным и моим непосредственным начальником был назначен инженер из нашего отдела капитального строительства Виталий Котвицкий – почти ровесник. Его тоже изрядно помытарило в новое время, что немало способствовало нашему полному взаимопониманию.
Что построенный для импорта фосфоритов «Лиман» вряд ли будет использоваться по назначению, было понятно даже такому зеленому специалисту, как я. Тогда вообще казалось, что термин «импорт» исчез из украинской действительности навсегда. Здесь, в порту, было такое впечатление, что страна поставлена «на поток», как встарь называли разграбление городов победителями. И вся добыча – за границу. Везли руду и уголь, ильменит, металлолом, прокат, зерно, сахар, что-то в тюках и мешках. Потом, когда как-то в одночасье грузопоток иссяк, мы вообще слонялись без дела, а следовательно, и без денег.
Как инженеру комплекс был мне очень интересен. По доброй воле я облазил его от станции погрузки вагонов до высотной площадки судоразгрузочной машины, обильно засиженной чайками, заглянул во все уголки галереи и склада. Нужно было отдать дань как немецкой инженерной мысли, так и немецкой же хорошей работе. Новому главному инженеру комплекс тоже был интересен, мы иногда путешествовали по нему вместе. Благо, предприятие стояло, было время и возможность поразмышлять над возможным будущим комплекса. Мы решали инженерные задачки «на ум»: а вот, к примеру, как можно бы запустить комплекс «к морю»? Или что он мог бы обрабатывать, кроме фосфоритов? Какая скорость конвейерной ленты нужна при погрузке сахара? Зерна? Глинозема? Минеральных удобрений? Получалось, что комплекс может перегружать все, что угодно. Но пока он стоял, нам привалило счастье освоить такой вид стивидорной деятельности, как погрузка скота.
Коров везли откуда-то с юга и востока. Несколько суток путешествия по дороге доводили их до состояния невменяемости. Скотина ревела, с налитыми кровью глазами никак не хотела заходить на пароходы-скотовозы, бросалась за ограду, калечилась. Приходилось едва ли не за рога и за хвосты затаскивать их на ведущий в трюм трап. Ни одна доярка и ни один скотник никогда не бывали так изгвазданы навозом, как я после такой «стивидорной» работы. Однажды, выйдя на причал, я увидел лежащую корову – в отчаянном прыжке через ограждение она поломала ноги. Присутствующие по служебной необходимости на погрузке должностные лица – таможенники, ветеринары, пограничники – скребли затылки. Что делать с покалеченным животным, интеллигенты знали, но сделать это не могли.
Я и теперь, как наяву, вижу эту сюрреалистическую картину: звездная, морозная ночь, круг луны высвечивает выносную стрелу крана, на которой подвешена за задние ноги туша. Свежевать корову тоже пришлось мне. Так что домой я возвращался с гонораром – приличным куском говядины. Все остальные, в том числе и рабочая столовая, тоже не остались в накладе.
Так вот, с появлением Алексея Михайловича впервые забрезжила надежда, что наши инженерные знания будут применяться не для экзотической погрузки коров. И здесь я вернусь к его открытости к общению. Почему для меня это было важно?
Так в моей жизни случилось, что перед самим окончанием института не стало отца. Я в общем был уже взрослым человеком. Но и в таком возрасте важно иметь нравственную поддержку, советчика. Раньше «жизнь делать с кого» было ясно и просто. А в девяностые… Появление Алексея Михайловича, человека «без мохнатой лапы», без «крыши», без золотой цепи на холке, как бы подсказывало, что в жизни можно состояться, минуя членство в банде и группировке. Его судьба меня привлекала, я неосознанно тянулся к человеку с таким опытом. Найти себя, свое место в жизни для молодого человека, высоким стилем говоря, реализовать себя было проблемой острейшей. Думаю, что и сегодня эта серьезная социальная проблема никуда не исчезла, просто общество к ней притерпелось, привыкло. Тысячи молодых судеб оказались исковерканы потому, что люди вынуждены заниматься не тем, что нравится, а тем ремеслом, что дает хлеб насущный. В том, что я не оказался в этом числе, большую роль сыграл счастливый случай, который называется Алексей Михайлович Ставницер.
Если додумать проблему до конца, то получается вот что. Вся наша предыдущая история строилась на том, что мы, прежде всего, думали о родине, а уж родина создавала условия для самореализации, предоставляла более или менее равные шансы для становления личности. В новой Украине каждый заботился о себе, это я говорю не только о людях. Государство тоже существовало автономно от нас. По ошибке (или невежеству) это считалось нормой рыночных отношений. И уж совсем запредельной была мысль, что в судьбе человека принимает участие и работодатель, собственник предприятия – будь то государство или частное лицо. Алексей Михайлович не был теоретиком, не разрабатывал модели развития национальной буржуазии – этим, по-моему, по сей день и в стране никто не занимается, но его характер в союзе с мощным интеллектом уловил, как сверхчувствительный флюгер, эту необходимость.
По той ли мере доброты, которой его одарила природа, по иным ли обстоятельствам, но Алексей Михайлович – скажу это так – меня увидел. Потом я пойму очень важную грань его отношения к молодым – у него был сильный отцовский инстинкт. Как известно, он определяется не только отношением к своим детям, а к поколению детей вообще.
Этим, на мой взгляд, во многом поясняется, что и в кадровой политике он ставил чаще не на опыт, а на энтузиазм, на молодой азарт. Это не значит, что специалистами постарше он пренебрегал, я не припомню ни одного случая, чтобы кто-то на ТИСе был уволен по возрасту. Знания и умение вести дело всегда были определяющими. И все же Алексей Михайлович главной тягловой силой своих проектов определял специалистов молодых. А проекты потом следовали один за другим, казалось, что ТИС наверстывает все, что было потеряно в долгие годы спячки «Лимана». Создавалась совершенно ни на что не похожая, уникальная земля терминалов. Химический, зерновой, угольно-рудный, контейнерный комплексы появлялись один за другим, они работали по новым технологиям, требовали нового менеджмента. Нужны были специалисты под стать времени и задачам, и у Алексея Михайловича был талант их находить. Где? Как правило, рядом, в портах или стивидорных компаниях, где они сидели в тени многоопытных зубров, дожидаясь, пока их увидят и оценят. Замечал и ценил он. Убеленные сединами ветераны портовой отрасли смотрели на наших директоров терминалов, как обычно и смотрят на «молодо-зелено». Но по мере того, как ТИС набирал темпы развития, скептицизм и снисходительность убывали. Не все и не сразу поняли, что так создается запас прочности и надежности ТИСа на десятилетия вперед. Впрочем, кадровая политика ТИСа – страница, заслуживающая особого разговора. До того, как она сложится и обретет сегодняшний вид, нам еще предстояло пройти сквозь густые тернии.
Первым, определяющим все дальнейшее развитие, был запуск уже существующего перегрузочного комплекса. Алексей Михайлович искал решение, как осуществить реверс, то есть реконструировать комплекс так, чтобы он мог и загружать суда, и работать на выгрузку. Немцы, как прародители «Лимана», его осторожно убеждали – невозможно. Самый авторитетный и весьма уважаемый отечественный проектный институт тоже был настроен к идее скептически, но не так категорично. И даже предложил схему, от которой к реверсу пропадала всякая охота – громоздко, сложно, дорого, ненадежно. Да и как могло быть иначе, если проектировщики комплекс видели лишь издали?
Алексей Михайлович познакомил нас с Виталием с этой схемой, мы ее отвергли и предложили свою. Жаль, тогда мы не заботились об истории ТИСа и не сохранили набросанную на серой писчей бумаге «от руки» свою идею. Алексей Михайлович покрутил ее в руках, похмыкал, и мы полезли на галерею. Мы шли от одного технологического звена к другому и, что называется, «на местности» показывали ему, что и как нужно переделывать. Наш замысел лег ему на душу. Он предусматривал использование для реверса части уже готового оборудования, поставленного «Крупп-ПВХ» для второй очереди. Это значительно удешевляло стоимость реверса. К тому же было ясно, что никакой второй очереди не будет, а оборудование обречено рано или поздно стать металлоломом.
Мы поехали со своим предложением к тем самым проектантам, предложение которых раскритиковали. И настала наша очередь принимать критические стрелы. В проектном институте над нами смеялись, как над пионерами из кружка «умелые руки», решившими учить именитых академиков. Хотя конкретные, по существу, замечания были невнятны, я чувствовал, как под ногами потрескивает тонкий лед. Ведь оппонировали грамотные инженеры, они сыпали терминами, приводили примеры из практики. Это могло произвести впечатление на Алексея Михайловича. Его степень риска и ответственности за принятие решения была неизмеримо выше нашей. Осторожность – непременна. К тому же скребло на душе, что у Алексея Михайловича инженерного образования нет, поэтому ему легко попасть под обаяние умудренных и седовласых.
Образования не было, но интуиция на инженерные решения была – дай Бог каждому. Он уловил в нашей идее главное и принял нашу сторону, но и дельными предложениями критиков не пренебрег.
Возможно, это мое личное ощущение, но все же. Мне представляется, что именно та ситуация подвигла Алексея Михайловича принять решение, которое теперь выгодно отличает ТИС от родственных предприятий. Решение о создании своей мощной инженерной службы. Обычно это служба, обеспечивающая эксплуатацию машин и механизмов. Он же поставил цель создать службу, которая бы работала на развитие предприятия. Это получилось не сразу, а самым естественным путем – по мере возникавших идей возникали и подразделения для их решения. Поначалу это была адаптация, использование узлов и конструкций крупповской работы, тосковавших в ящиках, для реверсного запуска комплекса. Параллельно шла переделка самых разных узлов и механизмов, чтобы они крутились «к морю». Пожалуй, самой сложной из таких работ было конструирование судопогрузочной машины. Конечно же, мы не занимались дилетантской самодеятельностью. Если нужен был проект, то обращались к специалистам в соответствующие организации. Но если в процессе строительства возникали идеи по совершенствованию, то изменения вносились уже после проработки нашими специалистами. Исподволь в ТИСе сложились высокой квалификации КБ, логистическая служба. Рынок жесток и беспощаден, если на него лезут без серьезной проработки идеи. Возникавшие как идея проекты по строительству терминалов – от зернового до контейнерного – изначально прорабатывались аналитиками. Это с химическим терминалом у нас не было выбора, он получен, как приданное, от Фонда госимущества. А что касается остальных грузопотоков, то важно было не просто соблюсти приличия, составляя конкуренцию другим стивидорным компаниям. Важно было предложить клиенту такие условия перевалки, которые не могли представить конкуренты. За всю нашу немалую теперь практику ТИС никогда не перехватывал чужие грузопотоки за счет понижения ставок, хотя эта практика, увы, обычна.
Как скоро мы убедились, отсутствие инженерного диплома у Алексея Михайловича не было равнозначно отсутствию знаний. Он как-то очень быстро освоил тот объем инженерных премудростей, который необходим руководителю стивидорной компании. Не буду утверждать, что он мог бы сделать расчет, к примеру, прочности и надежности балок. Но и навести тень на плетень, будто что-то нельзя сделать, ни у кого бы не получилось. У него был по-настоящему аналитический ум, он ловил идею на лету и на лету же ее оценивал. Как-то мы положили ему на стол разработку, к которой предлагалась и смета. Он посидел, посмотрел, подумал. Утвердил, но с поправкой – рядом с подписью стояло «–30 %». Мы доказывали – никак невозможно. Он сказал – думайте. И впрямь, оказалось, что ровно 30 процентов средств можно сэкономить.
Эту его склонность и способность к самообучению не учли наши норвежские партнеры. История отношений с «Норск-Гидро» не самая радужная в нашей истории, и в ее основе оказалось неумение представителей этой мощной компании ценить партнерские отношения и партнеров. Норвежцы, судя по всему, изучили анкету Алексея Михайловича, но не учли его способности.
Мы как-то с Алексеем Михайловичем поехали на встречу с руководством сумского «Химпрома». С этим гигантом, уже после запуска реверса, у нас складывались хорошие отношения. Сумчане были среди тех, кто поверил молодому ТИСу и начал перегружать у нас удобрения. Мы оказывали химикам встречные любезности, не зацикливались на букве договора, если возникали непредвиденные обстоятельства. Генеральный директор комбината Е. Лапин был в то время народным депутатом, понимал важность становления ТИСа для отечественной промышленности и в случае необходимости помогал нам в спорах с чиновниками. Возникала даже идея инвестиций «Химпрома» в развитие ТИСа.
Визит наш носил сугубо деловой характер. Но так случилось, что одновременно с нами на «Химпром» приехал и представитель «Норск-Гидро», если не ошибаюсь, это был Одд Гренли. Мало того, мы вместе с ним оказались в кабинете Евгения Лапина. И господин Гренли позволил себе как-то не очень корректно отозваться об Украине вообще и ТИСе в частности. Реакция Алексея Михайловича была молниеносной. Не переступая межу дозволенного, он очень веско напомнил гостю о правилах поведения в гостях и потребовал извинений.
Нас в последний период истории как-то очень напористо убеждали, что патриотизм является «последним прибежищем негодяев», и, к сожалению, некоторые граждане в это поверили. К сожалению потому, что без патриотизма не бывает успешной модернизации, не бывает экономического прорыва. Алексей Михайлович отвечал самым взыскательным нормам понятия патриотизм. Я никогда не слышал от него призывов любить Украину, не видел его на патриотических митингах, и, тем не менее, в нем жило самое светлое патриотическое чувство к своей стране. Именно к стране, а не государству. Он умел отделять отношение к насквозь прогнившему, коррумпированному чиновництву от отношения к стране. Его патриотизм проявлялся в самой трудной области – в модернизации, в укреплении экономики страны. Конечно, говорить о создании рабочих мест, о достойных зарплатах, о социальной защите важно, нужно, в конце концов, выгодно для имиджа. Алексей Михайлович это все делал. Новый ТИС начинался, если не изменяет память, усилиями чуть больше 150 человек. Сейчас – более 2 000. Наша средняя зарплата никогда не была выше, чем, к примеру, в порту Южный. Но у нас почему-то нет вакансий, к нам приходят подросшие дети ветеранов предприятия, образовываются семейные династии. И в отличие от государственного предприятия, которое по привычке еще называют народной собственностью, ТИС без пропагандистских усилий и ухищрений рабочие считают своим. Это важно сказать, так как в жестких конфликтах, сопровождающих нас на всем пути развития, чиновники и государственные контролирующие службы всякий раз врут, что они радеют за народ, за государство, а ТИС – только за себя, за свою рубашку, которая ему ближе и дороже. На самом деле все было и остается наоборот, что просто доказать. Развиваясь за собственные средства, не беря у государства ни копейки, предприятие вкладывает в социальную сферу такие деньги, платит в бюджет такие налоги, которые несравнимы с тратами государственных портов.
Реверс – термин технический, в современных словарях его значение определяется как «способность механизма менять направление движения».
Действительно, изменение направления комплекса было задачей технически сложной. Если бы не позиция наших бывших партнеров, компании «Норск-Гидро», мы решили бы ее быстрее. Но вышло, как вышло. Интенсивная работа, собственно, началась только после вхождения в ТИС монакского, но с российской корневой системой, «Федкоминвеста». Владелец компании Алексей Михайлович Федорычев мало что оказался полным тезкой Ставницера, он был ему родней по духу, по нравственным принципам. Приезд Федорычева на ТИС для знакомства произвел впечатление. Он с лету, по-соколиному оценил и комплекс, и перспективы развития. Потом рассказывали, как легенду, о его скорости и смелости принимать решения.
– Сколько нужно денег для запуска терминала? – спросил Федорычев.
– По нашим расчетам, три миллиона долларов, – сказал наш Алексей Михайлович.
Федорычев сказал готовить документы к подписанию. Контракт был подписан за два дня. И Федорычев внес инвестицию без промедления, не жмотничая на получении процентов и не дожидаясь, когда будут четко выписаны всевозможные юридические условия и гарантии.
У нас оставалось не так много времени, чтобы вложиться в сроки запуска, оговоренные Фондом государственного имущества, поэтому работа велась в три смены. Но комплекс как инженерное сооружение – это только железо. В него нужно было вдохнуть, как в Галатею, жизнь. Алексей Михайлович на это делал акцент: заложить плохую традицию просто, исправить ее – труд неимоверный. У него не было привычки ссылаться на личный опыт, он вообще не очень-то любил рассказывать о себе. Но иногда, что бывало не так часто, его, как говорят, пробивало, и тогда сверкал, как кристалл, какой-то эпизод из альпинистской жизни – поучительный и познавательный одновременно. Такой, к примеру, была его повесть, как он десятилетним трудом в горных лагерях пытался сломать костную систему обучения альпинистов. И вроде все были за, а традиция – против.
Между тем, оказалось, что реверс как техническая проблема менее сложен и затратен по усилиям, чем «изменение направления» в сознании, в традициях, в системе партнерских отношений, в равенстве форм собственности – частной и государственной, в той тонкой материи, которая называется атмосферой трудового коллектива. На словах «реверс» как переход от социалистической формы хозяйствования к рыночной прост. Все равно, что яйцо разбить. На деле – куда как сложнее. Я тут не буду призывать к себе в помощники теоретиков рыночной экономики. Они, говоря об общих направлениях развития рынка, весьма приблизительно представляют сложность изменения психологии бывшего советского человека просто в человека, разница между рыночной и псевдорыночной экономикой для них и вовсе загадка. Они не представляют бизнес без нравственных тормозов и ограничений. У нас же считалось «доблестью» надуть и обжулить партнера сегодня, не заботясь, что завтра он вам не поверит. Завтра можно обжулить и надуть того, кто еще верит в честность и порядочность.
Провозглашенный Алексеем Михайловичем принцип – репутация дороже прибыли – сложно вписывался в суровые будни псевдорынка.
Рынок всегда поделен. Это истина. И каждый новый игрок на нем неизбежно вступает в конкуренцию с другими участниками. По этой причине ему никто не рад. Намереваясь после запуска комплекса перегружать около полутора миллионов тонн грузов, мы претендовали, таким образом, на передел грузопотоков. Но клиент не всегда идет туда, где, как в финансовой пирамиде, маячит халява. Клиент больше дорожит не низким тарифом, а сохранностью груза, скоростью перевалки, доставкой по назначению точно в срок. Нас никто не знал. Шумная история развода с именитой норвежской компанией славы не прибавила, а в чем суть конфликта, мало кто вникал. Главное – был конфликт.
Главных отличий ТИСа от иных стивидорных компаний было два. Первое – скорость выгрузки. Второе дополняло первое – складские помещения. Склады позволяли накапливать большие партии грузов и отправлять их многотоннажными судами, что уменьшало стоимость транспортировки. Получалось, что есть судно у причала, шторм на море или гладь – вагоны будут выгружены сразу при поступлении на терминал. Платы за простой вагонов, которая стала непременной составляющей накладных расходов, тоже не будет. Станции выгрузки вагонов исключали так называемый «прямой вариант» – когда вагон подгоняли к причалу, поднимали над трюмом и переворачивали.
У нас груз из вагонов ссыпался в бункеры, система транспортеров несла его к пароходу или на склад, ничего не сыпалось и не пылило. Вот во всем этом была наша привлекательность, наша «фишка», и никто из конкурентов не мог нас обвинить в том, что мы сманиваем клиентов. Они могли создать условия лучше, и тогда грузопотоки пошли бы мимо тисовских ворот. Алексей Михайлович был идеологом создания первого в стране, если не на постсоветском пространстве вообще, стивидорного производства, способного оперировать грузопотоками. Причем, производства многопрофильного, переваливающего, казалось бы, несовместимые грузы. Поначалу это вызывало у наших надзорных и контролирующих органов нечто вроде шока, они бились в истерике и кричали «Не позволю!», но аргументов не позволять не было. Особенно острой была атака на ТИС, когда мы построили рядом с химическим терминалом зерновой. Что удобрения и зерно никак не пересекаются, что соблюден санитарный разрыв между складами – не аргумент. Нельзя и край. Инерция совкового, запретительного сознания контролирующих органов тоже требовала «реверса».
Начав перевалку в 1998 году, мы сделали около 500 тысяч тонн. Достижение более чем скромное. И сознаюсь задним числом: достались нам даже эти тонны ох как тяжело. Потому что заполучить груз еще не значило уметь с ним работать. Это в инженерных задачках все было вроде просто. А на самом деле каждый груз имел свои особенности, и не все можно было просчитать исходя из теории. Навсегда осталась в памяти история с аммофосом, его поставляли нам и россияне, и наш родной ривненский химкомбинат. Казалось бы, все проще пареной репы. Вагоны под аммофос имеют в днище четыре люка, открывающиеся пневматикой. Нажал на рычаг – пшикнуло, люки открылись, аммофос высыпался, и – пожалуйте следующий. Но в нашем случае все пошло наперекос. Вагоны пришли старые, битые и ломаные. Ни пневматикой, ни ломом и молотом люки не открывались. За первый день, сбивая пальцы и срывая голоса, удалось разгрузить два вагона. Каждый следующий день прибавлял по одному вагону – так можно было разгружаться до морковкина заговенья. Железная дорога включила счетчик. Делать было нечего – Алексей Михайлович вызвал из Ривного тамошних работяг. Они целый месяц обучали нас выгружать аммофос в наших условиях. После этого все наладилось.
Трудно шла работа над судопогрузочой машиной. Мы ее сдали, считай что, в последние дни, предусмотренные контрактом с Фондом. Терминал без нее работать не мог, покупать новую – и денег нет, да и такую технику нужно заказывать впрок. И тогда Алексей Михайлович решил приобрести мобильный судопогрузчик. На наш зов приехал английский фирмач Майкл Гривс, импозантный такой джентльмен. Его фирма равнялась ему самому. Майкл осмотрел наше хозяйство, покивал одобрительно головой, сказал, что фирма «Давид Харрисон», с которой у него сотрудничество, пожалуй, нам поможет. Цена вопроса – что-то около 200 тысяч долларов. Для нас это были серьезные деньги. Но, как оказалось, сумма эта была в разы меньше, чем серийный погрузчик. Секрет был прост. Оказалось, этот «Харрисон» специализируется на мобильной портовой технике. Такой себе аглицкий Левша.
Погрузчик, как ни странно, отвечал цене и работал. Мы даже как-то сбавили темп на монтаже главной машины. Успокоились. Но скоро случилось неизбежное – аглицкий шедевр сломался. Эту нерадостную новость в третьем часу ночи сообщил Виталию Котвицкому начальник эксплуатации Алексей Гладушевский, по тревоге подняли меня и поехали на терминал. Дело не терпело – ждал срочной погрузки иршанский ильменит. С Иршанском у нас только-только начали налаживаться деловые отношения, и сильно не хотелось опростоволоситься.
Увы, машина стала по серьезной причине – вал от гидромотора к барабану сломался. Такого мы, конечно, от «Давида Харрисона» не ждали. И наша инженерная служба, и рукастые умельцы долго мудрили, как починить машину. В конце концов, вал сварили, погрузчик пустили. Но неделю времени потеряли. И не было гарантии, что вал не срежет через день или два. Англичане во искупление вины очень быстро доставили новый мотор, ситуация наладилась. Мы ждали, что Алексей Михайлович будет всерьез выяснять с англичанами отношения, но он вел себя как-то на удивление спокойно.
– Мы с «Круппом» по оборудованию ругаемся? – ответил он вопросом на наш вопрос. – Почему стерпели? – и сам же ответил. – Мы с ними не ругаемся, потому что они поставляют товар качественный. И мы, соответственно, им платим за качество. Здесь случай иной – мы решаем локальную, временную проблему.
Крупповская фирма, уж коль была упомянута, к нашему терминалу относилась с придыханием. У Алексея Михайловича сложились с ее представителями хорошие отношения, он и нас вовлек в этот круг, не упускал возможности посылать нас в Германию. Формально – на переговоры, по существу – учиться. Видеть хорошую работу, познакомиться с чужим опытом, считал он, это не учеба только для дураков. Благодаря немецким специалистам, мы постигали важное правило – нужно дорожить своей работой. Они с гордостью называли адреса объектов, построенных и двадцать, и тридцать лет назад, и гордились – работают, как часы. Представляя нас своим коллегам, обязательно подчеркивали, что мы работаем на построенном «КруппПВХ» комплексе.
Разумеется, когда доходило до интересов «Крупп-ПВХ», гостеприимные немецкие друзья стояли, как скала. К слову, это тоже были уроки переговорного мастерства. Как-то в Мюнхене мы вели переговоры по поставкам судопогрузчика для 19-го и 20-го причалов. Юрген Штойер, коммерческий директор по Восточной Европе в части инженерного обеспечения, поставок и монтажа оборудования, доводил нас своей неуступчивостью до изнемождения. Мы звонили Алексею Михайловичу, жаловались – нет сил и терпения. «Ребята, у кого больше денег: у нас или у «Круппа»?» Мы уныло соглашались, что у «Круппа». «Значит, у нас должно быть больше терпения».
Пройдет много лет, ТИС уже будет прочно стоять на ногах, но мы все так же будем встречаться с крупповскими инженерами, по большей части уже пенсионерами, и они будут так же живо интересоваться «своим» комплексом. Как-то один из них, Зигфрид Гресс, подарил нам потрясающий документ – страничку из стенографического отчета о совещании в Минморфлоте СССР, на котором принималось решение о строительстве комплекса «Лиман» в акватории Аджалыкского лимана. Дата – 1981 год.
В упоминавшихся переговорах в Мюнхене ТИС уже представлял новый генеральный директор – Андрей Ставницер. Алексей Михайлович понемногу отходил от дел, передавая механизм правления в молодые руки. Немцы присматривались к новому генеральному, видно было – им интересно наше новое поколение, с которым придется иметь дело и новому поколению крупповского менеджмента. Прощаясь, они подарили Андрею игрушечный вертолетик. Он вспархивал с ладони, держался недолго в воздухе и плавно садился. Мы потешили публику в аэропорту, соревнуясь, с чьей руки вертолетик взлетит выше, и так не пришли к единогласному мнению – подарок был с намеком, что называется, «со значением» или просто симпатичный сувенир симпатичному человеку.
Я не знаю другого такого примера портового строительства, какой показал ТИС за полтора десятка лет. В сущности, мы стали портом без формального статуса.
Который, кстати, нам не сильно и нужен. Но это обстоятельство, видимо, весьма беспокоило руководство порта Южный в конце десятых годов. В их болезненном воображении такая стремительность развития могла значить только одно – стремление «захватить» сам порт, поскольку развитие этого государственного предприятия шло медленнее, а каждый новый объект, сопоставимый с нашими, стоил чуть не в два раза дороже. История информационной войны того времени, развязанная руководством Южного, еще требует написания и осмысления. Я же вспомнил ее по одной причине. Дотошные журналисты, сопоставляя наши и портовские темпы роста перевалки грузов, привели интересный пример – начальник порта оборудовал свой кабинет дорогим мебельным гарнитуром. Мы по этому поводу сильно веселились, так как кабинет Алексея Михайловича был… ну, не то чтобы вовсе без мебели, но уж точно без гарнитура. Обычный стол для заседаний, за которым всегда и работал отец-основатель, карта на стене, доска с примагниченными схемами, пара шкафов с книжками, занимательным железом, вроде старых замков, альпинистских крючьев или узлов механизмов, бронза работы старшего брата Виктора. Алексей Михайлович был абсолютно равнодушен ко всяким кабинетным наворотам вроде телефонных станций, переговорных устройств и прочего. Он и услугами секретаря пользовался только в тех случаях, когда сам не знал, как звонить. Того священного трепета, который бывает во всех приемных, когда начальник занят, не принимает, просит не беспокоить и так далее, не было и в помине. Скажу больше, случалось, что, когда новому сотруднику не находилось места, Алексей Михайлович брал на пересидку в свой кабинет. Видимо, это наложило свой отпечаток на некую тисовскую «коммунальность» – руководители больших служб сидят в кабинетах вместе с сотрудниками.
Я не раз сам себе задавал вопросы: где наш предел в строительстве? Есть ли некий проект развития? Иногда напрашивалось сравнение, что, как в старых американских фильмах про Дикий Запад, мы несемся на скакуне во весь опор до сигнального выстрела, чтобы застолбить за собой землю. Только межевой флаг нам давно был поставлен государством. Мы же спешили территорию застроить. К причалу прибавлялся причал, к терминалу – терминал, к складу – склад. Вся прибыль вкладывалась в развитие, и теперь, задним числом, кажется, что Алексей Михайлович спешил все застроить в недобром предчувствии приближающейся болезни. Конечно же, при таких темпах строительства развитие инфраструктуры отставало. Но это техническая задача, ее может сделать кто угодно. То, что делал он, мог сделать только он. Иногда это порождало проблемы, для решения которых у государства не было ни законодательной базы, ни опыта, ни желания этот опыт иметь.