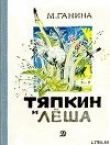Текст книги "Алексей Ставницер. Начало. Восхождение. Вершина (СИ)"
Автор книги: Александр Чебручан
Соавторы: Валерий Албул,Александра Старицкая,Александр Токменинов,Хобарт Эрл,Виктор Ставницер,Вадим Сполански,Игорь Шаврук,Владимир Мамчич,Абрам Мозесон,Михаил Ситник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Во время стройки на 16-м причале, а она была в разгаре и приближалась к экватору, он совершенно неожиданно предложил перепрофилировать терминал на зерновой. Технически это было несложно. Поэтому строили мы под химические грузы, но имея замысел изменить назначение. Это решение было определено интуицией, пониманием макроэкономики, но, помимо всего прочего, и решало дальнейшую судьбу ТИСа – мы уходили от узкой специализации. В дальнейшем мы будем развиваться уже не как терминал или комплекс, а как Земля терминалов.
Уменьшать грузопоток минудобрений, между тем, мы тоже не собирались, поэтому рядом с действующим химическим складом начали сооружать новый. Мы поняли давно, что склады – наша фишка, именно это привлекало наших клиентов. Они отправляли удобрения партиями, не заботясь, когда придет судно. Не скажу, что клиентская база складывалась легко и просто. Тут технические возможности – одно, а доверие к партнеру – совсем другое. Нас никто на рынке не знал, владельцы грузов должны были убедиться в нашей надежности и порядочности, что груз не будет испорчен, вовремя уйдет по адресу.
Я сейчас ловлю себя на том, что, рассказывая об Алексее Михайловиче в «картинках ТИСа», вроде как открываю матрешку. Снял половинку фигуры, а там дальше новая. Но иначе и не получится. История развития мощностей непременно предполагает рассказ о строительстве авторитета, действующих лицах в предлагаемых обстоятельствах, о репутации компании.
В конце 99-го на Одесском морском вокзале была выставка, организованная журналом «Судоходство», само собой, посвященная морским перевозкам. Мы в ней участвовали, едва ли не впервые показывая себя людям. Своими силами сделали документальный фильм, его снимал Сергей Карпов, покружив на пределе потери сознания от боязни высоты на дельтаплане над лиманом, чтобы показать наши возможности и перспективы с высоты. Главным образом, организующей весь материал деталью в этой ленте был одинокий и беззащитный цветок на потрескавшейся от жажды земле. Кино наше крутилось непрерывно, цветочек привлекал. Возле него подолгу задерживались посетители, узнавая, что есть такой терминал – ТИС. Наскоро сделанный буклетик брали скорее на всякий случай, чем из возникшего интереса. Обсуждая участие в выставке, Алексей Михайлович скажет, что, если мы не расскажем все хорошее о себе сами, другие о наших достоинствах промолчат, а недостатки и минусы поведают всему миру недруги. Так родилась идея «Одесского коллоквиума» – ежегодного собрания-встречи производителей, трейдеров и перегружателей минеральных удобрений.
Мы не были компанией с пухлым кошельком, но Алексей Михайлович знал, где нет смысла экономить. Мы размещали гостей за свой счет в гостинице, конференцию с докладами и непременным изданием материалов проводили на катамаране «Хаджибей», на пути от Одессы до ТИСа. Гостям преподносили терминал действующий и будущий – тем более, что стройка грохотала, сведущим людям это говорило многое. Личное общение растапливало ледок отчуждения и недоверия, к нам появлялось не только любопытство, но и интерес.
Мы не предусматривали в «ОК» это обстоятельство, но как раз в коллоквиумских встречах вроде невзначай, между прочим коллеги возвращали нас к конфликту с «Норск-Гидро», расспрашивали, слушали, взвешивали. И здесь, на терминале, как у рельефной карты местности, мы показывали, что мы отстаивали, против чего выступали. Работающий терминал был лучшим доказательством нашей правоты. Думаю, «Одесский коллоквиум» сыграл свою роль в становлении нашего грузопотока. Потом у нас была попытка делать такие встречи вскладчину, все же для молодой компании такое мероприятие было накладным. Но кто же знает, когда мы начнем объединяться?
Не удалось нам также создать с участием ТИСа какую-то конфедерацию по продаже удобрений на внутреннем рынке, хотя вроде все складывалось благополучно. Мы закупили технику для фасовки удобрений, потратили уйму времени на организацию процесса, но не пошло. К сожалению? К счастью? Не знаю. Рынок не только непрогнозируем, но часто и мистически непредсказуем. Алексей Михайлович понял это раньше многих из нас и успокоил расстроенных – не потеряли свое, и слава Богу. Так у нас в свое время не пошла сельскохозяйственная программа – было намерение закупить почвообрабатывающую и зерноуборочную технику, село остро нуждалось в услугах, которые некогда оказывали МТС. Казалось, что условия для возрождения таких станций идеальные. А не пошло – и все.
Алексей Михайлович умел воспринимать такие неудачи философически и, что особо показательно, без поиска виноватых.
Он знал цену учебы на чужих и на своих ошибках, но также знал, что, если сотрудника, как котенка, регулярно тыкать носом в ошибки, инициативности в работе поубавится.
Конечно же, мы понимали, что новому конкуренту на зерновом рынке аплодировать не будут. Но истерия, возникшая после пуска терминала, превзошла не только ожидания, но и разумные пределы. Меня, честно говоря, не удивило поведение одесских железнодорожников. Их начальник был, если помягче, нашим «классовым врагом». Частное предпринимательство дразнило его, как индюка красная тряпка. Но вот чтобы государственные структуры, понимающие необходимость развития экспортных зерновых мощностей, встали на дыбы – это была реакция неожиданная. Из чего следовало, что мы избрали правильное направление, составляем конкуренцию для близких сердцу чиновников компаний. Таким образом, по мнению Алексея Михайловича, нужно было организовать такой грузопоток, на который у чиновников бы рот не открылся. И похоже, такая перспектива намечалась – благодаря Алексею Михайловичу Федорычеву. Он намеревался доставлять на ТИС баржами зерно из российского Усть-Донца. А чтобы они не создавали помех возле зернового причала, мы решили реконструировать специально для отстоя речных барж с зерном и судов 15-й причал. Для укрепления тела причала и были использованы те самые железнодорожные платформы, на которых к нам поступал сульфат аммония и которые зря теперь занимали место на путях.
По какой причине – не знаю, но баржевая зерновая программа Федорычева не пошла. Но аппетит уже разгорелся, и мы решили увеличить зерновой поток, организовав прием автотранспорта. Для торговцев зерном это был выход – с тока, если вообще не из поля, хлеб шел к нам, минуя складирование, без затрат на хранение и обработку. При остром дефиците внутриземельных элеваторов это был выход. Опускаю, что творили на дорогах гаишники, присвоив себе все права карантинных служб – на то они и гаишники. Большой проблемой было создать такие условия для автопоездов, чтобы они не стояли подолгу в очереди. Для этого нужна была совершенно иная технология с контрольными замерами на сортность и влажность, с взвешиванием – сельские «мудрецы» норовили то залить запасные баки под горючее водой, то подсыпать камней в зерно, но скоро убедились – на их хитрости есть наша смекалка. И главное – нужно было создать технологию быстрой выгрузки. Не скажу, что мы все задачи решили, но около 700 автопоездов в сутки все принимаем.
15-й причал был рассчитан и построен своими силами. Опыт тем более ценный, что начиналась новая страница ТИСа – причального строительства. Без всякого преувеличения – она была и еще надолго останется самой яркой в морской истории Украины. Все вместе украинские порты не построили столько причалов, как ТИС. Причем, мы строили их с глубинами для океанских кораблей – до 15–17 метров осадки. Это значит, что у наших терминалов «панамаксы» и контейнеровозы могут грузиться по ватерлинию, тогда как в других портах их традиционно догружают на рейде.
У каждого из пяти новых причалов по-своему интересные и разные биографии. Общее – что их крестным отцом и повивальной бабкой одновременно был Алексей Михайлович. У него была замечательная черта – он не знал таких слов, как нельзя, невозможно, безвыходная ситуация и прочая. Он говорил – думайте. Думайте и предлагайте решение.
Думать надо было быстро. Как инженер, я могу утверждать, что у нынешнего ТИСа есть запас прочности как минимум лет на 50–70. Это немало, если учитывать стремительное развитие и портовой механизации, и технологий морских перевозок. Как и десять тысяч лет назад, водные пути еще долго будут оставаться самыми экономичными и скоростными. Но помимо физической прочности и технической надежности, Алексей Михайлович заложил при создании ТИСа еще один параметр, который является важнейшим для успеха. Это – публичность. Ее синоним – открытость для всех участников рынка. Поясню важность этого обстоятельства на примере.
Все участники общества входили в него через инвестиционные программы. Возможно, повторю это еще раз, заглавную роль среди них сыграл Алексей Михайлович Федорычев. Но при этом у него нет никаких приоритетов по отправке грузов от причалов ТИСа. Если есть очередь, к примеру, на отправку минеральных удобрений, он будет стоять в этой очереди наравне со всеми. Это сто раз обсуждено, проговорено и предусмотрено во всех договорах. Мы никого не щемим на рынке, следовательно, не создаем кому-либо конкурентных преимуществ перед партнерами.
К нашему принципу публичности у многих коллег был известный скепсис. «То есть вы хотите сказать, что бизнесмен вложился в строительство, к примеру, угольного терминала и не имеет права первоочередной отправки угля? И без скидки для себя?» – уточняли они. Мы подтверждали. И знали, каким будет следующий вопрос – зачем тогда инвестировать. И ответ у нас был готов – чтобы и сформировать полную собственную транспортную цепь, и зарабатывать на перевалке грузов. Мы, как терминал, в отличие от наших клиентов, производим не товары, а услуги. Чем больше ТИС заработает на перевалке, тем выгоднее инвестору, вложившему деньги в предприятие.
Традиция льгот, скидок и привилегий, намертво укоренившаяся в государственных портах, есть отрыжкой совковых, если не сказать барских принципов. Хочу – казню, хочу – милую. Для Алексея Михайловича, люто ненавидевшего совковость во всех проявлениях, публичность ТИСа была еще нравственным правилом, а скидки он рассматривал исключительно как инструмент привлечения интересных грузопотоков. Он признавал свободу как абсолютную ценность.
Его идея публичности в работе органично сочеталась с естественным, от нутра идущим демократизмом в одежде, в общении, в стиле руководства. Казалось бы, такое большое и сложное предприятие, как ТИС, требует жесткой руки, беспрекословного подчинения, что, если без обиняков, называется авторитаризмом. Именно так управляется большинство компаний, и наши коллеги из таких компаний с немалым удивлением наблюдали за нашими взаимоотношениями с Алексеем Михайловичем. Они никогда не были панибратскими, дисциплина, дистанция даже и четкое выполнение его поручений были нерушимой нормой. И вместе с тем между нами и Алексеем Михайловичем не было, условно говоря, даже тончайшей перегородки. Он был всегда наш и с нами. Если кто-то, вольно или невольно, нарушал эти общечеловеческие принципы равенства в отношениях, он удивленно поднимал брови – ни распеканий, ни выволочки, ни предупреждений. Он удивлялся, что это сделал человек, в которого он поверил. И лучше было бы впредь подобной оплошности не допускать. Алексей Михайлович чрезвычайно ценил профессионализм работников, деловую хватку. Но эти качества для него ничего не стоили, если в них не было нравственной основы. Дело давнее и призабытое, но однажды он так поднял брови, глядя и на меня.

Виктор, водитель моего служебного автомобиля, по каким-то семейным причинам ушел из дому. Со съемными квартирами тогда было непросто, и он несколько ночей ночевал в шоферской комнате. Я об этом знал, но постеснялся беспокоить Алексея Михайловича, чтобы его определили в гостиницу, где мы арендовали несколько номеров на случай неожиданных гостей. Но как-то вечером Алексей Михайлович увидел Виктора в шоферской и поинтересовался, почему тот так поздно на работе. Выслушал. Сказал – это не дело. И велел утром зайти к нему и взять направление в гостиницу. Но как раз утром ситуация разрешилась, необходимость в гостинице отпала. Водитель мне об этом сказал, а беспокоить по мелочам Алексея Михайловича постеснялся. Это он так считал – по мелочам. В отличие от Алексея Михайловича, который не забыл спросить у меня, как это получилось, что водитель – без крова.
У нас в рабочем кабинете стоит портрет Алексея Михайловича последних месяцев его жизни. Иногда, глядя на него, я ловлю себя на мысли, что он лишь отчасти напоминает того молодого, ладного и крепко сбитого мужчину, который появился на терминале в Бог знает каком далеком девяносто третьем. Впрочем, себя на снимках тех лет я тоже узнаю с изумлением. В окне все того же горчичного цвета крыша склада, но я знаю, что в обе стороны от административного здания не пустынное пространство, а мощное, не знающее ни минуты покоя производство. Его можно оценивать по-разному. Например, создать какой-то энергетический эквивалент, потом вычесть его из портрета Алексея Михайловича и получить изображение молодого энергичного мужчины, идущего по краю лимана, по земле, которая безвидна и пуста, которая могла такой и остаться, а превратилась в землю терминалов – Землю Alta.

Хобарт Эрл

Мы познакомились c Алексеем у доктора Авербуха. Леонид Григорьевич был активным членом Клуба друзей симфонического оркестра, накануне мы вместе летали в Вену на благотворительный концерт в пользу ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Встреча была случайностью. К счастью, оба мы заглянули к Леониду Григорьевичу не по причине болезни.
Год по календарю был 93-й, который у многих справедливо ассоциировался с одноименным романом Гюго, симфонический оркестр Одесской филармонии, в котором я служил главным дирижером, в действительность 93-го не вписывался. Мы выживали, как могли и как умели. Спасательным кругом для нас был Клуб друзей оркестра. Я пытался создать его по образу западных клубов. Клуб должен был объединить не политиков, не чиновников, а именно друзей. Он должен был создавать вокруг оркестра социальную среду, привлекательную атмосферу. Взносы или даже помощь я считал делом второстепенным, важно, чтобы Одесса почувствовала, поняла нужность оркестра. К слову, взносы были весьма умеренные, и мы их расходовали в основном на билеты для членов Клуба на наши концерты да на ежемесячные собрания с ужином в Лондонской или Красной.
Алексей наши выступления пропускал редко. Что он в прошлом музыкант, я не знал, да и вообще о нем знал мало, предприниматель как предприниматель. Не помню уж кто, кажется, что все тот же Л. Авербух сказал мне, что Алексей знаком с Эдуардом Гурвицем, которого только-только избрали мэром. Гурвиц в то время активно развивал побратимские связи Одессы, и я подумал, что филармонический оркестр мог бы способствовать этому, так как мы часто гастролировали, и на наших концертах, как правило, бывали высокопоставленные чиновники. Я зашел к Алексею в офис его предприятия, оно называлось «Эверест», занимавший подвал на Екатерининской. Прямо скажем, особой респектабельностью подвал не отличался. Он договорился о моей встрече с мэром, но и сам поинтересовался нашими планами. Мы собирались в очередной раз на гастроли в Австралию, в губернский город Перт на крайнем западе острова. Край этот чрезвычайно богат, он отрезан от обжитого востока островного государства двумя пустынями и немалым расстоянием. Перт роднит с Одессой то, что его жители тоже считают себя не первым городом в стране, но и не вторым.
Гурвиц как-то скептически отнесся к установлению дружеских связей с Пертом. Он считал, что Одесса достойна побратимства только со столицами.
Наши отношения с Пертом развивались независимо от этой идеи. Мы гастролировали на площадке, где в разное время гостили Лондонский и Будапештский, Чикагский и Израильский симфонические оркестры, Берлинская филармония. В тот раз, когда одесский мэр с кислой миной отверг наше предложение, нас принимали особо хорошо. Мы были в городе первым оркестром из Украины, «Весну священную» Стравинского наградили особо теплым приемом. Местное правительство с интересом расспрашивало нас о нашей стране, об Одессе. Я потом рассказывал об этом Алексею, и он только развел руками…
Вот с этой «неудачи» с несостоявшимся побратимством Одессы и Перта и началось наше сближение. Меня впечатлило, что Алексей очень интересовался современной музыкой. И когда мы в опере играли Мирослава Скорика – диптих для струнных с джазовыми интонациями, – я убедился, что это не обычный слушатель, а человек, глубоко чувствующий музыку. Считается, что в современной музыке мало кто разбирается. Мы с Алексеем оказались единомышленниками в том, что в ней разбираться и не надо – нужно просто слушать. Современная музыка – часть большого мира музыки, она всегда кому-то нравилась, кому-то – нет. Это нормально. Что хорошо и талантливо, мир музыки примет без оценки зрителей и критиков.
Было время, когда мы с Алексеем встречались довольно часто, всерьез обсуждали проблему благотворительности в Украине. А это действительно проблема, и она не менее значима, чем внедрение новейших технологий. Вся история доказывает, что искусство коллективное, исполнительское всегда зависело от благотворительности. И Алексей подсказал мне верное направление для поддержки оркестра – создание Благотворительного фонда. Мы зарегистрировали его августе 1995-го в Америке, и я думаю, что без него судьба нашего оркестра была бы плачевной, мы вряд ли выдержали бы испытания нуждой до часа, когда получили звание Национального.
Из тех встреч с Алексеем мне особо запомнилась одна, совершенно не имеющая отношения ни к бизнесу, ни к музыке. Мы собирались на какой-то спектакль в театр Водяного, приехали туда заранее, и дети затеяли играть в футбол на площадке перед театром. Мой младший, Павлик, играл против Алексея Михайловича, хлопец он тренированный и азартный и никак не считался с возрастом партнера. Я все порывался ему намекнуть, чтобы он не особо усердствовал, но игра потихоньку выровнялась, казалось, что Алексей вспомнил давнее умение владеть мячом и гонял не менее азартно, чем ребята.
Но в игре и в поведении Алексея проглянулась ранее не видимая мною черта – его какое-то трепетное, ласковое отношение к детям.
Согласитесь, что футбол – игра гладиаторская, там места нежности нет. И тем не менее, он с ними играл, как играют львы с детенышами.
Получить статус благотворительного фонда в США весьма непросто, нужно собрать гору документов, создать обширный устав и пр. То есть провести огромную юридическую работу. Алексей поручил выполнить ее юристам ТИСа, предоставил для Фонда свой адрес и стал одним из пяти его учредителей. Я не скажу, что круг благотворителей широк, это около 25 предприятий, возможности которых меняются в зависимости от политической погоды, что не характерно для Старого и Нового света.
Однажды я рассказал Алексею, что такое благотворительность по-американски. В США, как известно, аристократии никогда не было. В отличие от Европы и России, где аристократия была матерью искусств. Кто был бы Вагнер без короля Людвига ІІ или Гайдн без Эстерхази? В Америке создавалась иная традиция. Она старше, чем само государство. Мой университет в Принстоне создал накопительный фонд для поддержки искусств в 1760 году. Поступающие в него средства не тратят, как это делаем мы. Эти деньги пускают в оборот, вкладывают в привлекательные проекты и таким образом зарабатывают деньги для благотворительности. Тратится только прибыль. Таких накопительных фондов множество. В них аккумулируются огромные средства. К примеру, в Нью-Йоркской филармонии на счету около 15 миллионов, в университетах Бостона и Гарварда в пять-десять раз больше. Можно содержать хоть сто оркестров, если они этого стоят. Каждый выпускник университета, став на ноги, считает долгом чести внести хоть какую-то сумму в фонд своей альма-матер. Считается неприличным не внести пожертвование, хотя, разумеется, никто этот процесс не отслеживает.
Алексей меня внимательно слушал. Он, к слову сказать, вообще был очень хорошим слушателем.
– Есть ли у тебя друзья, единомышленники или соратники, которые могли бы запустить этот процесс в Украине? – спросил я.
– У меня таких друзей и соратников нет, – ответил он без раздумий.
«У нас в стране не смоделирована, не востребована обществом нравственная потребность помощи другому человеку. У нас людей, готовых к пожертвованию, так мало, что это еще хуже, чем бы их не было вообще».
Эти слова меня поразили. Я долго размышлял: почему хуже, чем бы вообще не было? Хуже потому, что общество знает и понимает необходимость благотворительности, помощи нуждающемуся, оно видит такие примеры – и ничего. Это свидетельство нравственного нездоровья, порожденного социальными катаклизмами ХХ века, прерванностью традиции, отрицанием христианских ценностей. Алексей был из тех, кто пытается восстановить связь времен. Я высоко оценил его приглашение дать концерт симфонической музыки в селе, которое он добровольно взялся вытаскивать из совкового средневековья. Казалось бы, зачем Визирке наше музицирование, селянам бы – паек с гречкой и куском сала, дорогу отремонтировать или освещение поправить. Но он понимал, что традиция начинается с духовного возрождения, что кристалл не образуется, если не создать насыщенный раствор.
Концерт был приурочен к открытию новой школы, построенной и оборудованной ТИСом на уровне требований информационного века – с компьютерными классами, с интернетом, современной мебелью и какими-то особыми школьными досками. Алексей этой школе-обновке радовался так, будто это ему предстояло там учиться. И мне почему-то вспомнилась давняя игра в мяч перед театром музкомедии, и я понял, в чем было ее обаяние – в любви Алексея к детям. Это качество – из редких…
Анатолий Римко

После духовной академии моя священническая жизнь была наполнена печалью и страданиями – я получил послушание в храм Святителя Димитрия Ростовского, который расположен на Втором Христианском кладбище. Туда с радостью не приходят. И миссия священника не ограничивается отпеванием и проповедью, еще нужно и найти слова утешения для родных и близких ушедшего от нас, тем более, если смерть настигала человека прежде времени. А годы были – «лихие девяностые». Только, по моему разумению, лихости в них было на грош, а лиха – через край.
Тем ценнее и интереснее для меня были рассказы матушки о своей работе. Елена, получив образование на романо-германском факультете, работала в туристическом агентстве. Там она познакомилась, а потом и подружилась с Аллой Виссарионовной. Хотя в слове дружба здесь и нет традиционного смысла. Это скорее были теплые, духовные отношения старшей, мудрой женщины и матери и молодой девушки. Вот от своей Елены я и услышал об Алексее Михайловиче. Ни его фамилия, ни созданная им компания «Эверест» мне ни о чем не говорили. Личное знакомство состоялось несколько позже.
Существует некий стереотип интереса светского человека к человеку нашего, духовного сословия. Он проявляется в стандартных вопросах, преимущественно поверхностных, реже – в стремлении постичь богословские истины. Алексей Михайлович, казалось, пропустил мимо ушей, и кто я есть, и где несу послушание. Мы с Еленой были для него и Аллы Виссарионовны, прежде всего, молодой, только вступившей в жизнь семьей. В их стремлении помочь нам, что всегда проявлялось тонко и естественно, было знание и понимание – на личном опыте – тех проблем, которые испытывает каждая молодая семья. Время от времени Алексей Михайлович позванивал мне, предлагая посидеть за чашкой чая, приглашал нас с матушкой к себе домой. Алексей Михайлович рассказывал мне о нравах и проблемах в мире бизнеса. Сознаюсь, что я не совсем понимал, зачем Алексей Михайлович так откровенно рассказывает мне о своем мире. Почему не пытается заглянуть в наш, достаточно закрытый мир церковной жизни? И только позже понял – он хотел, чтобы я раскрыл его сам, потому что он по-настоящему интересовался и религией, и духовными практиками церкви.
Когда мы сблизимся больше, я стану видеть Алексея Михайловича на своих проповедях. Увы, случались неизбежные встречи в храме и по более печальным поводам. Я видел, как тяжело переживает Алексей Михайлович до срока оборвавшиеся жизни своих товарищей, а в девяностые эти трагедии шли чередой. Но не только переживает. Он всегда был участлив к родным и близким погибших и не только в день похорон. Год за годом он материально помогал женам, детям и матерям своих ушедших друзей, опекал их, не жалея душевного тепла.
Религия всегда и везде присутствует в жизни любого человека. Тем более в жизни человека с тонкой душевной организацией, которая была у Алексея Михайловича. А он прекрасно знал и любил литературу, поэзию, музыку, историю искусств. От него я узнавал о литературных новинках, о новомодных веяниях в исторической науке.
Не скажу, что в духовной семинарии, а потом и в академии, мы зубрили только канонические тексты, но это был тот случай, когда нужно было стараться, чтобы быть на уровне собеседника. Этому способствовал общий интерес к чтению. Через работавший тогда в Литературном музее «Остров сокровищ» мы получали книжные новинки почти со всего постсоветского пространства. Потом Алексей Михайлович, с головой погрузившись в производственные хлопоты, перепоручил заказ книжек мне.
Алексей Михайлович никогда ни разу не заговорил о своем религиозном чувстве. Думаю, оно было, но он его не демонстрировал, в отличие от меня. Как священнику мне полагается совершать такую демонстрацию ежедневно и ежечасно. Но истинность веры, как мы все понимаем, не в демонстрации, а в глубине, в понимании врожденной и присущей каждому человеку религиозности, независимо от конфессиональной принадлежности или даже конфессиональной среды.
Исподволь, через немалое время после знакомства, мы подошли к разговорам, а если точнее – к рассуждениям на всегда всех волнующие темы о душе, о вечности, о Боге. Алексей Михайлович был тонким мастером построения таких диалогов. Он сначала предлагал мне прочитать какой-либо текст, говоря, что ему было бы интересно знать «мнение ортодоксальной церкви и ваше мнение». На что я всегда отвечал, что, если у священника его мнение не совпадает с мнением его церкви, то он должен «уйти на покой». «Хорошо, тогда меня интересовало бы ваше частное богословское мнение, – парировал он. – Будем считать это обсуждением проблемы на занятиях в семинарии». Я же действительно, как кандидат богословских наук, параллельно с послушанием в кладбищенском храме Димитрия Ростовского читал лекции в семинарии, Алексей Михайлович по этой причине величал меня профессором.
Как-то он принес мне распечатку статьи академика Бориса Раушенбаха «О логике троичности». Я мало что понимал в математическом моделировании полетов космических аппаратов в межзвездном пространстве. Но знал, что патриарх Алексий ІІ восхищался «неутомимой работой пытливого ума» академика и высоко ценил его религиозную философию. Само собой, что книга Б. Раушенбаха «Пристрастия», посвященная проблемам науки и проблемам религии, была культовой в священнической среде. Но вот статья о логике троичности – о единстве Святой Троицы – была мне незнакома.
Я был поражен, как просто и ясно академик Раушенбах изложил сложнейшую богословскую проблему. Мы провели с Алексеем Михайловичем не одну встречу, беседуя об этом выдающемся труде, который будоражил умы богословов того времени. Один из авторитетнейших теологов Церкви назвал ее «математическим доказательством троичности бытия Божия» – оценка, на мой взгляд, точная и объективная.
В наших беседах с Алексеем Михайловичем открывалось его знание и понимание философии Флоренского, Трубецкого, Булгакова – работ до недавнего времени запретных более, чем крамольный Солженицын. И поэтому логичными были последующие наши дискуссии о душе, Боге и вечности. Вообще, душа – это наиболее устойчивое представление, кроме самого Бога, во всех религиозно-философских учениях. Все религии сходятся на том, что она бессмертна. Как-то я заметил, что, пожалуй, наиболее ясно постулат о бессмертии души изложен именно в православном учении. Алексей Михайлович посмотрел не меня с улыбкой: «Ой ли?»
Каждого мыслящего человека не может не занимать проблема бессмертия души особенно сейчас, когда временность и хрупкость материального мира стала столь очевидной. Мы много говорили, в частности, и о том, что религиозность есть движущей силой нравственности любого этноса, и, естественно, о религиозном отступлении народов бывшего Союза в коммунистическую эпоху. Алексей Михайлович размышлял об острой необходимости возобновления религиозных институтов, религиозного сознания людей. И не только размышлял – много делал для этого. Тут можно было бы привести в пример его заботу о создании мемориала на месте разрушенного храма Александра Невского в Визирке и об отреставрированной за свой счет новой церкви в этом селе. Но есть много примеров иных: как Алексей Михайлович помогал и священникам всех без исключения конфессий, которые нуждались в помощи, и многим храмам, демонстрируя главное в понимании сути всех религий – Бог един.
По Воле Божией и благословению Владыки мне выпало тяжелое и почетное послушание – строить новый храм на Северном кладбище. Алексей Михайлович не просто оказал мне моральную поддержку. Он помогал всем: материалами, рабочей силой, инженерным обеспечением. К моим строительным хлопотам прибавлялись и чисто житейские, священник и его семья живут не только молитвами, но и хлебом насущным. И материальная помощь Алексея Михайловича была практически единственным источником, поддерживавшим нашу семью.
Храм на Северном был нами открыт в сжатые сроки. В молебнах по поводу освящения храма мы благодарили Бога и Алексея Михайловича с товарищами, оказавшим покровительство строительству.
Не премину упомянуть и еще об одном цикле наших бесед – об эсхатологии. По обыкновению Алексей Михайлович принес книжечку раввина, служащего в одной из синагог Иерусалима. Она поразила меня честностью. Иудейский священник, ребе Иоахим, говорил о том, что иудеи как библейский народ должны определиться в своих оценках Мессии и что необходим межконфессиональный диалог как единственный путь к взаимопониманию между людьми разных исповеданий. Это не только проблема иудаизма, это узловой вопрос мировой истории. Помимо того, что в православии вроде такой проблемы и нет, есть острые грани в оценках ее. В самых мягких оценках тот, кто не признает Иисуса мессией, «не прав», а если жестче, то он «царство Божие не наследует».