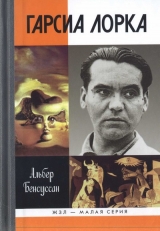
Текст книги "Гарсиа Лорка"
Автор книги: Альбер Бенсуссан
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
ЖЕНЩИНА-ЗАТВОРНИЦА
Вы всегда найдете во мне всё ту же горячую любовь к театру… Я не пустой мечтатель.
Федерико Гарсиа Лорка
В поздней драматургии Лорка коснулся последним своим гениальным мазком судьбы испанских женщин, обреченных на жизнь в домашнем заточении. Он создает пьесу, в которой нет мужчины (его отсутствующий образ здесь всё же есть – только фантастически переосмысленный); это сугубо женский мир, и все женские образы собраны вокруг главной женщины – Бернарды Альбы. Эта пьеса называется просто – «Дом Бернарды Альбы», и это символическое название сразу напоминает о другой пьесе – самой «феминистской» в истории современного европейского театра – «Кукольный дом» Ибсена: она обошла все испанские сцены во время итальянских турне Новелли в конце XIX века (впрочем, успех имела весьма скромный). Через три десятка лет Лорка оценил находки тогдашнего авангарда и, конечно, театра Ибсена и Метерлинка: их следы легко обнаруживаются в его творчестве. Но если Ибсен описывает бунт женщины, которая не согласна более быть куклой, расчетливо выставленной в витрине, – Лорка разрабатывает целую теорию о женщине, которая, будучи жертвой общественных законов и социальных установок типа «что о нас скажут», ведет затворническую жизнь – в полном соответствии со старинной испанской поговоркой: «Сломайте женщине ногу – и пусть она сидит дома».
Эта пьеса будет представлена на сцене 8 марта 1945 года, то есть через девять лет после его смерти, в Буэнос-Айресе, в Аргентине, где находилась в эмиграции его любимая актриса Маргарита Ксиргу.
Действие в ней происходит «при закрытых дверях», в четырех стенах: в первом акте это некое абстрактное белое помещение; во втором акте – белая комната внутри дома, в третьем акте – белые стены патио.
Итак, дом Бернарды Альбы в трауре: умер отец семейства, и весь первый акт пронизан стенаниями и плачем. Две сотни женщин проходят здесь траурной чередой – так указано в ремарке. Словно вся Андалузия «в полном составе» погрузилась в траур. Мать и ее пять дочерей – все с черными веерами. Это какой-то «вселенский» траур, да и длиться он должен чуть ли не целую вечность: в течение восьми лет дом будет закрыт для посторонних, окна и двери наглухо закрыты. «Воздух с улицы не проникнет в этот дом», – клянется верная вдова Бернарда. И дом становится саркофагом, тем более удушливым, что на дворе стоит лето, а дело происходит в жаркой Андалузии, и все жаждут воды и прохлады.
В сознании этой женщины, ограниченном и ущербном, любой мужчина предстает сущей анафемой для молодой девушки – если она хочет жить достойно, то есть «соблюдать приличия». Бернарда с устрашающей жесткостью обозначает эту свою позицию, хотя драматург, как отличный кукловод, умеет и здесь найти ниточку юмора и вовремя потянуть за нее:
«Бернарда: – В церкви женщина не должна смотреть ни на одного мужчину, кроме церковнослужителя, и то потому, что он носит юбку. Один поворот головы – и вот вы уже ощущаете тепло самца».
Впрочем, один мужчина здесь всё же присутствует, тайно, но настоятельно. Все дочери Бернарды любят его: Мартирио влюблена явно, Адела – его тайная любовница, а старшая сводная сестра Ангустиас – его невеста, потому что получила наследство от своего отца и являет собой достойную партию. К драме заточения и обездоленности добавляется жестокая ревность между сестрами, а накал страстей в этом доме усугубляется страшной духотой. Даже жеребец, которого должны отвести к кобылам на случку и который весь горит нетерпением, ошалело бьет всеми четырьмя копытами в стену дома. Желание, неотступное, властное, неистовое, всё опрокидывает на своем пути. Оно и дает Аделе силу взбунтоваться и обвинить мать в тирании: она ломает ее трость и признаётся во всеуслышание в своей любви к Хосе эль Романо. Адела – символ свободной женщины, способной на бунт. В противоположность Йерме или Росите, она заявляет: «Я не хочу жить взаперти. Я не хочу засохнуть, как все вы». Уже в первом акте раздается ее крик: «Я хочу выйти отсюда!» Она живо ощущает властный зов пола, она – сама страсть и огонь, это тот огонь, который сжигал и античную Федру: «Да я перешагну через свою мать, чтобы только утолить этот огонь, который загорается во мне, в моих ногах, в моем рту». Эти женщины-бунтарки – разве можно удержать их, томить их в плену? И не звучит ли здесь страстный голос самого Лорки?
В последней сцене драмы, когда Хосе (он так и не появится на сцене) бродит за стенами их дома, Бернарда хватает ружье и стреляет в него; она промахнулась, но Адела, думая, что он убит, убежала в свою комнату и повесилась. Впрочем, смерть юной дочери для Бернарды не главное. Важно другое: опорочит ли это событие честь семьи, когда все узнают о нем? Нет, так как это «всего лишь» случайная смерть. Главное здесь – драма чести, и мать просто-таки одержима страхом перед тем, «что скажут люди». Бернарда придумывает «официальную версию» – ее дочь умерла девственной, невинной жертвой, и требует от всех домочадцев молчания. Знаменательно то, что первое слово, произнесенное Бернардой в пьесе, и ее последнее слово – «молчать!». Первая ее реплика – и последняя, когда падает занавес. В Испании, одержимой понятием чести, и в этом селе, одержимом понятием «что скажут люди», это слово – сакраментально:
«Бернарда: – Я не терплю слез. Смерти нужно смотреть в лицо. Молчать! (Другой дочери.) Я сказала молчать! (Еще одной.) Можешь плакать, но только когда ты одна! Мы все погружаемся в траур. Адела, самая юная из дочерей Бернарды Альбы, умерла девственной. Вы слышали? Я приказываю молчать. Молчать!»
Таково ее последнее слово. Так и представляешь себе зрительный зал, подавленно молчащий после трех актов драматического напряжения и бури страстей. Сам Федерико, заканчивая пьесу 19 июня 1936 года, заплакал. Мы не можем не сопоставить сегодня это финальное молчание на сцене и в зрительном зале, которое падает на всех, как тяжкие оковы, с мертвой тишиной перед тем залпом расстрельной команды, который поставил точку в жизненной драме поэта всего лишь месяц спустя.
Двадцать четвертого июня 1936 года Федерико, только что дописавший последнюю строчку пьесы, прочел ее в салоне графа и графини Йебес, перед своими друзьями Морла, верными его почитателями, и некоторыми другими. Через три недели он срочно отправится в Гренаду…
РАССТРЕЛЯННЫЙ ПОЭТ
…Смерть, что не оставит даже тени
на трепетанье плоти.
Федерико Гарсиа Лорка
Зачем нужно было ему возвращаться в Гренаду? Мы знаем, что Мадрид в июле 1936 года был уже весь в огне и крови. Федерико жил затворником у себя в доме – в постоянном страхе перед возможным нападением; даже слабый звук взрыва заставлял его прятаться. Он вел себя как затравленный ребенок. Всю свою жизнь он был человеком открытым, публичным, охочим до задушевных разговоров, хорошего общества и дружеского общения – а теперь, лишенный общения и дружбы, он попросту растерялся.
И Федерико решил бежать в Гренаду, к своим: он надеялся рядом с теплым семейным очагом вновь обрести себя. Это решение оказалось роковым. Он еще не знал, а возможно, и знал подспудно – ведь всю свою короткую жизнь он был одержим ею, – что это бег к смерти. Он ошибся лишь городом, когда написал в своих первых стихах: «Кордова дальняя и одинокая… не смерть ли стережет меня с верхушек твоих башен?» На самом деле смерть подстерегала его среди высоких стен Гренады – «самого буржуазного города Испании», как он публично определил его однажды. Страх настигнет его, однако, и здесь, ведь именно тихая «буржуазная» Гренада вскоре полностью погрузится во мрак ужаса.
Федерико прибыл в Гренаду 14 июля 1936 года, за несколько дней до официального начала мятежа генерала Франко. Он, конечно, сразу направился к своим, но новость о его приезде тут же разнесла местная пресса, и все узнали, что знаменитый поэт Гренады вернулся в свои родные места. Вообще-то Федерико не рассчитывал задерживаться здесь надолго – только немного поправить здоровье и дождаться, когда его друг Рапун закончит свой университетский курс: ведь Маргарита Ксиргу уже ждет его в Мексике с большим театральным турне, на афишах которого значится имя Лорки.
Не суждено было Лорке побывать в Мексике, которая, лишь несколько месяцев спустя, приютит стольких испанцев, причислявших себя к республиканцам, – изгнанников, нашедших там убежище. Федерико хотел дождаться, когда его друг Рапун разделается с экзаменами в университете и отправится вместе с ним за океан, но рок судил иначе. Шпионы-фалангисты и франкисты (пока их еще так не называют) буквально наводнили этот запуганный город; они ненавидят автора «Цыганского романсеро» и республиканской «Марианы Пинеды»; они ненавидят создателя «вредоносного» народного театра «Ла Баррака» за то, что он познакомил стольких простых испанцев с историей крестьянского бунта в деревне Фуэнте Овехуна (по пьесе, между прочим, национального классика Лопе де Веги!). Лорка показал им, что они сами могут быть бунтарями, презрев слепое подчинение властям. Враги ненавидят в нем свободную творческую личность – скандальную в глазах католического ханжества, которое вскоре окончательно накинет на Испанию удавку запретов и молчания.
А Федерико словно не отдает себе отчета в том, что творится вокруг него! Он беспечно прогуливается по улицам Гренады, устраивает публичные чтения, в частности своей последней пьесы «Дом Бернарды Альбы» в цыганском квартале Альбайсин, на вилле одного из своих близких друзей…
Но вот наступило 18 июля. Этот день в семейном гнезде всегда отмечался по традиции как день «San Federico», святого покровителя самого поэта и его отца, тоже Федерико. Друзья съехались сюда со всех концов Веги, но в этот летний день всё сразу пошло не так, как раньше: праздник был испорчен известием, что в этот самый день произошел военный мятеж генерала Франко, «запущенный» с Канарских островов, где генерал-путчист стоял со своим гарнизоном, а также из Марокко, где, за то время что Франко состоял в должности генерал-аншефа колониальной армии, он успел подготовить войска к захвату власти. В тот же вечер генерал Кейпо де Льяно возглавил гарнизон в Севилье, самый значительный в Андалузии, и завладел всем испанским эфиром. Правительство в Мадриде – в полной растерянности, премьер-министр Сантьяго Касарес Кирога, не сумев мобилизовать республиканские силы в Андалузии, подал в отставку, и это стало началом конца. Республика пыталась бороться с восставшими «националистами» законными средствами, но здесь сказалась извечная слабость демократии: что может законность против дикой силы, изощренной лжи и ярой ненависти?
В мирном, тихом доме гренадской Веги Федерико начинает вникать в суть происходящего – и снова охвачен тоскливой тревогой. Как и в годы предыдущей диктатуры, когда случаи репрессий имели место прямо у этих самых родных стен, он не хочет выходить из дому, он замыкается в своем страхе. Да, он никогда не занимался политикой, никогда явно не предпочитал один лагерь другому – Сальвадор Дали вообще называл его самым аполитичным человеком в мире, – но он никогда не скрывал своих гуманистических убеждений и знает, что теперь у него появится много политических врагов.
Двадцатого июля гарнизон Гренады тоже сдался путчистам, и шурин Федерико, временный мэр Гренады Мануэль Фернандес Монтесинос, муж его младшей сестры Кончи, был арестован. В верхних кварталах города тщетно воздвигаются баррикады, совершенно смехотворные, и 23 июля город уже полностью в руках мятежников. Чтобы закрепить свою власть, они развязывают террор: «эскадроны смерти», в полном соответствии со своим наименованием, сеют смерть по всей Гренаде.
Вечером 18 июля Федерико, несмотря на страх, отправился в тюрьму навестить шурина (сколько мужества понадобилось ему на этот поступок!) и передать ему кое-какие продукты, но его и близко к ней не подпустили. Он вернулся домой в слезах, исполненный негодования, и лег спать. Понимал ли он, что вскоре за ним тоже придут? Тогда же он и увидел сон, который пересказал своему другу Эдуардо Родригесу Вальдивьесо: он видел себя простертым на земле (как это часто бывало в его шуточных представлениях перед друзьями, и Сальвадор Дали даже изобразил однажды его «смерть»), а вокруг обступили его женщины в черных одеждах с вуалями, в большом трауре, и каждая держала в руках распятие, которым грозила ему. Не была ли это сама Бернарда Альба, фанатичная католичка, мучительница своих дочерей, мстительница – представшая перед ним вместе с другими неутешными вдовами, чьими образами он заполнил подмостки своего театра? Федерико понял, что это значит: может случиться так, что он доживает свои последние дни… Он угадывает это, предчувствует, и это наваждение преследует его повсюду…
Его действительно уже искали, чтобы арестовать. 6 августа зловещий эскадрон фалангистов появился у дверей их Уэрта-де-Сан-Висенте. Его возглавлял капитан Рохас: это на его совести были убийства анархистов в Касас Виехас, неподалеку от Мадрида, в январе 1933 года. Тогда он был осужден на 21 год тюрьмы, но уже в 1934-м амнистирован кабинетом правых в правительстве республики и прикомандирован к гарнизону Гренады. Мануэль Рохас пребывал в убеждении, что у Лорки есть радиопередатчик, посредством которого поэт поддерживает связь… «с русскими»! Под испуганными взглядами всего семейства фалангисты перевернули дом вверх дном, но, конечно, капитан Рохас ничего подобного не нашел и вынужден был ретироваться несолоно хлебавши.
Однако Федерико и его родным становилось всё тревожнее. Тем более что буквально на следующий день в их дом пришел старый друг семьи Альфредо Родригес Оргас, муниципальный архитектор Гренады и активный социалист, скрывавшийся от фалангистов с 20 июля, – и попросил у них убежища: он рассказал им о ежедневных экзекуциях, творимых в городе отрядами нацистов. И всё же Федерико надеялся, что Гренада, стонущая под нацистским сапогом, будет вот-вот спасена отрядами республиканцев, которые сумеют быстро восстановить прежний порядок.
Архитектор просил дона Федерико помочь ему добраться до территории, занимаемой республиканцами. Это было всего в нескольких километрах от Уэрты. Но в ту же ночь эскадрон фалангистов опять подошел к их дому. Архитектор бежал через черный ход и в темноте сумел добраться до Санта-Фе, города, находившегося в руках республиканцев, – он был расположен на полпути от Гренады к Фуэнте-Вакеросу: оттуда беглец направился в Малагу. Федерико вполне мог бы, или даже должен был, сопровождать его и вместе с ним выскользнуть из петли, которая сжималась вокруг него, но ему помешала нерешительность.
Девятого августа еще один, уже третий, эскадрон фалангистов наведался в Уэрта-де-Сан-Висенте: они разыскивали соседа семейства Лорка Габриэля Переа Руиса – он был «виноват» в том, что являлся братом двух преступников; избили на глазах у близких и арестовали. Прежде чем уйти, однако, фалангисты ворвались «заодно уж» и в дом семейства Лорка, вывели Федерико из его комнаты и избили, обзывая «maricon» – «педерастом». Затем они выстроили всё семейство на террасе, словно перед расстрелом. Собирались ли они сделать это? Точно неизвестно, так как в это время появился другой эскадрон фалангистов и тем было сказано уходить. Солдаты ретировались.
Тогда Федерико, наконец осознав, что приходят и по его душу, позвонил (по счастью, как раз перед его возвращением в Веге был проведен телефон) Луису Росалесу и попросил его о помощи. Луис – интеллигентный, деликатный человек, студент-философ, только что опубликовавший свои первые стихи, – был давним другом Федерико. Они часто виделись в Гренаде или Уэрте и много говорили о поэзии. Луис Росалес даже опубликовал хвалебную рецензию на «Цыганское романсеро» в престижном журнале «Cruz у Raya». Этот человек, верный друг, имел к тому же на руках неоспоримый козырь в сложившихся обстоятельствах: 20 июля он вступил в ряды Фаланги вслед за своими двумя братьями, Хосе и Антонио, которые были видными представителями этой партии в Гренаде; сам же Луис был даже назначен начальником отделения Фаланги в Мотриле, небольшом городке недалеко от Гренады. Вот кто может стать для Федерико настоящим гарантом безопасности!
Луис Росалес предложил другу на выбор два решения. Первое – помочь Федерико бежать к республиканцам, но тот не захотел оставить своих родных на произвол судьбы и оказаться на положении беженца. Второе решение – дать Федерико убежище в своем доме в Гренаде, с согласия всей родни Росалесов. Федерико выбрал второй вариант, показавшийся ему более надежным. Что могло, казалось бы, угрожать его жизни в этом доме – настоящем оплоте фалангистов? И Федерико, ничего не подозревая, отправился прямиком в волчью пасть.
Десятого августа шофер Росалесов приехал за Федерико в Уэрту, чтобы отвезти его в Гренаду – «в надежное место». Поэт надел свой любимый морской костюм с черным галстуком, как о том свидетельствует фотография, сделанная в Буэнос-Айресе в 1934 году, на которой он снят вместе в Пабло Нерудой и другими друзьями, одетыми в такие же морские костюмы. Он взял с собой сменное белье и голубую пижаму в белую полоску – по всей вероятности, он был настроен еще довольно оптимистично, так как рассчитывал отсутствовать всего несколько дней.
Буквально на следующий день, через несколько часов после его отъезда, фалангисты вновь «высадили десант» в Хуэрте: на этот раз они пришли за самим поэтом и, не найдя, отправились искать его у его кузена, жившего в сотне метров от дома Лорки – в Уэрта-дель-Тамарит. Там во дворе стоял огромный глиняный кувшин, в котором, как они подозревали, мог спрятаться Федерико. В самом родительском доме они искали компрометирующие его бумаги, предметы, которые доказывали бы его «связь с красными»; они даже разобрали пианино в поисках пресловутого радиопередатчика – столь сильна была их уверенность в том, что таковой должен существовать. В глазах фалангистов Лорка был воинствующим коммунистом, тесно связанным с республиканцами Испании.
Между тем Лорке оставалось жить всего восемь дней. В большом гренадском доме Росалесов его разместили на третьем этаже, и никто не воспринимал его как беглеца – наоборот, он свободно ходил по всему дому, разговаривал со всеми, читал стихи, играл на пианино, которое специально для него внесли в его комнату. Он чувствовал себя комфортно в этой гостеприимной семье, галантно обращался к Есперансе, сестре Луиса, называя ее «прелестной тюремщицей», и пригласил ее в недалеком будущем в Мадрид посмотреть вместе с ним его пьесу. Вечером, когда Луис возвращался со службы домой в своей голубой форме фалангиста, оба друга опять пускались в горячие поэтические дискуссии и даже затеяли было сочинение гимна в память всех погибших в этой войне (которая, вопреки их надеждам, еще только начиналась): Луис должен был написать текст, а Федерико – музыку. Этот проект погиб в зародыше, поскольку дни Федерико были сочтены.
Лорка ежедневно просматривал газету «Ideal» и был в курсе того, что творилось в Гренаде: там шли казни республиканцев, причем массовые – ведь город постоянно бомбила республиканская авиация, и эти расправы становились «справедливыми» ответными репрессиями. Адская машина насилия, мести, братоубийства была запущена на полные обороты – в результате к концу гражданской войны в 1939 году число жертв достигнет чудовищной цифры – один миллион погибших, из которых, кстати, лишь четыре процента составляли сами испанцы. Федерико был особенно обеспокоен участью своего шурина Мануэля Монтесиноса, потому что прочел в газете, что ежедневно нескольких пленников выводят из камер на расстрел. Вполне вероятно, что он даже просил Росалесов как-то помочь Мануэлю.
Пятнадцатого августа фалангисты снова появились в Уэрте – на сей раз уже с мандатом на его арест. Обыскав дом, они пригрозили, что заберут отца, дона Федерико, если тот не укажет место, где скрывается его сын. И тогда Конча, младшая сестра Федерико, дрожа от страха за своих троих детей (тем более что ее муж уже был арестован в первые же дни путча), не выдержала и указала убежище брата. Ее муж, Мануэль Монтесинос, на следующий же день был казнен. Когда Федерико узнал об этом, стало ясно, что ему надо срочно покинуть дом друга.
Семейство Росалес уговаривало его искать убежища в доме Мануэля де Фальи: ведь композитор представлял собой национальную гордость Испании и был к тому же ярым католиком, что должно было умерить ожесточение фалангистов против его друга-поэта. Но было уже поздно: 18 августа, в час ночи, три фургона остановились перед домом Росалесов.
Эскадроном командовал Рамон Руис Алонсо, всей душой преданный делу Фаланги, бывший парламентарий от Испанской конфедерации независимых правых, а ныне «истинный патриот», но неоцененный «по достоинству» отделением Фаланги в Гренаде: вступление его в фашистскую партию, на его взгляд, не было достаточно вознаграждено материально. И вот теперь перед ним открылась такая блестящая возможность отличиться – арестовать «красного» в доме самих фалангистов, да еще и на виду у всех! Какая удача! Конечно, Росалесы пытались как-то договориться с фалангистами, но всё было тщетно: Лорку собирались арестовать за то, что, по словам Руиса Алонсо, «он причинил больше вреда своим пером, чем иные – револьвером».
В своей комнате Федерико слышал всё, что о нем говорилось внизу. Он в ужасе понял, что для него всё кончено. Тогда он встал на колени перед Распятием и принялся горячо молиться. Затем спустился и дал увезти себя в префектуру, что располагалась совсем рядом с домом Росалесов. К его несчастью, гражданский начальник, Хосе Вальдес Гусман, уехал по служебным делам, и его временно заменял подполковник гражданской гвардии Николас Веласко Симарро. Так Лорка оказался перед тем, кто, помня, как он «оскорбил» жандармерию в своих стихах, воспылал чувством мести – несмотря на высокие связи поэта в гренадской Фаланге. Всё было решено – ничто не помогло: ни заступничество семейства Росалес, ни вмешательство адвоката Лорки. Луис Росалес лично отправился в префектуру, чтобы оспорить действия Руиса Алонсо, который был чином ниже его, но оказался бессилен перед представителем нацистского правительства Хосе Вальдесом Гусманом – тот не захотел пощадить «этого красного».
Девятнадцатого августа в три часа утра Федерико вывели из префектуры закованного в наручники вместе с другим осужденным, учителем Галиндо Гонсалесом. Их посадили в машину с двумя гвардейцами и двумя солдатами-фалангистами и отвезли за десять километров, в Виснар, – здесь, на краю оврага, оба должны быть расстреляны, вместе с двумя бандерильеро, анархистами. Молодой гвардеец объяснил Лорке, что он сейчас будет казнен, и помог ему помолиться, потому что охваченный ужасом поэт не мог вспомнить слова молитвы «Confiteor», которой когда-то в детстве учила его мать.
На рассвете, в пять часов утра, все четверо были выстроены перед оливковой рощей, у журчащего фонтана «Ainadamar» (по-арабски «Источник слез»), расстреляны и сброшены в овраг, ставший их могилой, надолго преданной забвению – лишь «Источник слез» журчал, словно рыдал над убитыми.
Эта оливковая роща сегодня называется Парком Федерико Гарсиа Лорки, и сотни людей приходят сюда поглазеть на тот большой овраг (его очертания различимы и сейчас), где упокоился поэт – вместе с сотнями или даже тысячами других жертв франкистов в Гренаде.
Годы спустя его старый друг Сальвадор Дали напишет: «В начале войны мой большой друг, поэт “mala muerte” Федерико Гарсиа Лорка был расстрелян франкистами в его родном городе Гренаде… Какая низость! Лорка был в действительности самым аполитичным поэтом на земле. Его смерть символична – поэт является неизбежной жертвой всякого революционного потрясения… Лорка был настоящей личностью, достойной восхищения, и этого оказалось достаточно, чтобы быть расстрелянным первым попавшимся негодяем испанцем – погибнуть первым среди многих других».
По правде говоря, эгоист Дали был более аполитичен, чем Лорка, который всегда защищал «униженных и оскорбленных», но правда и то, что Федерико, называвший себя «другом народа», или даже «братом всем людям», не считал справедливым принимать ту или иную сторону в братоубийственной войне. Доказательством тому – сам парадокс его гибели: названный «красным», он обрел себе защиту среди своих друзей-фалангистов, но погиб по воле какого-то чудовищного поворота судьбы.
Луис Бунюэль, тоже давний его друг (несмотря на некоторые недоразумения, бывшие между ними), утверждал, что «Лорка… никак не мог увлекаться политикой». Он оставил нам в своей книге «Мой последний вздох» прекрасное доказательство своей дружбы с поэтом и справедливую оценку его личности: «Известие о его смерти стало ужасным ударом для всех нас. Из всех, кого я в жизни встречал, Федерико был всегда на первом месте. Я не говорю здесь о его театре или о его поэзии. Я говорю о нем самом. Шедевр – это был он сам. Мне даже трудно представить себе кого-либо похожего на него. Садился ли он за пианино и подражал Шопену, изображал ли он пантомиму или короткую театральную сценку, – он был неотразим. Он мог читать что угодно – в его устах всё было прекрасно. Он был сама страсть, радость, молодость. Он был как язык пламени».
Тело поэта не было найдено: трупы расстрелянных заливали негашеной известью… Но он останется навсегда, еще и по этой причине, живой легендой, живым укором франкистской подлости, которая объявила миру свое позорное кредо словами одного из своих самых низких прихлебателей: «Смерть интеллигенции!» Лорка стал символом страданий Испании. Он стал символом всех жертв гражданской войны. Навсегда, для всех последующих поколений, Федерико Гарсиа Лорка останется Расстрелянным Поэтом.








