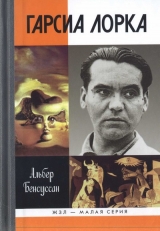
Текст книги "Гарсиа Лорка"
Автор книги: Альбер Бенсуссан
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
ДРАМА БЕСПЛОДИЯ
Господь, да расцветет Твой сад
на почве увядшей плоти моей.
Федерико Гарсиа Лорка
Из всего театра о крестьянской «земле обетованной», который был создан Лоркой, – ведь он сам был порождением крестьянской Веги, – «Йерма» может по праву быть сочтена кульминацией по яркости проблематики крестьянской чести и, опять же, интимной драмы бесплодности: она подана здесь с огромной силой, словно выжжена каленым железом, но при этом звучит живо и ярко, несмотря на горечь и разочарование, которыми проникнута вся атмосфера пьесы. Это – апогей таланта Лорки; она вызвала в правых кругах, ханжески настроенных, настоящий скандал, и это также будет вменено в вину поэту впоследствии – при его аресте и осуждении.
«Трагическая поэма в трех актах и шести картинах» была представлена 29 декабря 1934 года в «Teatro Espanol» в Мадриде труппой Маргариты Ксиргу. Этот спектакль ждали с нетерпением, и его генеральная репетиция прошла в атмосфере всеобщего воодушевления вечером 28 декабря, то есть накануне, как это обычно принято. Она была почтена присутствием трех громких имен испанской литературы: это драматург Хасинто Бенавенте, в ореоле своей славы нобелевского лауреата, которым он стал семью годами ранее (Лорка познакомился с ним в Мадриде в бытность свою в студенческой «Резиденции»); драматург Рамон дель Валле Инклан (который умрет в тот же год, что и Федерико, но просто от возраста и болезни) и Мигель де Унанимо, с которым Лорка познакомился еще во время своих экскурсий по стране с профессором Берруэтой – это было в Саламанке.
Успех был полный – по мнению всех, и в том числе Унанимо, который присутствовал затем и на премьере 29 декабря, и сам факт этих двух просмотров подряд немало значил: Унанимо объявил, что Лорка достиг вершины своего искусства. Да и многими другими «Йерма» воспринималась потом как абсолютный шедевр лорковского театра.
Однако энтузиазм публики сопровождался провокационной возней в правых кругах: травля драматурга была запущена полным ходом на следующий же день. Его недруги кричали, что в этой сельской драме попрана сама суть испанской морали: подумать только – крестьянка убивает своего мужа, потому что он не сделал ей ребенка! Но главная причина здесь была в другом: травля со стороны правых была вызвана тем, что среди друзей Лорки числилось много республиканцев, как и среди друзей его первой актрисы. Это были друг Лорки экс-министр республики Фернандо де лос Риос и интимный друг Маргариты Ксиргу, бывший премьер-министр республики Мануэль Асанья, который только что был выпущен из тюрьмы под залог.
Едва поднялся занавес, как раздались выкрики: «педераст!» – в адрес Лорки и «шлюха!» – в адрес Маргариты Ксиргу, то есть и тому и другой досталась изрядная «персональная» порция оскорблений и унижения. К счастью, эти крикуны, по всей вероятности фалангисты, были быстро выдворены из зала; представление сопровождалось бурным восторгом мадридской публики, и в результате премьера стала одним из самых больших театральных успехов драматурга.
Конечно, на следующий день правая пресса разразилась опять-таки отрицательными отзывами и принялась чернить драматурга, пригвоздив его пьесу к позорному столбу; впрочем, и друг юности Луис Бунюэль, присутствовавший на премьере, осудил пьесу как «банальную». Пьесу клеймили эпитетами «отвратительная», «аморальная», «вызывающая», «плохая со всех точек зрения», «полная грубости и богохульства», «попирающая христианскую этику в угоду оголтелому язычеству». В общем, «праведные души» были возмущены и «праведным сердцам» было тошно. Лорка был осужден дважды: как «левак» и как «гомосексуалист». Через два года эти наклеенные на него ярлыки станут основными пунктами обвинения на поспешно организованном процессе над ним – и даже «законными поводами» для его казни.
Что же на самом деле представляет собой эта пьеса? Лорка всегда был одержим темой бесплодия. С самого раннего детства он видел в зале их дома в Фуэнте-Вакеросе портрет первой жены своего отца Матильды Паласиос, которая за 14 лет супружества ни разу не забеременела, к великому разочарованию своего мужа. Когда она умерла, ее супруг поспешил жениться на молодой женщине, Висенте Лорке, которая многократно осчастливила его, сделав отцом своих детей. Дон Федерико обожал всех своих детей тем сильнее, что он так долго томился напрасными ожиданиями отцовства с первой супругой. Федерико знал об этом и часто представлял себе, каким горем было бы в их семействе отсутствие детей.
Более того, в Андалузии, отмеченной влиянием как ислама, так и жесткого католицизма, рождение детей считалось знаком избранности Богом и Божьего благоволения. Тем более в сельской среде, живущей заботами об урожае, о плодородии. Здесь роль женщины всегда заключалась в рождении детей и взращивании их в стенах родного дома. Отсюда и типично испанская идея женского затворничества – ведь существовала же эта скверная поговорка, которая была в ходу в Испании периода золотого века (XVII), которая дословно звучала так: «Женщине надо сломать ногу, чтобы она сидела дома». Театр Лорки полон такими женщинами, молодыми и старыми, заточенными в собственном доме: это донья Росита, старая дева; это Йерма, которую муж принуждает жить взаперти под надзором своих двух сестер; в последней пьесе Лорки действуют уже восемь героинь: Бернарда, пять ее дочерей, их бабушка и служанка – таков душный, замкнутый, сугубо женский мир «Дома Бернарды Альбы». Лорка прекрасно знал жизнь сельской среды в Андалузии и не мог не видеть униженного положения женщины: подчиненности, зависимости, а порой и беспросветности ее существования. Во имя этой обездоленной испанской женщины он и писал свои пьесы – о женщинах сильных, таких как Башмачница и Йерма, о женщинах-бунтарках.
Была еще и проблема чести – чего и близко не было, например, в сознании французов, зараженном духом свободомыслия и распущенности – «к чести» своего XVIII века, прозванного веком Просвещения и Революции. Ничего подобного не знала Испания. Нельзя не вспомнить из истории, как после разрушительного нашествия «освободителя» Наполеона, когда в 1813 году в Мадрид вернулся Фердинанд Бурбон, чтобы вновь воссесть на трон, – «разнузданная» толпа, заполонив улицы столицы, кричала: «Да здравствуют цепи!» Этот крик, сущего смеха ради, переиначил и использовал Луис Бунюэль в последнем кадре своего фильма «Призрак свободы». Слово «честь» проходит красной нитью и через всё творчество Кальдерона: в его пьесе «Лекарь своей чести» муж подозревает свою супругу в неверности, но совершенно напрасно, – и потому убивает ее «по-медицински», кровопусканием, – чтобы не замарать свою болезненно задетую честь. Это слово было в большом ходу в Испании и во времена Лорки. «Честь» – этим словом завершается пьеса «Дом Бернарды Альбы», и именно для того, чтобы спасти свою честь, совершает свое трагическое деяние Йерма.
Здесь можно напомнить, что и сам Федерико так и не познал женщины и не имел ребенка. Бунюэль и Дали даже дошли до того, что прямо объявили о его «импотентности» в фильме «Андалузский пес». Можно верить или не верить этим свидетельствам, но на премьере «Йермы» друг Лорки, певица Энкарнасьон, Ла Архентинита, якобы заявила: «Это личная трагедия Федерико» – и затем добавила: «Больше всего на свете ему хотелось бы “забеременеть” и родить ребенка». Как бы там ни было, пьеса была категорически освистана правыми, которые знали, как можно «наступить на больную мозоль» этому Лорке – вечному бунтарю, якобы попиравшему их «мораль». Но «Йерма» – это и правда сам Федерико, как, например, мадам Бовари – это сам Флобер, если не принимать во внимание половую принадлежность и не присочинять всякие анекдотические ситуации.
Великое произведение рождается зачастую из какого-то внезапного импульса: из воспоминания детства, из чего-то запечатлившегося некогда на сетчатке глаза – в случае Федерико это могли быть паломничества в Моклин, небольшой городок у отрогов Сьерра-Невады, в районе Гренады. Именно сюда издавна совершали паломничества бесплодные женщины, чтобы умолить святых заронить в их лоно волшебное семя будущей жизни. Его брат Франсиско в своей книге воспоминаний «Federico у su mundo» рассказывал, что ни он сам, ни его старший брат никогда не принимали участия в этих паломничествах, но часто слышали в семье разговоры о них и что на стене их деревенского дома даже висела картина с чудотворным изображением el Santisimo Cristo del Pano. Всё это чрезвычайно занимало Федерико, и он часто говорил младшему брату, что подобное паломничество – это, в сущности, языческий праздник плоти, нечто вроде любовного карнавала: недаром молодые люди из Моклина встречали паломников-мужчин насмешливыми возгласами: «Рогоносцы! Вот идут рогоносцы!» Ходили слухи, что бездетные женщины попадали здесь, в пылу религиозных празднеств и в угаре жарких молитв, в руки крепких парней, которые «за алтарем», то есть в окрестных лесах, охотно оплодотворяли своим мощным семенем их бесплодное лоно. Франсиско вспоминал, что Федерико бывал очарован подобными разговорами; при этом его брат отмечал: «Надо признать, что воображение Федерико работало тут куда живее, чем мое».
Парадокс в «Йерме» заключается в том, что молодая крестьянка, здоровая и крепкая, не может иметь детей, – и это в гренадской-то Веге, которая есть само воплощение плодородия и изобилия: это долина источников и фонтанов, где дети рождаются прямо у воды, – но Йерма обречена жить в пустыне своего бесплодия. Она обожает детей, но не может иметь их. Она одна из всех обездоленна и всё более ожесточается с течением времени: проходит два года, три года, затем пять лет – это роковое число у Лорки (вспомним его пьесу «Когда пройдет пять лет» или рефрен из его «Погребального плача по Игнасио Санчесу Мехиасу» – «в пять часов пополудни»). Именно тогда женщина и совершает непоправимое…
Занавес открывается под мелодию «папа» – детской колыбельной:
Для тебя, мое дитя,
в поле сделаем домок,
будем жить там поживать…
Во второй сцене Йерма поет лирические стансы, пронизанные неутоленной материнской любовью, в которых вопрошает: «Когда пойдешь ты в путь?» – и сама отвечает: «Когда жасмин почуешь». Для андалузской души белый цвет жасмина с его сильным головокружительным ароматом символизирует плодородие в чистом виде. По всему Средиземноморью жасмин считается цветком счастья. На всем южном побережье сельские чародеи надевают на шею венок из цветков жасмина или вплетают их в волосы за ухом, чтобы привлечь удачу и обеспечить успех в делах.
Вот закончилась песенка – и сразу появляется Мария, подруга Йермы, чтобы поделиться с ней радостью: она беременна. Она была в лавочке, где купила бельишко для будущего младенца, и вот теперь эта Мария – Мария Благовещения, подобно Марии-Богоматери, чистая, прекрасная и плодоносящая, – сообщает подруге благую весть о том, что она, Мария, ждет ребенка. Вместо того чтобы просто сказать об этом, она употребляет поэтическое выражение: «Он пришел». Йерма забрасывает ее вопросами: она хочет знать, как это бывает – когда внутри тебя ребенок, и та отвечает ей дивным поэтическим сравнением, одновременно сельским и библейски высоким: «Ты когда-нибудь держала живую птицу в руке? – Так вот, это то же самое, только у тебя в крови».
Йерма продолжает доискиваться до самой сути: ее интересует и поведение мужчины, мужа – тогда подруга отвечает ей еще одним ярким образом: «В ночь после свадьбы он всё время говорил, что любит меня; прижавшись щекой к моей щеке, он нежно шептал мне это на ухо, так что мне кажется, что мое дитя – это голубка любви, которая впорхнула в меня от него через ухо». Этот дивный образ чем-то сродни непорочному зачатию Девы Марии от Святого Духа. Клеветники же поэта, вдруг ощутившие себя ревностными католиками, не почувствовали, конечно, – точнее, не захотели почувствовать – присутствие евангельского духа в этой сцене. Они «не обратили внимания» ни на то, что здесь речь идет о любящих супругах, ни на подлинно христианскую набожность, которой проникнута вся эта сцена.
К чему стремится Йерма изо всех своих сил? Чтобы этот ребенок, которого она могла бы иметь, которого она так хочет иметь, стал бы ее собственным Спасителем, чтобы он был тем святым духом, который снизойдет на нее как сияющий голубь (вспомним известное высказывание в Евангелии от Марка: «…и увидел разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него»). Чтобы это дитя озарило сиянием ее жизнь. Чтобы оно оросило пустыню ее жизни.
Трагедия Йермы в том, что она вот уже два года замужем за крестьянином, который думает лишь о своей земле, безнадежно сухой, – по ночам он присматривает за своими быками, оставляя ее одну на супружеском ложе. Он одержим одной-единственной страстью – собирать и копить свое крестьянское добро; он даже во всеуслышание радуется тому, что у него нет детей, – ведь они «требуют ненужных расходов». Этот скупец, крепкий физически, но нравственно убогий, не уделяет никакого внимания своей жене, но при этом, заботясь о своей «чести», требует, чтобы она не выходила из дома. В противоположность Хуану, мужу, пастух Виктор полон внимания и нежности к Йерме (вот кто мог бы – и даже должен был бы – стать ее мужем). По пути на пастбище он частенько заговаривает с ней и даже подсказывает ей однажды: «Скажи своему мужу, чтобы он думал не только о работе. Он любит деньги, и он сумеет накопить их много – но кому он оставит всё, когда умрет?» Виктор, в отличие от Хуана, всегда весел, смеется, поет, разговаривает с Йермой – он как воплощенное обещание женского счастья, и она чувствует это, говоря: «Из твоих губ словно свежий фонтан брызжет». В то же время ее муж, вместо того чтобы «оросить» своей нежностью жену, уходит по ночам орошать поле скудными запасами воды, которые подаются, в час по капле, только до восхода солнца. Йерма же тем временем коротает ночь одна. Забывая о своей жажде. Забывая женщину в себе.
Конечно, местные мегеры тут же распускают языки. Они сплетничают о Йерме: выискивают в ней намерения изменить мужу, подмечают полный любви взгляд, который несчастная бросает на Виктора. Кумушки заявляют ей: «Женщина смотрит на мужские ляжки по-особенному – не так, как она смотрит на розу». Они знают, что Йерма содержится взаперти под бдительным присмотром двух золовок: ведь «если мужчина не делает детей своей жене, то он должен хорошенько за ней присматривать» – не так ли? Но и без того всеми поступками Йермы движет высокое понятие о чести: всё же муж – это самое дорогое ее достояние, и именно оно должно приносить плоды. Поскольку ребенок так и не появляется, она обращается за помощью к знахарке, а затем отправляется в паломничество в Моклин – и оказывается там посреди вакхического празднества и крепких парней, всегда готовых помочь свершиться чуду. В ужасе от всего этого, она возвращается домой и, потеряв надежду найти выход из своего положения, в отчаянии убивает своего мужа, а значит, и ребенка, которого она могла бы иметь от него. Своей последней репликой – это подлинный венец всей пьесы – она в страшном напряжении выкрикивает в лицо другим персонажам и публике: «Мое тело теперь высохло навсегда. Что вам нужно от меня? Не подходите! Я убила своего сына! Своими руками я убила моего сыночка!»
В этой пьесе Лорка противопоставляет два мира, или два противоположных полюса этого мира. Это мир бесплодия – Йерма здесь как сухое дерево, не приносящее плода, – и мир плодородия с его источниками, цветами и благодатным огнем. Женщине, отчаявшейся стать матерью, у которой «груди из песка», он противопоставляет бойких андалузских крестьянок, без стеснения рассказывающих о своих чувствах. И здесь поэт, чья поэзия всегда была пронизана чувственностью, находит потрясающие эротические образы, достойные библейской «Песни песней» или «рубайат» старинной персидской поэзии. Так, в хоре сельских прачек звучат эти обжигающие мотивы:
Пусть муж сбережет для тебя
свое обильное семя —
и льется оно потоком
по этой рубашке твоей…
Горящие угли его
Покрою я листьями мирта…
Пусть цветок сплетается с цветком…
Открой свое чрево птицам ночным…
Теперь мы вполне можем поверить, что те горячие слова действительно были сказаны о поэте Архентинитой: он и в самом деле мог отождествить себя с несчастной женщиной, оплакивающей свою бездетность, тем более что у него всегда было очень живое воображение, как свидетельствует о том его брат Франсиско.
Обостренная чувственность поэзии Лорки достигла в этой пьесе своего апогея. «Цветочки» его «Цыганского романсеро» вызрели здесь в спелые «ягоды». Испанская публика разделилась четко на два лагеря: ограниченных ханжей, которые даже библейскую «Песнь песней» читают, стыдливо прикрывшись рукой, и восторженных поклонников, любящих жизнь и умеющих жить чувствами. Даже столь строгий человек, как Унанимо, этот певец трагического восприятия жизни, посмотрел пьесу два вечера подряд – потому что понимал и принимал эту сугубо испанскую лихорадку чувств, не находящих себе покоя, эту суровость сердец, эту жесткость по отношению ко всему тому, что принято было называть «бычьей шкурой», – всю ту Испанию, которой вскоре суждено было так же разделиться на два лагеря и стать кровавой пустыней гражданской войны.
ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
…Я вскрыл себе вены,
видя в лилиях жала,
я как голубь и тигр
над грудью твоей…
Федерико Гарсиа Лорка
Еще давно (9 сентября 1926 года) Федерико писал своему другу Хорхе Гильену о «потребности быть устроенным в жизни». Можно подумать, что он имел в виду должность преподавателя, на которую хотел предложить свою кандидатуру: ведь он обращался письмом именно к Хорхе Гильену, который преподавал литературу в университете Вальядолида и чья рекомендация могла иметь немалый вес. На самом деле речь здесь шла совсем о другом: Федерико рассуждал о том, что представляет собой жизнь «устроенного человека», и задавал себе в связи с этим неизбежный вопрос (который другие ему задавали, должно быть, уже десятки раз): «Представь себе, что я захотел бы жениться. Смог бы я?» И сам же отвечает: «Нет». Он открывает душу старшему другу: «Мое сердце только в вечных поисках сада и маленького фонтана в этом саду… сада, полного воздуха и шепота листьев, где я, всеми моими пятью чувствами, умиротворенными, мог бы созерцать небо». Значит, что – никаких женщин? Никогда?
Тем не менее в последних поэмах его «Дивана Тамарита» (три из них были опубликованы в журнале «Heroe» в 1932 году), в частности в «Касыде о сне под открытым небом», присутствует сад, полный воздуха и шепота листьев, о котором он мечтал в письме Гильену, и здесь повсюду присутствует обнаженное тело женщины, чувственное и открытое его бессильному вожделению. Похоже, воображением поэта по-прежнему владеет мраморная Венера – мифическая, холодная и недоступная.
Летом 1931 года в Гренаде, охваченный радостным чувством возвращения на родину, Федерико заново открывает для себя живописные дворики Альгамбры, и в частности «патио мирт», которому посвящает поэму. Но особенно влечет его к себе витающий здесь дух арабского Востока – он так хотел бы ощутить его всей душой, хотя совсем не знает арабского языка. Кстати, в Гренаде его преподает профессор Эмилио Гарсиа Гомес, и этот крупный «арабист» издал в 1930 году сборник «Арабо-андалузские поэмы» – антологию арабских поэм, известных на территории Андалузии. Профессор всячески подталкивает Федерико попробовать свои силы в разных жанрах арабской поэзии – эта идея нравится Лорке своей новизной, хотя он не собирается слишком увлекаться ею. Лорка начинает использовать такие ключевые слова, как «diwan» – сборник песен и поэм (он передает в орфографии это слово как «divan»); «le ghazal», которое он передает как «gacela», – это традиционная для арабо-персидской поэзии любовная песня с характерным для нее безудержным эротизмом; «la kaside», которое он пишет как «casida», – песня более драматичного содержания. Но Федерико не имеет намерения вносить свой вклад в арабскую поэзию. Он даже не ставит перед собой задачу (в отличие от Луи Арагона в его поэме «Без ума от Эльзы», этой поэтической вариации на тему падения королевства Гренада в 1492 году) – подражать арабскому стихотворному размеру «zadjel». Восток Лорки – литературный и чисто личный: здесь тело обнажено, желания обострены, но обладание невозможно. В нем есть-таки арабская кровь, – уверен он и убеждает в этом профессора Гомеса.
С 1931 по 1935 год Федерико создает сборник поэм «Диван Тамарита»: это название возникло от «Хуэрта-дель-Тамарита», поместья в долине Гренады, принадлежавшего его дяде Франсиско Гарсиа, – оно находилось совсем близко от «Уэрта-де-Сан-Висенте, где живут родители Федерико. Лорка рассчитывал опубликовать этот сборник, включавший 21 поэму, в издательстве факультета арабской словесности университета Гренады, но этот проект не был осуществлен по той простой причине, что тогдашний руководитель факультета занимал в политике крайне правую позицию, а Федерико именно тогда приобрел репутацию «ярого левого». Только по окончании гражданской войны сестра поэта Конча разыскала эту рукопись, затерянную в пыльных ящиках университетского издательства, и опубликовала ее в 1940 году в Нью-Йорке – городе, который так радушно принял поэта в 1929-м.
Если согласиться с тем, что арабская поэзия – это поэзия пустыни, то нельзя отказать ей и в «пустынных» достоинствах: аскетизме, мистицизме и рационализме. Федерико почувствовал вкус к этой поэзии. Не исключено, что он даже имел краткое знакомство с суфизмом[22]22
Суфизм – мистическое течение в исламе. (Прим. пер.).
[Закрыть], хотя вернее будет предположить, что он прочел в испанском переводе «Рубаи» Омара Хайяма. Лорка нашел свою «арабскую пустыню» совсем неподалеку, в районе Тамарита, но, хотя поэт и жил тогда вдали от зеленых просторов родной андалузской Веги, говорил он совсем о другой пустыне – иссушающем одиночестве в своем сердце. В «Касыде о ребенке, пораненном водой» мы ощущаем его самого, одинокого и тоскующего среди темных стен Гренады в ожидании прихода дня. Но это ожидание не несет в себе ни обновления, ни надежды. Он признаётся:
И свет ложится пустыней
На утренние пески.
Чаще всего в этих стихах повторяется слово «yeso» – «гипс, штукатурка» – как знак сухости, серости, как символ его душевной пустыни. Упоминаются похороны, «свинцовые собаки», «черные кактусы», «разрушенные арки», «темные планеты» (определение «темный» пройдет через все его последние «Сонеты о темной любви»), «солнце скорпионов», «соляной дождь», и этот последний не может не напомнить о дожде из серы и соли, пролившемся над библейским Содомом. (Этот образ часто занимал воображение поэта, и он даже имел намерение написать пьесу для театра под названием «Гибель Содома».) Сколько здесь негативных образов! «Горькие корни», «сердце из гипса», «серая долина тела твоего»… Здесь нет уже его родной Андалузии, с ее живыми источниками, отцовскими полями, ласковым журчанием Гениля… И хотя Лорка упорно возвращается мыслями в Гренаду с ее воротами Эльвира, «миртовыми двориками», «утренними колоколами» – не о ней идет речь, нет: в этих стихах обнажает он свою душу – под предлогом обращения к арабской поэзии, от которой он совершенно далек. Здесь – апофеоз опустошающего одиночества и безнадежности:
Вода не оживит меня,
и смерть пойду искать
я в жестком свете,
что меня поглотит.
Вообще, арабская поэзия, и «ghazal» в том числе, – это прежде всего поэзия эротическая. Она воспевает восторг чувств, вожделение, вино, экстаз. Рай Магомета, каким он представлен в красочных миниатюрах, – это сад наслаждений. Лорка был хорошо знаком с поэзией Омара Хайяма, и особенно – Хафиза: еще в 1922 году в своей лекции о «канте хондо» он упоминал о его «великолепных любовных газеллах». Лорка восторгался этим «человеком из Шираза… национальным персидским поэтом», который «воспевал вино, прекрасных женщин, тайны камней и бесконечную голубую ночь». Лорка упомянул также поэта XIII века Сераха аль-Барака, чье «сердце горело живым огнем», – образ этого поэта Федерико «заберет» себе в «Диван Тамарита»; «присвоит» он и поэта Ибн Зиари: всех их он открыл для себя благодаря антологии «Поэты Азии», изданной в Париже в 1933 году в испанском переводе Гаспара Марии де Навы, Конде де Норонья.
В «арабской» поэзии Лорки мы, однако, не найдем традиционных утех плоти. Говоря о женском теле, он называет его «вечно ускользающим» и отвергает его темные чары:
Не свети мне ясной своей наготой —
Как черный кактус среди тростников.
Оставь меня в тоске темнеющих планет
И не дразни сверкающим бедром.
Федерико познал желание, но не обладание, он предпочитает тайну – откровенности, ожидание – доступности, в духе другого поэта, Валери, который писал: «Я жил ожиданием вас…» Чем-то немного сродни церковным мракобесам Средневековья, которые объявляли женщину «вместилищем нечистот», Лорка видит в ней таинственное существо, глядящее на него «из смутных клоак темноты». В «Касыде о простертой женщине», нисколько не напоминающей томных Венер с картин Ренессанса или прекрасную обнаженную Венеру Веласкеса, предлагающую нашему взору свои изобильные бедра, Лорка способен разглядеть в ее наготе лишь некий мрачный символ:
Бедра твои как корни в борьбе упругой,
губы твои как зори без горизонтов.
Скрытые в теплых розах твоей постели,
мертвые рты кричат, дожидаясь часа.
(Перевод А. Гелескула)
Для Лорки роза неизменно «ищет иного»; он повторяет это трижды, как рефрен, в своей «Касыде о розе». Весь этот цикл объединен, по сути дела, одной-единственной темой, темой смерти, – это продолжение мотивов бесплодия души, это образ «горького корня», пронизывающего собой весь «земельный надел» лорковской поэзии последних лет. И он взывает теперь, в другой «Касыде», к спасительной руке, к «невозможной руке»:
Нужна мне лишь эта рука —
она пусть свершит мне помазанье
на белом одре агонии.
Нужна мне лишь эта рука,
что смерти моей придержит крыло.
(Здесь и далее – перевод Е. Чижевской)
Всё сказано. И всё изжито. Поэту остается, в конце этого 1935 года, за несколько месяцев до смерти, написать лишь несколько «Сонетов о тайной любви». Эти поэмы, вероятно, посвященные самому дорогому другу со времен «Ла Барраки», Рафаэлю Родригесу Рапуну, были в большинстве своем похоронены во рву вместе с ним: он сражался в рядах республиканцев и стал одной из жертв гражданской войны. 11 сонетов были найдены и опубликованы по прошествии немалого времени после гибели поэта. Заголовок для этого собрания заново обретенных сонетов был определен уже задним числом, но был бы вполне одобрен самим Лоркой, который создавал их в духе одного из самых эротичных из испанских поэтов-мистиков, Сан-Хуана де ла Крус: тот воспевал любовь христианской души к своему Создателю на манер любовной песни – что явно восходило к библейской «Песни песней» царя Соломона. Воспевал совсем так же, как и в наши дни, каждую пятницу вечером, поет в синагоге иудейская душа, встречая «Невесту Шаббат»:
В темной этой ночи,
вся в любовном горенье, —
выйду я незаметной —
о, мое приключенье! —
из спящего дома – к нему.
[…]
На расцветшей груди у меня,
для него одного лишь хранимой,
он уснет, ласкаемый мною,
в трепетании листьев кедровых.
(Сан-Хуан де ла Крус «Стихи», около 1585 года)
Не мог Федерико оставаться равнодушен к этим стихам: они так много говорили его душе, созданной для любви! И поэт представил себя в них в женском образе. Совсем нетрудно сопоставить строки из «Живого факела» великого испанского мистика, воспевшего «нежное касание» и «ласкающую руку», – со стихами его далекого потомка. И всё же пустынная душа Лорки очень далека от щедрой открытости его великого предшественника: в последних стихах он смог поведать лишь о «ночи души, навсегда омертвелой». Он слишком далек от умиротворяющей ласки Возлюбленного (только христианская душа может беззаветно предаться в любящие руки своего Создателя) – вместо нее в его душе звучит лишь «тихий голос тайной любви», зияет «живая язва», «жалит горькая игла» – и потому «цвет ее задушен». Последняя из этих сохранившихся поэм – это исполненная бесконечной скорби жалоба о неразделенной любви:
Твой отказ на безмолвные мольбы
потонет когда-нибудь в смерти,
следа не оставив в трепещущей плоти.
Таким было последнее слово поэта. Его «трепещущая плоть» предстанет вскоре перед расстрельной командой и умрет обездоленная, омертвевшая еще при жизни – бросая упрек тому единственному тайному свидетелю, кто «видеть мог, как гибли мои цветы»…








