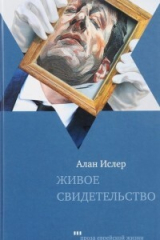
Текст книги "Живое свидетельство"
Автор книги: Алан Ислер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
4
Когда началась война, Энтуисл отправился воевать с томиком Зигфрида Сассуна[103]103
Зигфрид Сассун (1886–1967) – английский писатель и поэт, участник Первой мировой войны.
[Закрыть] в кармане и с альбомом Георга Гросса[104]104
Георг Гросс (1893–1959) – немецкий живописец и график.
[Закрыть] в вещмешке. По совету Каррингтон или без оного, но вдохновленный рисунками Макса Бирбома[105]105
Макс Бирбом (1872–1956) – английский писатель и карикатурист.
[Закрыть] он начал учиться в Кембриджской школе искусств. Гитлер и прочие далекие от Энтуисла личности положили этому конец. Сначала он служил в Северной Африке, был из числа Пустынных крыс[106]106
Так называли в годы Второй мировой войны британскую 7-ю танковую дивизию.
[Закрыть] Монти[107]107
Имеется в виду британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери (1887–1976), командовавший 8-й британской армией в Северной Африке.
[Закрыть] и не погиб от предназначенной ему пули – «мое имя было на ней выгравировано, дружок» – исключительно по воле случая, незадолго до битвы при Эль-Аламейне. Он сидел в грузовике с боеприпасами рядом с водителем, капралом Алтерасом, а тот так вымотался, что задремывал и посреди пустыни чуть ли не уводил машину с колеи, которой держался грузовик перед ними. Энтуисл предложил ему передохнуть: «Мэнни, какого хера, этот драндулет и я могу вести. А ты, старик, подремли маленько, будь добр!» Они поменялись местами, Мэнни Алтерас тут же крепко заснул, а через каких-нибудь десять минут Мэнни получил пулю, предназначавшуюся Энтуислу, в то место между глаз, где начинается переносица. Ну что тут скажешь?
Во время североафриканской кампании Энтуисл рисовал все, что попадалось ему на глаза, при любой возможности, в основном карандашом или углем, а если получалось, чернилами и акварелью. Акварельные краски он делал сам, добывая что можно из скудной флоры пустыни и из жирных насекомых, водившихся в этой истощенной местности: он все это давил, кипятил, скреб – делал, что полагается, а чернила воровал в штабе. Бумагу он добыл сначала в Александрии, потом в Бизерте, где якобы обитала Грязная Герти*. У Мэнни был дядя в Каире, и этот дядя Саймон раздобывал для Энтуисла бумагу, несмотря на военное время.
Обширная коллекция этих рисунков хранится в Дибблетуайте, а осмотрительно составленная подборка некоторых из них была напечатана в 1947 году, когда художник сделал первый заход на пути к всебританской славе, выпустив альбом «Пустынные крысы». Даже профану понятно, что «Пустынными крысами» Энтуисл продемонстрировал, что умеет бороться за внимание публики. Его приняли в члены Королевской академии.
После Северной Африки его направили в Европу, по которой – дело было после высадки в Нормандии – уже уверенно шагали союзные войска. Военные, надо признать, сообразили, что Энтуисл незаменим в деле пропаганды. И, тщательно исследовав его рисунки, сочли их пригодными для распространения в тылу, в Великобритании, где его стиль – пусть пока еще не имя – стали узнавать, и в Вестминстере уже отметили его труды для дела победы, чтобы по окончании войны воздать им должное. Он теперь был сержантом Энтуислом. Альбомов с рисунками накапливалось все больше, работы становились более уверенными, более зрелыми. Во Флёрюсе, в нескольких километрах к северо-востоку от бельгийского Шарлеруа, он даже получил первый заказ, на портрет, «Мсье и мадам Юбер Лон, 1944» – мэра с женой, и портрет до сих пор висит в mairie[108]108
Мэрия (фр.).
[Закрыть], где я его и видел. Удивительно язвительная работа, на ней изображены два преуспевающих представителя la petite bougeoisie[109]109
Мелкая буржуазия (фр.).
[Закрыть], которые не только пережили все невзгоды сокрушительной войны, но пережили не без выгоды для себя: его самодовольство читается и в плохо скрываемой ухмылке, и во фламандском маке в петлице, а ее – в задранном носе, подчеркивавшем радостно торчащие вперед зубы, и неестественно розовых щеках. Макс Бирбом, может, и указал путь, но в основном влияние оказали Домье и Гросс. (Да-да, я знаю: в последних серьезных научных разборах работ Энтуисла подчеркивается, что в «Мсье и мадам Юбер Лон, 1944» чувствуется прежде всего влияние Хогарта, что весьма удобно вписывает художника в общепризнанную английскую традицию. Однако я непоколебим и остаюсь при своем мнении.)
У Энтуисла есть множество историй о том, как он воевал в Европе, и страшных, и веселых. Несколько из них, в основном забавных, он мне рассказал, когда мы познакомились. Так он по-доброму готовил меня к службе в армии. Он был отличным рассказчиком, умел добиться комического эффекта и часто доводил меня до такого истошного смеха, что у меня дыхание перехватывало. Грустные истории, больше подходившие для зимы[110]110
Отсылка к «Зимней сказке» У. Шекспира. Акт II, сцена 1.
[Закрыть], пересказывала мне во все времена года мамуля, она всегда жаждала, чтобы я одобрил ее выбор лучшего из мужчин. «Что он только не делал! Что только не повидал! Как он настрадался! О, Робин!» Бедная мамуля не знала (или не хотела себе в этом признаваться) только одного, того, что я и сам узнал лишь со временем: Энтуисл был выдумщик, если не сказать лжец. Понятия не имею, какие истории из тех, что он рассказывал мне и мамуле, правдивы или хотя бы частично правдивы, а какие – совсем нет. Понятия не имею, во что Энтуисл сам верил, а что выдумал. Понятия не имею, имели или нет место с ним или с кем-то еще описанные им случаи, все или некоторые. Быть может, тщательно подготовленная Стэном биография и прояснит все, но я в этом сомневаюсь.
Одно, впрочем, я знаю наверняка. Он присутствовал при освобождении узников лагеря Берген-Бельзен, и то, что он там увидел, произвело на него неизгладимое впечатление. Я знаю это не только от мамули, которая, боясь, что меня могут будить крики Энтуисла по ночам и я по подростковой глупости могу принять его жуткие и тяжелые кошмары за экстаз здорового секса, рассказала мне все, что знала о его переживаниях, о том, каким были потрясением картины, звуки, запахи, которых не мог бы вообразить даже Данте, сумевший мысленным взором увидеть ад, о том, перед чем можно только стоять онемев или, чтобы не сойти с ума, отвести взгляд. «Ты даже представить не можешь, какой у него был тогда взгляд, – рассказывала мамуля. – Никто не может себе представить, что он видел, что чувствовал. Ни я, ни ты, дорогой мой. „Обними меня, Нэнси, – говорил он. – Я всего только заглянул в ад. Я не жил там, не был жертвой, не страдал. Нэнси, умоляю, обними меня!“ Робин, это ужасно. Он обливается потом, что при других обстоятельствах мне скорее понравилось бы. Но этот пот, холодный, липкий… Ну, хватит об этом. Это мой крест. К счастью, старые методы работают. – Мамуля, царствие ей небесное, искренне сострадавшая мукам моей зарождавшейся сексуальности, порой бывала чересчур прямолинейна. – Мы занимаемся любовью, и он засыпает как ребенок».
«Нэнси, я убил одного, убил фашистского ублюдка, за всю войну убил всего одного немца. Мы ворвались в сарай на задворках лагеря. Там хранили садовые инструменты. В углу этого адского места были аккуратно разложены и расставлены газонокосилка, грабли, тяпки, секаторы, бутылки с жидкостью от сорняков, пакеты с луковицами. А еще там были три эсэсовца. Один сидел в углу – весь в дерьме от страха, голову обхватил руками и пригнул, трясся от ужаса, волосы светлые, ежиком, глаза закрыты. Другой – на коленях, ладошки сложил – ну, чисто Кристофер, сука, Робин, и бормочет: „Lieber Gott[111]111
Господь возлюбленный мой (нем.).
[Закрыть], Heber Gott, Heber Gott“. Третьим был сержант, он сначала стоял, но как увидел наши лица, упал на колени, руки поднял – мол, сдаюсь. Он нам сказал по-английски: „Послушайте, уважаемые, это же были просто евреи, в основном евреи“. Меня взбесило то, что он решил, будто мы договоримся, будто мы поймем. А когда догадался, что этого не будет, этот убийца, Нэнси, этот голубоглазый красавчик-блондин, эта сволочь арийская, он тут же стал играть другую игру. Кинулся ниц, руки вытянул, как какой араб на молитве, уткнул голову в землю. Я словно обезумел, Нэнси, потерял контроль над собой. Этот убийца, он нас дразнил. Я кинулся на него – словно я центрфорвард „Арсенала“ и бью пенальти. Метил я в верхний левый угол своей цели. Голова его не дернулась, но эту гадину откинуло, как тряпичную куклу, на того, молившегося, который все твердил: „Lieber Gott, Heber Gott, Heber Gott“. Я его все-таки прикончил, этого шутника-убийцу. Но он убил мне сон, Нэнси. Убил сон».
Даже без свидетельств мамули было очевидно, как травмировал Энтуисла тот опыт в конце войны. Я, естественно, имею в виду его великолепную картину в восьми частях «Восьмой день. Разрушение» – серию работ об отношении евреев и немцев начиная с эпохи Просвещения и до Холокоста, из-за которых он со скандалом вышел из Королевской академии. Он работал над «Разрушением» почти десять лет и закончил этот исключительный труд в феврале 1962-го. Это были годы мамули, годы, когда он писал ее снова и снова, сначала экстатически, под конец яростно. Но «Разрушение» владело им, выматывало его; он пытался его забросить: утратил веру в свой талант, в способности передать свое видение, и в отчаяньи взывал к небесам. Однажды он вышел на кухню, осунувшийся, с красными глазами, чуть ли не в слезах, испуганный.
– Ох, Нэнси, что я наделал? Что я наделал, Нэнси?
А сделал он вот что: швырнул банки с краской на три готовых и два почти готовых холста. Мамуля за руку отвела его обратно в мастерскую, где под ее присмотром он, рыдая, все-таки счистил краску. Мамуля умела подбодрить, что да, то да.
«Разрушение» занимает целый зал в музее Табакмана в Тель-Авиве: Энтуисл преподнес его в дар государству Израиль, не столько в знак сочувствия народу, который преследовали и почти уничтожили – во всяком случае, так в кулуарах перешептывались циники, – сколько из опрометчивой обиды. Это мнение чудовищно несправедливо. Да, он обиделся. Энтуисл послал все восемь полотен на выставку в Королевскую академию. Прошел целый год с тех пор, как он положил последний мазок. Весь год он почти ежедневно приходил во флигель – его он освободил для этих работ и побелил там стены, бродил от картины к картине, играл с подтяжками, почесывал пах. Он был чрезвычайно горд тем, чего достиг – смог создать такое сложное произведение, безупречное по цвету, форме и настроению; куда меньше он был уверен в исторической достоверности и даже пригласил для консультации сэра Тревора Ридли, профессора из Оксфорда, специалиста по современной немецкой истории. К ученым он обычно относился с презрением: «Софисты хреновы, все как один мерзавцы. Оказывается, чем хуже делаешь, тем лучше получается! Ты погоди, Робин, вот как пойдут они твои книжки изучать!» Должен признать, смысл в его словах был. (Однако он пригласил ученого Копса стать его биографом! Не будем забывать об этом.) Так или иначе, но сам факт, что сэра Тревора пригласили провести выходные в Дибблетуайте красноречиво свидетельствует о том, насколько неуверенно чувствовал себя Энтуисл.
Королевская академия приняла только «День четвертый» из цикла «Восьмой день. Разрушение», объяснив свой выбор только тем «печальным, но неустранимым фактом», что выставочное пространство ограничено и для всех восьми работ места нет. В этом решении, возможно, и была крупица правды. Ведь Энтуислу под его работы понадобилась бы вся галерея. Но выбор «Дня четвертого» был обусловлен желанием не поднимать скандала. Работа была сравнительно благостная, несмотря на то, что все персонажи были прописаны мастерски – это были знаменитости художественного мира, «звезды» Веймарской республики, запечатленные в Пляске смерти. Мир тогда еще не желал знать всей правды о Холокосте, теме «Дня восьмого». У Королевской академии были обязательства перед публикой.
На это Энтуисл и обиделся. Обиделся – это еще мягко сказано. Точнее, он пришел в бешенство. Но я не думаю, что мы можем с чистой совестью не верить в его искренность. Он же художник. Более того, все это связано с тем, что он пережил, когда освобождали Берген-Бельзен, с ужасом, который он испытал, когда, совсем молодой, увидел воочию, к чему приводит бесчеловечное отношение одних людей к другим. Этот ужас его не отпускал. Он проникал в его сны, в его кошмары – во всяком случае, до тех пор, пока он не достиг катарсиса в заключительной работе цикла. Это открыло в нем, пусть и ненадолго, сочувствие и сострадание.
Письмо, которое он написал президенту Королевской академии, послав копии в «Таймс» и «Йоркшир ивнинг пост», стало известным, по крайней мере в тех кругах, где интересуются искусством и историей.
Уважаемый сэр!
Мой уход окончателен, поэтому я сообщаю об этом повсеместно. С гордостью заявляю, что больше не являюсь членом Королевской академии.
Вы выбрали для показа только «День четвертый» цикла «Разрушение», одну картину из восьми, но каждая важна для понимания всех остальных, и восьмая – это кульминация и средоточие смысла всей работы. Стыдитесь! Ваш выбор, вразрез с моими пожеланиями, одной картины и ваше намерение показать ее в отрыве от остальных, вопреки моей настоятельной просьбе и искреннему желанию удержать вас от этого, не оставляют мне другого выхода, и я вынужден забрать свою картину. Я позабочусь о том, чтобы вы, пока я жив, не получили ни одной моей работы.
Если в ваши намерения входило меня огорчить, приношу свои поздравления: вам это удалось. Прошу вернуть все мои картины, в том числе «День четвертый». Мне страшно подумать, что вы будете ее выставлять.
Вы меня поняли? Я отказываюсь от членства в Королевской академии.
Искренне ваш,
Сирил Энтуисл,
бывший член Королевской академии
Прошу извинить, что писал карандашом.
Энтуисл, эгоцентрик с рождения, был самовлюбленным типом и вдобавок видел себя героем собственного эпоса. Это сочетание укрепляло в нем желание полагаться на собственные эмоции как источник вдохновения. Ввиду этого, полагаю, создание «Разрушения» было неизбежно, но не столько из сострадания, сколько из стремления к самовыражению. Однако после Бельзена сострадание было – сострадание к жертве, к побежденному. А поскольку в 1945 году стало понятно, что главными пострадавшими от фашистов оказались евреи, и те из них, кому удалось выжить, в основном проживали в лагерях, теперь называвшихся лагерями для беженцев, и их отказывались принимать даже «цивилизованные» страны-победительницы, Энтуисл стал филосемитом. В его филосемитизме присутствовала толика патернализма, налет noblesse oblige, отношения я – они.
Такое сочувствие нельзя испытывать долго, оно зависит от конкретной обстановки. В случае с евреями его хватило до войны 1967 года. Они перестали быть жертвами, они больше не заслуживали сострадания, они стали самоуверенными, точнее сказать, нахальными. Как сказал с ухмылкой сам Энтуисл: «Мне эти бедолаги даже нравились, я, считай, их жалел, но теперь я подставил другую щеку». (К счастью для музея Табакмана, к тому времени, когда Израиль одержал свою сокрушительную победу, «Восьмой день. Разрушение» уже три года как украшал стены отведенной ему галереи.)
Но даже если бы филосемитизм Энтуисла пережил 1967 год, он бы не пережил предательства Фрэнни. Она была, по-моему, его «единственной истинной любовью» – выражение сентиментально-романтичное и затертое, однако в данном случае, на мой взгляд, уместное; она была единственной, в чьем присутствии он сознательно позволял себе дать слабину – не то что в случае с бедной мамулей: она сама должна была отыскивать его уязвимые места и жизнь класть на то, чтобы его утешать, но благодарностей за это почти не получала.
Для меня всегда было загадкой, почему он относился так именно к Фрэнни. Но в таких делах сторонний наблюдатель мало что углядит. Безусловно, ее уход был для него тяжким ударом, он целыми днями просиживал в «Крысе и морковке», роняя слезы в кружку с пивом, почти год не мог работать, что удручало его постоянных клиентов. Она явно не испытывала к нему таких чувств. Она любила сладострастные забавы – как и любая здоровая молодая женщина первого поколения, узнавшего «Радость секса»[112]112
Имеется в виду книга английского писателя и психолога Александра Комфорта (1920–2000).
[Закрыть], и, как многим девушкам, ей нравилось покуролесить с тем, кто вошел в «Кто есть кто?» знаменитостей XX века, и разница в возрасте для нее препятствием не была. Энтуисл же считал, что нашел спутницу жизни. «Бедняжечка мой», – вздохнула мамуля, когда узнала.
Мне было еще интересно, почему он решил сделать еврейку из Фрэнни – Фрэнни, в которой каждый жест, каждое движение выдавали англичанку-англиканку, если и не по склонностям, то точно по рождению и воспитанию. Но, думаю, теперь я это понял или по крайней мере начал понимать. Вероятно, он стал использовать слово «еврей» для выражения нежности или удовольствия, как аллюзию на часто цитируемого им Шекспира, в данном случае на слова Башки про лакомый кусочек мужской плоти (мужскую плоть пришлось бы заменить на женскую) и нежного еврея[113]113
Слова Башки из III акта пьесы У. Шекспира «Бесплодные усилия любви». В русских переводах М. Кузмина и К. Чуковского упоминание еврея опущено.
[Закрыть]. Но подсознательно, подозреваю, он пытался придать их отношениям форму, близкую его душевным стремлениям. Фрэнни была совершенно независимой молодой женщиной, имевшей все преимущества поколения, класса, семьи в которых она росла. Если ей и нравилось купаться в лучах чужой славы, то лишь так, как ее подруги радостно купались в лучах солнца на средиземноморских пляжах. Как и они, она с легкостью была готова поменять солнце Сен-Тропеза на солнце Акапулько – если так складывались обстоятельства. Для Энтуисла же еврей означал жертву, того, кто нуждается в поддержке и нежной заботе, кто благодарен за то, что его защищают, еврей – как птица со сломанным крылом, которую нужно выходить, прекрасная дама, которую рыцарь спасает от огненного дыхания и когтистых лап дракона. И называя Фрэнни еврейкой, он ставил ее в зависимость от того, кто освобождал Берген-Бельзен.
Не слишком ли я много напридумывал? Возможно. Простое объяснение можно, наверное, найти в голландском искусстве XVII века. В тот рождественский уикенд, когда я должен был познакомиться с Фрэнни, мы с Энтуислом сидели в «Крысе и морковке», укрепляли организмы алкоголем, чтобы хватило сил выдержать ежегодное бурное веселье, с которым встречают рождение Христа.
– Вот погоди, ты ее увидишь, – говорил он, похотливо причмокивая губами. – Помнишь ту картину в Рейксмузеуме, «Еврейку у ткацкого станка»?
– Пита ван де Кифта?
– Отлично, Робин! Да, Пита ван де Кифта. Так вот, Фрэнни очень на нее похожа, они просто двойники.
Должен сказать, когда я увидел Фрэнни, я не обнаружил никакого сходства с еврейкой с очаровательного портрета ван де Кифта. Впрочем, я смотрю не как художник.
Совершенно ясно, что даже если бы Фрэнни согласилась на ту роль, которую для нее придумал Энтуисл, их отношения все равно были бы обречены. Любил он ее такой, какая есть, а не той невероятной, какой нарисовало его воображение. Но в его воображении она была еврейкой, как ее ни определяй, и, как оказалось, эта еврейка предала его, не просто сбежала к другому, раздвинула перед ним ноги, умасливала теперь его эго, а этот другой был несомненный еврей, Ицхак Гольдхаген, флейтист из ада. И с этого момента Энтуисл стал антисемитом, в современном изводе – свой расизм он маскировал под антисионизм. А теперь появились и новые жертвы, прежде всего – палестинцы, судьбой которых он обеспокоен.
Что до меня, то я никакого особого мнения по этому вопросу у меня нет. Человек имеет право на предубеждения. Человеку от этого не уйти. У меня самого они есть, например, Флорида. У каждого может быть любимая мозоль. Но антисемитизм – это такое устаревшее предубеждение, оно сейчас встречается в основном в странах третьего мира, где пользуется большой популярностью. С чего бы ему возвращаться в Европу, совсем недавно в слезах вопившую про mea culpa[114]114
Моя вина (лат.).
[Закрыть], я понять не в силах, разве что мы допустим, как кто-то предположил, что антисемитизм – болезнь, всегда присутствующая в теле христианского мира, бацилла, которая ненадолго впадает в дормантное состояние, чтобы вновь воспрять в мутированной и более злобной форме. Как и в случае со многими заболеваниями из медицинской истории, единственное лечение, похоже, это кровопускание. Во всех остальных аспектах Энтуисл человек оригинальный, в чем-то даже высшего класса. А в этом вопросе он похож на человека, на деревенской площади в базарный день взявшего с вешалки поношенный костюм, синтетический, дурно пахнущий и отвратительно сшитый, но универсального размера.
Со временем он стал еще злобнее. Несколько недель назад, выступая на Би-би-си в программе «Прожектор», он заявил, что просто переиначил в соответствие с нынешними обстоятельствами слова еврейско-американского драматурга и сценариста Бена Хекта касательно действий британской армии в Палестине во времена Мандата: «У меня в душе праздник всякий раз, когда я слышу, что на Западном берегу или в Газе убили израильского солдата». Ведущий передачи Найджел Флайтинг понимающе хмыкнул. Так на девятом десятке Энтуисл, никогда не причислявший себя к интеллектуалам (он всю жизнь презирал их как класс) присоединяется к британскому интеллектуальному мейнстриму, и голос его звучит в унисон с поэтами, журналистами и учеными, сказавшими примерно то же самое.
Здесь в качестве коды я, пожалуй, добавлю, что в 1983 году, через двадцать лет после громкого ухода, Сирил по-тихому возобновил свое членство в Королевской академии.
– Решил дать этим занудам еще один шанс, – сказал он мне.
– Очень благородно с твоей стороны.
Он жестом показал мне – заткнись.
– Умников, Робин, никто не любит.
Думаю, к тому времени негодование, которым он пылал в 1963 году, он счел не просто устаревшим на двадцать лет, но еще и направленным не на то. Если он тогда и допустил ошибку, все равно в этой ошибке виноваты были евреи. Но я уверен, он вдобавок полагал, что великодушно дает Королевской академии «еще один шанс».
* * *
Телефон зазвонил, когда я еще не все вещи распаковал. Это был Энтуисл.
– Так ты вернулся?
– Очевидно.
– Видел еврея?
– Какого еврея?
– Робин, не пудри мне мозги.
– Да, я его видел.
– Дорогой мой мальчик! Непременно приходи на ужин. – Энтуисл пытался ко мне подольститься. – Клер готовит кассуле.
– Спасибо, но нет. Я только что прилетел. До Йоркшира у меня сейчас сил нет добраться.
– Так мы не в Йоркшире, нахалюга. Мы в Ноттинг-Хилле. Ты Бантера знаешь? Лорда Билли Пего? Нет? Ну, короче, он купил на Лэнсдаун-Райз дом для Беттины, для Беттины Карри, она для Бантера – пусть и вне брака, но как вторая жена. Ой, Робин, какие сиськи! Огроменные. Ума не приложу, как она их носит. Так вот, они на две недели поехали к нам в Сан-Бонне-дю-Гар, покувыркаться в тишине и покое. И пока их нет, мы присматриваем за домом на Лэнсдаун-Райз. Клер хотелось походить здесь по магазинам, посмотреть Мольера в Национальном театре, L’École des maris[115]115
«Школа мужей» (фр.).
[Закрыть], ну, и все прочее, чего ей не хватает в Дибблетуайте. Робин, дружок, ты уж приходи. Кассуле у Клер непревзойденное.
Это была чистая правда. Да и все равно мне надо было где-то ужинать. В холодильнике болтались только банка из-под горчицы, пакет скисшего молока и кусок сыра, который изначально был без плесени.
Клер – миниатюрная женщина, немного похожа на птицу, остроносая, с тяжелыми веками. Впрочем, в зрелом возрасте она вполне привлекательна, возможно, привлекательнее, чем была в молодости. Она неизменно бодра, проворна, как старшая медсестра, une infirmière-major, каковой некогда и была. «Главное, она не дает Мастеру Вилли[116]116
Возможно, ассоциация с Мастером Вилли (1977–2001) – знаменитым жеребцом-производителем.
[Закрыть] застояться». «Ах ты, грязная свинья!» – польщенно вскрикнула она. Он в равной мере пробуждает в ней и нежность, и раздражение.
Кассуле было превосходное, как и последовавшие за ним креп-сюзетт. Клер поставила перед нами бокалы для бренди и бутылку коньяка, подала нам по чашке эспрессо и удалилась.
– Ты не думай, что она такая деликатная, – сказал Энтуисл. – Чего нет, того нет. Просто по телевизору началось шоу «Кто кого?». Клер ни за что его не пропустит, хоть я тут замертво свались. Вот коза старая… – Но последняя фраза была сказана явно с нежностью.
Я передал ему послание Стэна, но он, похоже, потерял всякий интерес и к своей биографии, и к биографу. Глаза его смотрели, но словно ничего не видели, и дух словно бы покинул плоть.
– Как мамуля? – спросил он вдруг и, протянув через стол руку, схватил меня за локоть. – Как она?
Стараясь скрыть свою тревогу, я похлопал его по руке.
– Она уже скоро десять лет как умерла, Сирил. И ты это знаешь.
Он отпустил мою руку и вздохнул. По щеке скатилась слеза.
– Знаешь, я ведь любил ее, мою Нэнси. Она была лучшей из них.
Жаль, что ты так об этом ей и не сказал, подумал я.
– Почему она сбежала? Почему оставила меня, Робин? – Он переписывал прошлое прямо здесь, за столом.
– Потому что ты выгнал ее, сволочь.
– Что? Что? – Он потряс головой, будто хотел, чтобы в ней прояснилось. Видно было, как он возвращается в здесь и сейчас. – Робин, дружок, расскажи мне про этого мудака Копса. Он выживет? Он допишет эту чертову книгу? – Он отхлебнул эспрессо, поморщился и налил нам обоим бренди.
Я повторил послание Стэна.
– Почему, когда я впервые упомянул фамилию Копс, ты сделал вид, что слышишь ее впервые?
– Неужели? – Он усмехнулся, включив обаяние – точно так же, как полвека назад, когда он вручил мне премию за латинские стихи и трахнул мамулю за крикетным павильоном. – Ты уж прости старика, Робин. Память уже не та. – И он дважды резко потянул себя за мочку уха – как кондуктор, который дает водителю автобуса сигнал ехать дальше.
– Я видел твой портрет Полли Копс, Сирил. По-моему, это из твоих самых лучших, он великолепен, не уступает даже портрету мамули в образе Саломеи, тому, который в Ливерпуле, в галерее Уокера.
– Полли Копс! Господи, конечно же! Я называл ее Полип-в-попе. Она напоминала мне леди Макбет. Знаешь, вот это, про «держать в руках сосущее дитя»[117]117
У. Шекспир, «Макбет». Акт I, сцена 7. Пер. Б. Пастернака.
[Закрыть]. Боже мой, из Полипа-в-попе получалось отличное сосущее дитя. – Взгляд его на миг устремился вдаль, к былым удовольствиям. – Она ведь не была еврейкой, ни капельки, хотя вышла за еврея, недоноска с десятисантиметровым – так она рассказывала – членом, но это когда bandé[118]118
Здесь: в состоянии эрекции (фр.).
[Закрыть], как выразилась бы Клер. Как там его звали? Что-то, связанное с Черчиллем, да?
– Джером.
– Дже-ррро-оом… – Энтуисл нарочно растянул все слово. – Я видел его один раз. Мне хватило. Это было в Дибблетуайте, когда мы обговаривали условия. Он хотел, чтобы я приехал в Америку – за любые деньги. А я хотел, чтобы Полип-в-попе побыла в Йоркшире. Богат он был как Крез, и я счел разумным его подоить. Да и хрен с ним, сейчас он наверняка еще богаче. Ушлые они, эти евреи. Он-то был «корпоративным юристом», вроде так это называется, загребал какие-то немыслимые деньжищи, но при этом душа у него болела за рабочий люд, он был звездой pro bono[119]119
Ради [общественного] блага (лат.).
[Закрыть]. Бился за черных с Юга, за краснокожих… нет-нет, погоди-ка, за «коренных американцев». Полип-в-попе говорила, что он даже задницу подтереть не мог, не заговорив о том, в каких условиях трудятся рабочие на фабриках туалетной бумаги.
– Ну, так Стэн – его брат.
– И что ты скажешь? Как думаешь, у Стэна размер такой же, как у Дже-рро-оома? На тебе лежит груз ответственности, Робин. Ты выбрал этого евнуха в биографы к человеку, чьи сексуальные параметры заставили бы и Казанову призадуматься.
– Сирил, от тебя мало помощи. Этот несчастный ублюдок вынужден биться за каждый факт, за каждую подробность, которая вроде бы как считается зафиксированной в архивах раз и навсегда. Ты нарочно мутишь воду. Зачем тебе это?
– Ему заплачено достаточно. Пусть теперь попотеет, балбес.
– Чушь какая-то! Ты же сам его выбрал!
– Это ты так говоришь.
Он старый человек, великий человек, и это честь – быть с ним знакомым, но слушать эту белиберду я просто не могу. Он вел себя как больной, который не хочет рассказывать врачу о своих симптомах – мол, он врач, пусть сам и выясняет.
– Лично я знаю три версии того, кто твои родители. Первую рассказала мне мамуля, когда вы с ней жили, вторую несколько лет назад поведала Фрэнни, подкрепив ее документами и фотографиями, которые она нашла под лестницей в Дибблетуайте, третью изложил на днях Стэн в Коннектикуте. Не могут все три быть правдивыми, и свести их в одну никак нельзя.
– Да неужто? – Энтуисл перешел вдруг на йоркширский говор, какой теперь услышишь разве что в театре. – Гром меня разрази.
– Слушай, Сирил, Стэн меня мало интересует, мне до всего этого и дела нет. Но твой-то интерес очевиден. Это же твоя жизнь. Неужели ты не хочешь, чтобы рассказали правду, как бы она ни была подработана в твою пользу?
– Недоумок, ты себя-то хоть слышишь? Как бы ни была подработана? Как можно подработать правду? Ты в свое определение сам же мордой и утыкаешься. Если правда – это то, как ты это вроде понимаешь, значит, либо что-то есть, либо его нет. Подработать это нельзя. Ладно, хрен с ним. Разве правда не есть правда? Фальстаф врал великолепно. Шекспир это понимал. Правда – это то, что мы объявляем правдой, что мы, художники, говорим миру, и неважно, чем мы работаем, краской или словом. Где я скорее найду правду, в «Белой книге»[120]120
«Белая книга» – правительственный документ, представляется палате общин британского парламента.
[Закрыть] или в твоем романе? Ищи правду в метафоре, в символе, в фигуральном, а не в буквальном. Буквальным пусть занимаются бухгалтеры.
– Тогда я не понимаю, зачем тебе понадобился биограф. Если тебе кто и нужен, так это эпический поэт.
– Ну, если помнишь, сначала я предложил это тебе, ты, конечно, в эпической поэзии не мастак, но и времена теперь другие. – Он громко откашлялся и сплюнул в салфетку. После чего усмехнулся. – Клер терпеть не может, когда я так делаю.
– И кто ее за это осудит?
– Знаешь, я ведь не забыл, что ты получил премию за латинские стихи. Осмелюсь сказать, ты легко мог бы сочинить нечто – разумеется, по-английски, и, разумеется, в прозе – сочетающее величие Вергилия с остроумием Овидия. В два счета. Можешь, если захочешь, мамулю представить в роли Дидоны, представить, как я выношу, наподобие Анхиса[121]121
Анхис – герой древнегреческой мифологии. По преданию, был вынесен из горящей Трои своим сыном Энеем.
[Закрыть], своего отца из разбомбленного Лондона.
– Очень забавно, Сирил, очень.
– Черт, мне нужно поссать!
Энтуисл поднялся и полупобежал-полупоковылял из комнаты.
Я огляделся. Лорд Пего или, скорее всего, Беттина, «пусть и вне брака, но вторая супруга» склонялись к так называемым «гарнитурам»: в данном случае это был столовый гарнитур светлого дерева, по-современному безликий и унылый, по бокам по паре стульев, в торцах по креслу, с такими же буфетом и настенными бра. Стены неожиданным образом были выкрашены в темно-зеленый, возможно, так решил еще предыдущий хозяин. По стенам висели плакаты в разных рамах, и, судя по их эклектичности, можно было предположить, что куплены они были скопом, наверное, на Портобелло-роуд. Плакат лондонской подземки, призывающий обладателей билета на день отправиться подышать свежим деревенским воздухом в Голдерз-Грин висел бок о бок с плакатом из флорентийской церкви Орсанмикеле, рекламировавшим выставку Миро, афиша «Перикла» Королевской шекспировской труппы висела между рекламой мармайта[122]122
Мармайт – популярная в Англии пряная пищевая паста, изготовленная из концентрированных пивных дрожжей с добавлением трав и специй.
[Закрыть] и плакатом с выставки Ман Рэя[123]123
Ман Рэй (1890–1976) – французский и американский художник.
[Закрыть] в центре Жоржа Помпиду, и так далее. Если декор столовой соответствовал интерьерам остальных помещений, непонятно, как Энтуисл все это выдерживал.








