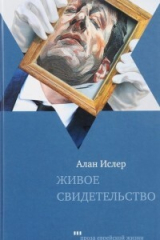
Текст книги "Живое свидетельство"
Автор книги: Алан Ислер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
– Отвали, подлюга!
– Тимоти?
– Прекрати немедленно, – резко одернула его Клер. – Ты всех смущаешь.
– О tempora! О mores![201]201
О времена! О нравы! (лат.)
[Закрыть] – провозгласил Сирил громко и торжественно, воздел руки вверх, устремил глаза на навес над головой. Первой расхохоталась нимфа, затем все остальные, даже Стэн засмеялся. Обстановка разрядилась.
Все принялись за еду, стучали ложками о миски, громко прихлебывали.
– Pas mal, ça, – сказала Клотильда мужу, – се potage juif[202]202
Он совсем неплох, этот еврейский суп (фр.).
[Закрыть].
Он уже доел свою порцию и облизывал ложку. И теперь мучился – как бы не согласиться с женой и не обидеть хозяев.
– C’est frais, au moins[203]203
По крайней мере, свежий (фр.).
[Закрыть], – мрачно ответил он и закурил «Голуаз».
Стэн понял из этого разговора достаточно и решил внести уточнение:
– Ce n’est pas un potage juif, Madame. C’est un potage russe ou polonais[204]204
Это не еврейский суп, мадам. Это русский или польский суп (фр.).
[Закрыть].
Клотильда непонимающе уставилась на него.
– Qu’est-ce qu’il a dit? – спросила она Эмиля. – As-tu compris?[205]205
Что он такое сказал? Ты понял? (фр.)
[Закрыть]
Эмиль лишь пожал плечами.
– Неважно, – сказал Стэн.
Клер и Клотильда собрали миски и понесли их на кухню. Сирил решил, что настал удобный момент побеседовать со своим биографом.
– Нет никакого смысла разговаривать о книге теперь, во время этого вашего визита. Завтра еще до полудня вы уедете. Марсель вряд ли сможет отвезти вас в Авиньон. Придется решать этот вопрос иначе. Есть еще автобус. У Клер должно быть расписание.
– Автобус меня вполне устроит.
– Ну, надеюсь, вы не рассчитывали, что я вас отвезу?
– Нет, что вы, конечно, нет.
– Значит, увидимся, когда я вернусь в Дибблетуайт. Вы можете остановиться в «Крысе и морковке». Хозяин – мой друг. Он о вас позаботится.
– Собственно говоря, я освобожусь только к весеннему семестру. У меня тогда будет творческий отпуск. Вряд ли я окажусь в Англии раньше января.
– Это прописано в нашем соглашении?
– Да, там все отражено.
– Проклятые юристы. На кого они работают, черт его знает.
– Вообще-то, – мирно сказал Стэн, – меня представляет мой агент, по совместительству – моя жена.
– Да ну? Семейный бизнес? – И Сирил потер большой палец о средний и указательный.
– Но мы можем поддерживать связь. Есть электронная почта, есть факс, есть, наконец, телефон.
Эмиль кинул замусоленный, еще дымящийся окурок на блюдечко перед ним. Ветерок понес дым прямо Стэну в нос. Он отклонился, но дым его преследовал. Он помахал рукой.
Эмиль усмехнулся, глянул насмешливо из-под припухлых век.
– La fumée vous dérange, M’sieur?[206]206
Вам мешает дым, мсье? (фр.)
[Закрыть]
– Все в порядке, – проблеял Стэн.
Тем временем Клер и Клотильда расставили чистые тарелки. А потом стали вносить блюда. Появились порезанная хала, дюжина бейглов, полдюжины булочек с луком, масленка, разнообразная копченая рыба, в том числе копченый лосось, селедка и в винном, и в сметанном соусе, форшмак, рубленые яйца с луком, говяжья солонина, кнедлики из мацы, маринованные огурцы и кусок халвы с шоколадом. Теперь стало понятно, что было в холодильнике, который сопровождал Тимоти и Стэна из Авиньона.
– Тут у нас еврейская еда, – сказал Сирил. – Все из лондонского Ист-Энда, все кошерное. Поскольку мы понятия не имели, что Стэну нельзя есть, мы подали все, что ему можно есть. Что касается напитков, то местное вино точно не кошерное, Бабетта поплясала на винограде своими поросячьими ножками, avec ses petit orteils du porcelet. – Тут он пробежался пальцами по руке девушки в бикини, отчего та захихикала. – Так что вот сельтерская, вот кошерная диетическая кока, вот холодный чай. Ну, приступим. Давайте денек побудем евреями.
Стэн чуть было под стол не нырнул. Теперь я понимаю его замечание по поводу еды из кулинарии, которую подавали у Джерома в Коннектикуте. Тимоти тут же смекнул, что Сирил хотел оскорбить Стэна, да и остальные тоже. Все было слишком явно. Как если бы Сирил пригласил на ланч известного афроамериканца, признанного во всем мире, и предложил бы ему, якобы чтобы не попасть впросак, капусту и арбуз.
Разумеется, будь у него в гостях афроамериканец, Сирил, вечный защитник угнетенных, так бы не поступил. Что Стэну оставалось делать? Он мог встать, заявить, что немедленно покидает Францию (во всяком случае, Мас-Бьенсан), и в гневе удалиться; он мог показать, как взбешен, как потрясен неприкрытым антисемитизмом, антисемитизмом, который даже не стараются приглушить благодушием; он мог бы сказать – опять же уходя, – что его юристы найдут возможность разорвать соглашение, в котором он больше не желает участвовать. Он ничего этого не сделал, он, бедняга, оказался загнан в угол. Ну как он мог уйти? Марсель точно не повез бы его в Авиньон. Стэн опять зависел бы от этих мерзких людей, без них ему было транспорт не найти, более того, ему пришлось бы просить их о помощи. Либо так, либо – он должен был подхватить весь свой багаж и волочить его на дикой жаре – как ребенок, сбежавший из дому – по пыльной дороге.
Естественно, чтобы все это проделать с куражом, нужно обладать внутренним достоинством, силой духа. Подозреваю, несчастный Стэн боялся, что будет выглядеть комично. Что ж, вполне вероятно. К тому же требовалось немало смелости вот так взять и встать – а он был среди чужих людей, в чужой стране, с рождения посторонний, всю жизнь мечтавший, чтобы его приняли в свой круг, наконец – он же гость в доме великого человека, намерения которого (ну, была же такая вероятность) он мог неправильно истолковать, – и, как и положено нервическому нью-йоркскому еврею – а они так бы его и восприняли – устроить «сцену» для не-евреев. В этом случае Стэн, Стэн, еще не получивший пули, не был Абдиилом[207]207
Серафим Абдиил в поэме Джона Мильтона «Потерянный рай» – единственный, кто смело выступает против Люцифера.
[Закрыть], не был он серафимом.
Для Тимоти этот безобразный эпизод имел и другой смысл. Он поймал взгляд Стэна, но тот, заметив это, тут же отвел глаза. Эта трапеза еще более мерзко усугубила неловкость положения Стэна: в поезде он так долго распространялся о том, как он жаждет попробовать в Мас-Бьенсане вкуснейшей прованской еды. Он наверняка воображал, как все будут хихикать за его спиной, когда Тимоти об этом расскажет.
На защиту Стэна встала Клер.
– Ты обидел нашего гостя, – скороговоркой сказала она Сирилу по-французски, и здесь мы должны полагаться на всегда безукоризненный перевод Тимоти. – В моем доме это не позволяется, дрочила старый! Немедленно извинись перед этим несчастным болваном!
Воцарилась тишина. Клотильда, Эмиль, Марсель и нимфа в бикини завороженно взирали на происходящее. Эмиль уронил сигарету изо рта, она зашипела в стакане с апельсиновым соком. Этим четверым выпала честь наблюдать за развитием подлинной драмы. Тимоти говорит, что не мог глаз поднять на Стэна, поэтому усиленно протирал салфеткой солнечные очки. Стэн, возможно, не разобрал французской речи, но по тону, интонации и жестам Клер понял достаточно.
Сирил осклабился на жену – как наглый подросток, которого одернул взрослый, но когда увидел ее поджатые губы и нахмуренные брови, вдруг посерьезнел и откашлялся.
– Слушайте, старина, – сказал он Стэну, – давайте без обид, а? Я думал, вам будет приятно.
И так он легко, без усилий в последний раз за эту унизительную трапезу унизил Стэна.
– Никаких обид, – сказал Стэн, раздвинув толстые губы в подобии улыбки. – Совершенно никаких.
Чего Сирил добивался? Частично – тешил свой привычный антисемитизм. Этот мир, он такой забавный, в нем и евреи есть. Сирил, пусть и либерал, отлично знал, что он – белый, он – англичанин, а Стэн – жалкий жид. Кроме того, он наверняка устанавливал отношения между биографом и героем биографии. Музыку заказывает он.
Можно было предположить, что Сирил на первой встрече со своим биографом, рассчитывая завоевать его расположение, захочет показать себя в лучшем свете. Не тут-то было. Сирил хотел подчинить себе биографа. Добившись этого, он мог держать под контролем материалы, из которых со временем должна была вырасти биография, создавать свой собственный портрет, как поэт Спенсер создал Рыцаря Красного Креста[208]208
Один из героев поэмы Эдмунда Спенсера (1552–1599) «Королева фей».
[Закрыть].
Должен сказать, что, слушая рассказ Тимоти, я начал сожалеть о своей роли в этой катастрофической истории. Сводя Сирила и Стэна, я рассчитывал навредить Сирилу, Стэн должен был быть лишь инструментом, с помощью которого я хотел оконфузить Сирила. Писал Стэн скучно, его стиль был, к счастью, неповторим – и этим стилем ему предстояло изложить историю жизни Сирила. В те времена мне это казалось упоительной шуткой. Такой я тогда был мерзкий. Но Сирил, похоже, затеял очередную игру и по ходу придумывал правила. Или скажем иначе: он ставил модель в ту позу, которая нужна была ему именно для этой картины, сознательно или нет игнорируя тот существенный факт, что модель – живое существо, что у нее есть жизнь, независимая от того, что изображено на холсте. И пока Стэн Копс считал, что он создает Сирила Энтуисла, Сирил создавал Стэна. И был вне конкуренции.
После ланча с еврейским угощением Тимоти ушел с Сирилом, Бэзилом и Эмилем играть в boules[209]209
Игра в шары, буль (фр.).
[Закрыть]. Стэн пошел к себе в комнату за ноутбуком, хотел, объяснил он, сделать несколько предварительных заметок о Мас-Бьенсане. Начинало смеркаться. В долгих прованских сумерках, где прохладный воздух пах сиренью, Тимоти попрощался и зашагал в деревню. Подойдя к воротам фермы, он увидел неподалеку фигуру, в наступавшей темноте уже почти силуэт на скамейке под яблоней. Это был Стэн. Он сидел, ссутулившись, обхватив голову руками, и раскачивался взад-вперед. Тимоти, который было собрался крикнуть что-нибудь на прощание, развернулся и, насколько мог незаметно, удалился.
* * *
Стэн появился на пороге моей квартиры в Болтон-Гарденз в девять вечера, без предупреждения. Я полагал, что он давно уже вернулся в Нью-Йорк: я отказался помогать ему искать «правду» относительно мамули, и причин менять планы у него не было. Однако вот он стоял передо мной, улыбался щербатым ртом, узел галстука у него был почему-то ослаблен и болтался где-то сбоку, воротничок расстегнут.
– Привет, приятель, ну что, в дом-то пустишь? – Он отрыгнул пивной пеной. – О-опаньки, звии-няйте! – и протянул мне руку.
Разумеется, я ее пожал. На рукопожатие не отвечают только те, кто совсем уж взбешен, или законченные грубияны, и то инстинкт приходится побороть. Как мне ни было противно, но от рукопожатия он перешел к объятиям, стиснул меня, прижал мои руки к бокам, затем отпустил и прошмыгнул мимо меня в холл. Я закрыл входную дверь и указал на дверь своей квартиры.
– Мило, – сказал он, оглядываясь по сторонам. – Ты один?
– Поздновато спрашиваешь. А если бы был не один? – Я, разумеется, был один, что и предпочитаю в последнее время.
Он прошел в «салон», как называет это помещение моя уборщица, и плюхнулся на диван.
– У тебя случайно не найдется бурбона?
Он еще не был совсем пьян, но очевидно к этому стремился.
– Ты ел что-нибудь?
– Конечно, сосиски с пюре, в «Спаньярдз-Инн», за ланчем. Пиво великолепное.
– У меня мало что есть, но яичницу и тосты сообразить могу. Хочешь?
– В мамулю играешь? – Он хитро посмотрел на меня и развалился на диване, поглядывая из-под полуприкрытых век.
– Если ты пришел расспрашивать меня про маму, уходи сейчас же.
– Об этом – молчок! – сказал он и по-девчачьи хихикнул. – Ладно, давай свою яичницу. Но сначала бурбона. Со льдом. Есть?
У меня действительно была бутылка «Боевого петуха», подарок моего американского издателя. Я налил ему виски, пожарил яичницу и тост. Когда я ставил еду на кухонный стол, он подливал себе следующую порцию. У меня было не слишком тепло, но на лбу у него выступил пот. Стэн, в ту пору, когда я его знал, много не пил. Однако он сидел передо мной и запивал каждый проглоченный кусок бурбоном. Затем он вернулся в салон, на диван: в одной руке стакан, в другой бутылка бурбона.
– Ты-то что не пьешь? Давай, поддержи компанию. – Он плеснул себе еще и протянул бутылку мне.
Я взял ее и поставил на стол.
– Не люблю бурбон.
– Ну, пей что хочешь, – великодушно разрешил он, махнул рукой в сторону шкафчика с напитками и расплескал виски из стакана. – Опаньки!
– Я думал, ты уже в Нью-Йорке.
– Послал Саскию вперед. Хотел немного побыть один, – весело сообщил он. – Нужно иногда немного времени для себя. Вечно вместе – это со временем может немного осточертеть. – Тут лицо у него вытянулось, он чуть не всхлипнул. – Боже мой, Робин, ты единственный мой друг, единственный!
У несчастного ублюдка вообще не было друзей.
Он потянулся за бутылкой, снова себе налил. Уже безо льда.
– Стэн, может, кофе?
Он уставился на меня – глаза за толстыми стеклами казались неестественно большими – и попытался презрительно усмехнуться.
– Предпочитаешь бодрствующего пьяницу спящему, да?
– Я бы выпил чашечку. Я все-таки сварю.
Как бы выставить его, пока он еще держался на ногах? Говорить, что уже поздно, было еще рано.
Я вернулся с подносом, где кроме всего прочего было и шоколадное печенье – такой я заботливый хозяин, а он уже пил из горла.
Он взглянул на этикетку.
– «Боевой петух»? Ты что, издеваешься?
Я поставил перед ним чашку, налил кофе.
– Вот, попробуй.
– Отправил ее назад к этому гребаному Джерому, «гребаный» – это и причастие, и вездесущее прилагательное. Выбирать не надо. – Он закрыл ладонями глаза, сложив их так, что они вместе со ртом составили треугольник. – Господи Иисусе! Этот гребаный Джером всегда получал что хотел, ну, и моя жена – не исключение. Да пошла она, сука! Пусть как хотят.
– Стэн, не делись ничем, о чем завтра пожалеешь.
– Я их застукал, Джером на ней – так юнцы отжимаются, у нее глаза в тумане, она повизгивает в экстазе. Я его просто сбросил с этой шлюхи. Он вымелся из комнаты – сам уже визжал. – Он с омерзительным скрипом рассмеялся. – Спрятался в шкафу, гол как сокол, жалкий трус. Я ее здорово отдубасил. Синяк под глазом не просто синий был, а всех цветов радуги с преобладанием темно-желтого и сизого. Послал ее ко всем чертям, суку эту. Надо было там и оставить. – Стэн швырнул очки на стол, потер кулаками глаза – так делают маленькие дети, чтобы не заплакать. – Она, конечно, приползла обратно. Сказала, что ей нужно трахаться, а я не хочу. Сказала, мы просто трахались, больше ничего. Она решила, что это – оправдание. Измена как лекарство. Да здравствует совокупление! «Давай все забудем», – сказала она. Ну давай, почему бы и нет?
Стэн к кофе не притронулся, взял бутылку, сделал еще глоток.
– Это я делал вид, что не хочу, – продолжал он. – На самом деле у меня больше не встает, с тех самых пор, как я сыграл в героя и схлопотал пулю. Мой верный штуппер[210]210
Здесь: член (идиш).
[Закрыть] больше не может штуп[211]211
Совокупляться (идиш).
[Закрыть]. Так-то вот. «Боевой петух», это ж надо же! – Тут наконец его прорвало, и он разрыдался.
Я не знал, что делать. Был порыв подойти и утешать, но хотелось и отодвинуться с отвращением подальше, оставить все как есть. Я замер, ждал, пока он уймется. Бедняжка Саския не столько была причиной его отчаяния, сколько усугубила его. Он, жалкий человек, в своей слабости накинулся на ту, которая была его физически слабее. А она, преданная душа, отрицала, что он над ней надругался. Она скрывала этот позор, даже приписала Стэну чуточку галантности. Я чувствовал, что равновесие нарушается, отвращение к нему пересиливало сочувствие.
Наконец рыдания стихли. Он надел очки и глотнул еще бурбона. Он опустошил бутылку уже больше чем наполовину.
Он шмыгнул носом.
– В физическом смысле с ним все в порядке, это все психология. Старый петух отказывается идти в бой. Имп… Импл… Импор… Просто не встает. Для терапии я слишком стар. Понадобится еще лет двадцать, чтобы с этим справиться.
– Стэн, стоило ли все это мне рассказывать?
– Ты же мой друг, Робин.
– И тем не менее…
– Почему она досталась Джерому? – всхлипнул он. Говорил он уже медленно и не очень членораздельно. – Я все еще хочу ее, хочу эту шлюху. – Он вскинул руки и обратился к потолку: – Саския, любовь моя, о Ссасския!
– Теперь есть таблетки от импотенции. Говорят, действуют безотказно.
Он фыркнул.
– Еще одна шуточка Бога. Пробовал я их. У меня от них понос, голова трещит и сиськи болтаются как у бабы, больше ни хрена. Ну, и жжет черт-те как, когда мочусь. По десять с лишним долларов за раз – оно того не стоит.
Он раскинулся на диване.
– Я так устал, Робин. Глаза закрываются, надо мне… – И он тут же захрапел.
Я взял бутылку, завинтил крышку, убрал в шкафчик. Что теперь? Я обернулся посмотреть на него, а он как раз резко дернулся, его вырвало – вонючая жижа залила его самого, диван, печенье, – и тут же захрапел дальше. По-моему, он был счастлив.
6
Книга «Сирил Энтуисл. Жизнь в цвете» вышла по обе стороны Атлантики, как раз когда все начинали покупать подарки к Рождеству, стоила 35 фунтов в Англии и 50 долларов в Соединенных Штатах. Цена сама по себе должна была свидетельствовать о важности издания. В Америке у Стэна брал интервью Морти Уолитцер из передачи Пи-би-эс «Город вечером», а это явный признак не только того, с какой серьезностью отнеслись к этой биографии по ту сторону океана, а также того, какие люди были чем-то Саскии обязаны; здесь, в Великобритании, Сирил появился на бибисишной программе «Книги и личности» – а это ясно указывало на недостаток серьезного внимания, которого, по мнению местных cognoscenti[212]212
Знатоки (ит.).
[Закрыть], биография заслуживала, – и отказался беседовать о книге, снова и снова возвращая бедного Пирса Таунсенда к разговору о том, как туго приходится «ХАМАС» и «Исламскому джихаду». «Как мы можем говорить об этом малостоящем жизнеописании, когда в Палестине мужчины и женщины гибнут ради свободы?»
Франклин Пангборн, старейший из американских искусствоведов, автор давно распроданной монографии «Блумсбери и пределы искусства», а ныне директор Музея изящных искусств в Ошкоше, написал рецензию для «Нью-Йорк таймc». Он цитировал Роберта Скидельски, который назвал биографию «заметками соглядатая, снабженными примечаниями». Пангборн был более милостив: похвалил отдельные удачи в работе Стэна: «Чувствуется, что автора искренне влекут участники основных эротических картин»; «Копс ярко живописует йоркширский Дейлc, каким он представляется в воображении английского среднего класса, и подчеркивает его особую значимость для дихотомии север – юг в английском искусстве», но также указывает на «роковую страсть» автора упорно описывать своего героя в примитивных фрейдистских терминах. «Эдип, вынужден отметить я, это лекало, которое Копс накладывает на героев всех написанных им биографий, что, полагаю, вполне допустимо, когда герой, как Хогарт или Копли, уже не может возразить, но гибельно, когда он жив». Пангборн пенял Стэну: наблюдения соглядатая – даже если все так и было – за тем, что происходило в спальне Энтуисла, никак не помогают нам лучше понять художника и его творчество. «Для какого читателя Копс пишет? – изумлялся Пангборн. – Какому серьезному студенту-искусствоведу интересно, что за позы предпочитал Энтуисл в сексе? Неужели так трудно нащупать грань, за которой хорошо бы быть поскромнее?»
Пангборн задал тон (или – великодушнее – подал пример тона), который переняли большинство американских рецензентов. Ирвинг Карпф, профессор истории искусств Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в статье для «Нью-Йорк ревью оф букс» процитировал Филипа Гедаллу: «Биография, как и охота на крупного зверя, известный вид спорта и бывает так же несправедлива, как и спорт». Карпф скомпоновал рецензию на книгу с рецензией на выставку работ английских художников военного времени «В атаку!» в Центре британского искусства в Йейле. Он даже взял на себя труд позвонить Сирилу в Йоркшир, узнать его мнение о биографии. «Черт меня подери! – вроде бы сказал Сирил. – Не читал я эту хрень. Так она что, вышла?»
На этот приведенный в статье ответ тут же последовал отклик Стэна, первый из многих: он цитировал пункты и подпункты соглашения, заключенного им с Сирилом Энтуислом и издателями. Он заверил читателей книжного обозрения, что Сирил не только получил экземпляр с окончательным вариантом, но и оставил свои замечания, которые биограф принял к сведению. «Сирил Энтуисл и я достигли полного взаимопонимания во время работы над этой биографией. Художник никогда не навязывал свое мнение относительно того, как я трактую его жизнь, никогда не навязывал свое видение событий, однако активно участвовал в создании целого. Я готов предоставить его записанные на пленку или данные в письменном виде ответы касательно окончательного варианта текста. Я не ставлю под сомнение точность изложенного профессором Карпфом, но понять этого не могу. Сирил Энтуисл является, вне всякого сомнения, величайшим английским художником прошлого века, но, увы, он не молодеет. Возможно, его комментарий – следствие забывчивости».
Конечно, вряд ли многие из читателей обратили внимание на опровержение Стэна. Несправедливо? Что ж, это, может, и банально, но по-прежнему верно: жизнь несправедлива.
В Англии отклики были такие же вялые, как и в Америке. Интересно отметить схожесть схемы. По обе стороны Атлантики рецензент начинает с цитаты, которая задает тон всей статье. Чарлз Буллоу в «Санди тайме» обратился к Вирджинии Вулф: «Пусть биограф запишет точно, целиком и полностью, известные факты без комментариев, ну а уж потом пусть опишет жизнь как вымысел». Далее в статье давалось понять, что в книге «Сирил Энтуисл. Жизнь в цвете» вымысла куда больше, чем фактов. Артур Тичборн начал с Ортеги-и-Гассета: биография – это «система, где противоречия в человеческой жизни объединены». Магнус Финч-Лайонс в «Лондон ревью оф букс» копнул чуть глубже. Он процитировал письмо Райнера Марии Рильке герцогине Аурелии Галларати Скотти: «У некоторых людей их духовное место рождения совпадает с тем, которое упомянуто в их паспорте, и такое совпадение с внешними обстоятельствами должно дарить неслыханную радость». Аргументы Финч-Лайонса подводили, разумеется, к тому, что немногие подробности жизни Энтуисла, упомянутые в биографии Стэна, соответствовали фактическому человеку, но никак уж не его духовной сущности, что бы это ни значило.
Выдать окончательное суждение о «писателе, который мало понимает в искусстве, а уж хорошо писать и вовсе не умеет», предоставили Тобиасу Партриджу, редактору почтенного «Арт энд Калчер квотерли», отрецензировавшему биографию в «Таймс литерари саплмент». Партридж начал с Оскара Уайльда. «Нынче у каждого великого человека есть ученики, а биографию его обычно пишет Иуда». От всех остальных критиков – «шакалов-наймитов», как назвал их Стэн в очередном возмущенном письме к редактору, – Партридж отличался оскорбительно-насмешливым тоном.
Копс применяет к Энтуислу весь фрейдистский арсенал – ему явно невдомек, что гипотеза об Эдипе кошмарного венского доктора давно уже опровергнута. Тяга Энтуисла к стольким женщинам, многие из которых были старше него, подается нам – не сомневаюсь, что Копс при этом совершенно невозмутим, – «безусловно, как тяга к матери и к лону, из которого он появился на свет». Поскольку он не мог в буквальном смысле убить своего отца, он убивал его в выдуманных историях о его смерти то ли в Первую мировую, то ли вскоре после (если он хотел подчеркнуть свое происхождение), представляя его офицером и джентльменом или же (если хотел считаться выходцем из рабочего класса, с трудом разорвавшим связывавшие с ним путы) как плебея и чудовище.
И в этот момент Копс, ликуя так, словно сумел превзойти Робин Гуда, с помпой представляет своего кандидата, однорукого пианиста из Сан-Франциско, умершего в 1957 году. Не желая касаться деликатного вопроса об отце Энтуисла – и, осмелюсь сказать, мы не промахнемся, если с уважением отнесемся к очевидному желанию живого художника сохранять касательно этого приватность, – я сам могу уверить читателя, что предположение Копса неверно. Рецензенту не потребовалось особых усилий в области «исследований» (этому слову автор придает почти сакральное значение), чтобы выяснить: Энтуисл, который играл на пианино в каком-то сомнительном баре в Сан-Франциско, родился в Ланкашире, а не в Йоркшире, и что звали его Джордж, а не Джайлз.
Далее Партридж рассказывает, что знает Энтуисла более сорока лет и что хоть и не решился бы назвать их отношения дружбой, поскольку они слишком часто расходились в мнении по профессиональным вопросам, однако он с огромным уважением относится к его таланту. Энтуисла, пожалуй, нельзя вписать в схему линейного развития английского искусства XX века, но истоки его творчества – оттуда; он буен, уникален, эксцентричен, однако безусловно принадлежит этому времени и месту. Копс, утверждал Партридж, явно глух к созвучиям души этого удивительного художника. Далее Партридж писал, что не смог узнать «в этой огорчительной биографии» ни Энтуисла, ни его работ.
Рецензия Партриджа вызвала поток писем, которые редактор публиковал шесть недель, но затем прекратил. Во многих письмах имелись добавления к едким замечаниям Партриджа. На большинство из них Стэн отвечал, пытаясь хоть как-то защититься от обрушившейся на него критики. Однако он был вынужден признать, что Партридж прав касательно сан-францисского Энтуисла, он сделал «непростительное» допущение, что Дж. Энтуисл – это Джайлз. Исправления внесут в следующее издание, если таковое будет.
Было ясно, что книга Стэна скоро отправится на столы нераспроданных остатков, мертворожденное дитя, не так зачатое, не так выношенное. По иронии судьбы в ней было слишком много об искусстве, поэтому она не представляла интереса для тех, кого могла заинтересовать книга, написанная человеком, в которого стреляли в порнопритоне, о человеке, признанном блядуном мирового уровня. В крупных книжных сетях ее уже предлагали с пятидесятипроцентной скидкой. Пытаясь как-то окупить вложенные деньги, английский издатель Стэна уговорил старого однокашника по Харроу, имевшего влияние на Би-би-си, свести Стэна и Сирила в получившей множество премий литературной программе «Сверстано», которую вел светский лев Алистер Рэли. Это был чудовищный провал, биографию там заклеймили окончательно, а автор натерпелся унижений. Сирил к тому времени уже решил отречься от Стэна.
Все происходило в обычных декорациях программы: залитый теплым светом уголок некой воображаемой, но богатой библиотеки, с полками, заставленными старинными книгами в прекрасном состоянии. Алистер Рэли и его гости сидели в глубоких кожаных креслах, перед ними – изящный низенький столик эпохи королевы Анны, на сверкающем серебряном подносе хрустальный графин с тремя бокалами и, разумеется, книга «Сирил Энтуисл. Жизнь в цвете».
Камера пошла от Рэли – тот поприветствовал гостей – сначала к Сирилу: он сидел, гордо расправив плечи, одетый, как подобает сельскому джентльмену, в твидовый костюм и клетчатую рубашку с расстегнутым воротом. Камера помедлила на его дрожащих и трясущихся руках и двинулась дальше, к лицу – в старости оно стало благородным и монументальным, но словно застывшим. Камера перешла к Стэну, цирковой обезьянке Тимоти, хотя обезьянка была наряжена в сшитый на заказ серый двубортный костюм с галстуком из плотного алого шелка. Кресло, в котором он сидел ссутулившись – пытаясь, видимо, так изобразить непринужденность, поглотило его, однако по лукаво-елейному выражению его лица было понятно, что он нервничает.
Контраст между этими двумя людьми был разительный. Каждый, похоже, решил не замечать присутствия другого. Я смотрел передачу в телевизионной комнате на цокольном этаже клуба «Реформ», со стаканом «Макточиса» в руке. И словно слышал запах враждебности – он будто пропитал атмосферу уютной библиотеки. Однако Рэли – опытный интервьюер. Он задал Стэну несколько невинных вопросов, на которые тот начал отвечать, дал ему возможность сказать несколько хорошо отрепетированных слов о том, как он счастлив и горд, что ему выпала честь работать над биографией этого великого художника. Пока Стэн разглагольствовал, камера ненадолго обратилась к Сирилу – показать его реакцию. И поймала человека, разглядывающего потолок с таким видом, будто он сидит в церкви и ему нестерпимо хочется помочиться, но он не может встать, пока викарий не закончит проповедь. Публика в студии, заметив его гримасы, захихикала.
Рэли повернулся к Сирилу:
– А почему вы выбрали профессора Копса, мистер Энтуисл?
– Ладна тебе, Алистер. Ты мож’шь и лучше. Давай, с’берись.
Сирил, чувствовавший себя в телестудии как дома, подмигнул в камеру. Он говорил с густым йоркширским выговором, что сигнализировало: скандал неминуем.
– Хотите сказать, не вы его выбрали?
– Эт’го? Чтоб я, да такого тупого гнома? Дум’ешь, я с’всем того?
Сначала аудитория в студии охнула, а потом разразилась смехом, перешедшим в хохот, когда Сирил приставил правый большой палец руки к носу, а левый – к правому мизинцу и помахал всей этой конструкцией несчастному Стэну.
Камера запечатлела лицо Стэна – такое лицо всем начинающим художникам можно было бы показывать в качестве примера сильного потрясения. Челюсть у Стэна упала, глаза вылезли из орбит, правой рукой он схватился за сердце, словно боялся, что оно выскочит из груди. Выражение лица падшей женщины на «Проснувшейся совести» Холмана Ханта, картине, с которой десятки лет назад Стэн начал набеги на жизнь английских художников, выражение столь непереносимое, что первый владелец просил художника смягчить его, так вот, это было ничто по сравнению с лицом Стэна.
Что до Рэли, то камера показывала нам человека, разрывавшегося от сознания того, что он теряет контроль над передачей, и в то же время понимавшего, что эта сцена обеспечит ему посмертную славу, что это – знаменательный момент в истории телевидения и, быть может, в истории искусства. Его можно было поставить рядом с тем моментом в беспощадном интервью Мартина Башира с принцессой Дианой в 1995 году. Он осторожно попробовал продолжить:
– А если не профессор Копс, то кто?
– Сопляк, что написал про Освальда Мосли[213]213
Освальд Мосли (1896–1980) – британский политик, основатель Британского союза фашистов.
[Закрыть] и Эньюрина Бивена[214]214
Эньюрин Бивен (1897–1960) – британский политик-лейборист.
[Закрыть], парень из Йоркшира, Фредерик Купер, так? Короче, он самый. Фред Копс/ Фред Купер. Ошибиться легко. Кто-то скажет, я сам виноват. Я что, знал? Ну да ладно. Меня и корите.
– Так вы изначально хотели пригласить Фредерика Купера писать вашу биографию?
– Ага. – Сирил снова подмигнул на камеру, и зрители снова засмеялись. – Купер – имя-то получше, чем Копс.
Стэн больше был не в силах сдерживаться. Он вскочил.
– Лжец! Лжец! Лжец! – заверещал он.
Судя по растопыренным скрюченным пальцам, он готов был вцепиться Сирилу в глотку. Но Рэли тоже поднялся и встал между ними.
– Джентльмены, джентльмены!
– У меня сохранилась переписка! – вопил Стэн. – Есть аудиопленки! Блокноты с моими записями! Он, блядь, лжец!
Тайнен[215]215
Кеннет Тайнен (1927–1980) – английский театральный критик, борец с цензурой, известный свободой нравов. Считается, что он первым произнес на английском телевидении слово fuck.
[Закрыть], по легенде, грязно выругался несколько десятилетий назад, с тех пор ругаться на английском телевидении стало делом обычным, но никто раньше не ругался на программе «Сверстано» – кроме тех случаев, когда гость цитировал свое или чужое творение. Так что это было не столько infra dig[216]216
Сокращенное от infra dignitatem, ниже достоинства (лат.).
[Закрыть], сколько неожиданно.








