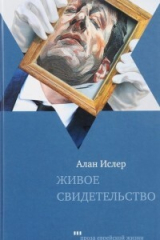
Текст книги "Живое свидетельство"
Автор книги: Алан Ислер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
У Стэна челюсть отвисла. Он с собачьей тоской смотрел то на меня, то на Саскию.
Саския пришла в бешенство и встала из-за стола.
– Стэн, отвези меня в отель. Я неважно себя чувствую.
Черт, я опять за старое! Видно, я считал себя Гиперионом, а Стэна сатиром[50]50
Гамлет в пьесе Шекспира сравнивает своего отца с Гиперионом, а Клавдия с сатиром.
[Закрыть]. Вот два изображенья: вот и вот[51]51
У. Шекспир «Гамлет». Акт III, сцена 4. Пер. Б. Пастернака.
[Закрыть]. Я рассчитывал, что она увидит разницу между Стэном и мной, мое очевидное превосходство – в плане физическом, интеллектуальном, абсолютно во всем. Она вполне увидела разницу, но пусть волосатый Стэн и был сатиром, она им дорожила. А что до Гипериона, чью роль выбрал я, на ее взгляд, меня в этом спектакле было многовато.
Стэн снял бейсболку.
– Может, отдать ее Джейку?
– Стэн! – сокрушенно сказала Саския.
Он поднялся и с сожалением протянул мне руку.
– Слушай, так здорово было… Но Саския, ну, ты понимаешь… Жаль, что так получилось. Давай держать связь.
Я слышал, как Саския по дороге к выходу сказала:
– Нет, Стэн, даже не думай. Никакого метро. Поедем на такси.
* * *
И все же, каким был «настоящий» Стэн Копс? А что, если рана от пули, полученной им в порнопритоне, оказалась смертельной? Что, если, пусть это и трудно представить, некий введенный в заблуждение биограф, когда пройдет достаточно времени после обязательных некрологов, погребения, поминальных служб, решил взяться за историю Стэна Копса? И он по ходу дела наверняка захочет взять интервью у всех, кто знал Стэна, в том числе и у меня. Но у каждого из нас свой опыт общения с этим человеком, у каждого свои уже уточненные воспоминания. Плюс у каждого из нас есть образ себя, который он хочет сохранять и охранять. То, как мы видим себя, определяет то, как мы видим других. Каким винегретом из неверной информации, какой смесью разных точек зрения мы одарим беднягу биографа!
К тому же и сам биограф – не tabula rasa[52]52
Чистая доска (лат.).
[Закрыть]. Из мусора, что он насобирает, он сохранит те отбросы, которые сочтет важными, и все это подаст в соответствии со своим пониманием. Что-то отшлифует, что-то подштопает или перекроит, и вот уже сборище, которое не только ему нравится, но и подчеркивает важность предпринятого им дела. Однако его Копс будет не такой, как у меня, Саскии, Тейтельбаума или кого-то еще. Все биографы немного подрабатывают объекты своих исследований, придумывают их заново. Прошлого не переделать, но, с другой стороны, его нельзя узнать до конца. Я говорю не только о великих событиях, над которыми размышляют серьезные историки, но и о тех живых воспоминаниях о прошлом, воспоминаниях о совершенно обычных вещах, что хранятся в головах простых и ничем не примечательных людей. И тут стоит задаться вопросом: а где же правда?
* * *
В 1975 году ни Стэн, ни Энтуисл друг о друге ничего не знали – во всяком случае, так я думал. Британский институт искусства на Стрэнде устроил ретроспективу Энтуисла, и как-то днем, когда мы с Саскией прохлаждались вместе, я посоветовал ей туда сходить. Но она заявила, что Стэна современное искусство не интересует, а поскольку она хочет ему помогать, у нее есть время только на Сарджента и его современников. Ирония судьбы – все обернулось совсем иначе. Ирония судьбы была и в том, что, когда я переживал размолвку с Саскией, меня пригласили на рождественские праздники в Дибблетуайт, где Энтуисл собирался познакомить меня с очередной пассией.
Дибблетуайт находится между реками Юр и Суэйл, ближе к Тереку, а не к Рипону. Когда-то он относился к Уэст-Райдингу, а теперь входит в Норт-Йоркшир[53]53
Уэст-Райдинг и Норт-Йоркшир – области Йоркшира.
[Закрыть], впрочем, эти административные пертурбации никак на самой деревне не сказались. Дибблетуайт не отличается живописностью – разве что вам нравятся унылые пустоши, на каковых он и расположен. Он гордится своим пабом, некогда называвшимся «Герцог Хамфри», но к 1975 году ставшим «Крысой и морковкой», где поили восхитительным элем и кормили отвратительной едой, а атмосферу определял хозяин Альберт Доггет, мрачный мужчина с хриплым смехом. В деревне была еще лавка, торговавшая бакалеей и канцтоварами, и почта, а еще булочная, где продавали фасованный хлеб, сосиски в тесте и булочки с лимонным кремом, прачечная самообслуживания с двумя стиральными машинками и тремя сушками, несколько домиков рабочих, заброшенная церковь Святого Суитина – готическая руина безо всякого романтического флера с крохотным заросшим кладбищем, на котором при сильном ветре можно было разглядеть пару покосившихся надгробий, а рядом – опустевший домик викария, последний обитатель которого ушел на покой в 1938 году. Жителей Дибблетуайта можно было бы назвать «спальным сообществом», поскольку днем здесь, считай, ни души, только вот «сообщество» – неподходящее слово, поскольку оно подразумевает людей сколько-нибудь значимых. Но те немногие, кто здесь живет, в основном вкалывают на фермах, а жены их по утрам отправляются на автобусе в Рипон, где работают в «Теско» или уборщицами в частных домах. А сообществом они становятся разве что на посиделках в «Крысе и морковке».
Здесь, в Дибблетуайте, и родился в 1920 году Сирил Энтуисл, здесь провел большую часть жизни. С 1940-го по 1946 год он служил в армии, а позже проводил лето в Сан-Бонне-дю-Гар, где родилась Клер Бьенсан, единственная из всех его женщин, которой удалось опутать его узами брака. Но сейчас мы в 1975 году, до Клер еще двадцать лет. Сейчас дама его сердца – Фрэнсис Гилберт, Фрэнни, художница-любительница, акварелистка, которая явилась из дома номер три по Черч-энд, заручившись поддержкой общества акварелистов Финчли. Энтуисл был ей зачарован.
– В ней есть что-то восточное, – объяснял он мне за пинтой пива в «Крысе и морковке». – Обрати внимание: легкий пушок над верхней губой – его видно при правильном освещении, золотистая кожа словно в ароматной испарине, под мышками волосы густые, курчавые, влажные, а уж поросль на лобке – но нет, этого ты не увидишь, я не позволю. – Энтуисл не без смущения смеется. – Боже всемогущий, я просто голову теряю! Она, понимаешь ли, еврейка, и необрезанный член ее завораживает. Еще бы!
Фрэнни ждала от сельской жизни того, что прежде в Дибблетуайте не наблюдалось. Она считала, что Энтуисл – из местной аристократии. И ему, и ей нужно было держать марку. На станцию в Рипоне он подъехал за мной на Лендровере. Фрэнни, объяснил он, посещает местную беспробудную бедноту, а затем будет помогать поварихе готовить нам ланч. Энтуисл был в твидовой кепке, в харрисовского твида пиджаке с клетчатым жилетом, кремового цвета рубашке с вязаным галстуком, светлых бриджах и начищенных сапогах. В руке он держал хлыст.
– Ты на себя не похож, – сказал я.
– Оно и к лучшему. У меня тут, в Дибблетуайте, множество обязательств. Noblesse oblige[54]54
Положение обязывает (фр.).
[Закрыть]. Фрэнни, она мне глаза открыла. Плебс ждет от более удачливых некоего стиля во всем. Так проще побороть сомнения. Так они понимают, что мы их, если что, не бросим.
– Ты что, стал социально ответственным?
– Это все Фрэнни. Раньше мне на мир угнетенных было плевать. Я на них клал с прибором. Каждый сам за себя. Мне вот никто не помогал.
Энтуисл махнул рукой, показывая мрачному хозяину на пустые стаканы, тот осторожно покашлял.
– Мне не терпится познакомиться с Фрэнни.
– Уверяю тебя, оно того стоит.
Энтуисл и впрямь переменился. Тот Энтуисл, которого я давно знал и которым по-своему восхищался, был из тех, кого на жаргоне 1975 года называли «мужской шовинистической свиньей». Моя собственная мать за многие годы до этого пала жертвой его сексуальной невоздержанности. Он был закоренелым эгоистом, и ему был до лампочки так называемый общественный договор. Он был деспотом. Полагал, что люди, в особенности женщины, существуют для того, чтобы ему прислуживать. Жизнь свою он строил по принципу sic voto, sic jubeo[55]55
Так я хочу, так я велю (лат.).
[Закрыть] – действую согласно своей воле, и никак не предполагал, что его желания могут ставиться под сомнение другими. Но, странным образом, была в его установках некоторая наивность, детский эгоцентризм, притягивавший к нему даже тех, кого он, использовав, отбрасывал.
Однако теперь, похоже, это был Энтуисл, размякший от песни сирены, Энтуисл, который, подобно Геркулесу, повстречал свою Омфалу и, возможно, утратил героическую мужественность.
Мамуля оправдывала его недопустимые поступки «кошмарным» детством, «жутким» воспитанием. «Бедненький мальчик, чудо, что он выжил, мало того – преуспел». Его отец, Джайлз Энтуисл, покинул семейную ферму в 1915 году – горел желанием сражаться против кайзера. Для этой цели он поступил в Йоркширский королевский фузилерный полк. В то время, судя по рассказам, он был симпатичным пареньком лет семнадцати, особым умом не отличался – на его родине таких называли «тупаками», но всегда был чисто выбрит и доброжелателен. Вернувшись в начале 1919 года в Дибблетуайт, он отрастил усы как у моржа и считался «чокнутым», то есть не вполне нормальным. Пережитое в траншеях ужасно его изменило. Он сидел без дела на кухне у матери, зыркал на нее, пожевывая кончик уса, и еду, которую она ему подавала, мог съесть, а мог и швырнуть на кафельный пол. Вдова Джейн Энтуисл вскоре приучилась опасаться вспышек сыновьей ярости и ходила вокруг него на цыпочках.
В траншеях, в газовых атаках, от бомб погибло человек шесть из жителей деревни, и здесь были рады чествовать любого героя войны, вернувшегося домой. В Джайлзе Энтуисле они были разочарованы. Когда он только вернулся, ему радостно покупали пинтами пиво, он его принимал, но взамен ничего не предлагал, даже слова доброго не говорил. Сидел, ухмыляясь злобным шуткам, звеневшим у него в голове, в «Герцоге Хамфри» у камина, склонившись над кружкой, отгораживая ее рукой и поглядывая по сторонам – словно боялся, что кто-то ее у него отберет. А когда выпивку предлагать перестали, разве что злобно посмеивался да еще зыркал по сторонам, проводя указательным пальцем по горлу.
И вот однажды – урожай был собран, солнце клонилось к закату, все трудоспособные жители деревни устало плелись за своими телегами – он потащил за собой по стерне Люси Тоджер, девчонку четырнадцати лет: пообещал показать ей волшебное колечко, что он нашел в Укромной роще. Люси сначала хихикала, а потом завопила: он грубо повалил ее на землю, раздвинул ей ноги и изнасиловал. А когда взошла луна, изнасиловал ее снова. И, прежде чем отпустить, заставил ее «вылизать его дочиста», поскольку она – грязная потаскуха.
Когда мать Люси, Грейси Тоджер, заметила, что дочь беременна, она в слезах кинулась к Джейн Энтуисл. Джейн, трясясь от страха, переговорила с сыном. Ей чудом удалось застать его в почти нормальном состоянии. Он нисколько не раскаивался в содеянном, но согласился жениться на Люси, поскольку Господь наказал всем, кто на Него уповает, плодиться и размножаться. Он был не совсем уж в здравом уме и все так же мерзко посмеивался. Но он хотя бы был убежден в том, что следует Божьему завету.
Люси произвела на свет Сирила 18 июня 1920 года. Ее мать считала, что пусть уж лучше Люси станет женой психа и буяна, нежели принесет в подоле, опозорив навеки имя Тоджеров. Мать и Джейн Энтуисл обрекли Люси на жизнь с бессердечным зверем. Сирил еще не родился, а Джайлз уже поколачивал Люси – и если бывал пьян, а она попадалась ему под горячую руку, и если бывал трезв и решал задать ей урок. Когда она была на восьмом месяце, он со всего размаху долбанул ее по животу так сильно, что сам сквозь пелену безумия ужаснулся содеянному и кинулся за доктором. Чудо чудесное, но видимого вреда он не причинил. И на свет появился Сирил, прекрасный малыш.
– Да разве можно вообразить, что за воспитание у него было в такой семейке? – сказала, прикусив дрожащую губу, мамуля. – Взять хотя бы то, что он каждое утро отправлялся пешком в школу, за семь километров, по пустошам до Киркли, во всякую погоду, зимой – по колено в снегу, уходил и приходил затемно, а ветра там дуют в любое время года, и в дождь он ходил, а сапог резиновых не было, и в туман такой густой – хоть режь его, по зарослям дрока, по осыпям, все коленки, бывало, исцарапает до крови. И ему еще, считай, везло – везло, Робин! – что у него была краюха черствого хлеба с каплей прогорклого масла, и бутылка слабенького чая, было чем день продержаться. Куда хуже был кошмар родного дома, где пьяный скот отец избивал до полусмерти мать, шел с ремнем на сына, а тот, визжа от ужаса, убегал и отсиживался в сарае, пока мать за ним не приходила. Бедный, бедный Сирил. Вот здесь это все и происходило, Робин. – Мамуля обвела рукой светлую, уютную комнату, в которой мы сидели. – Даже думать об этом невыносимо. – Она умолкла, шмыгнула носом, покосилась на меня, словно решая, стоит ли рассказывать дальше, прилично ли матери делиться такими вещами с сыном. – Наконец этот зверюга умер – Господь, я уверена, сам об этом позаботился, – выблевал остатки жизни и все пиво, которое вылакал в тот день, в сортире «Герцога Хамфри», и гроша за душой не оставил. Сирилу тогда было всего одиннадцать, а матери лет двадцать шесть. И что было ей делать, бедняге: беззубая, состарившаяся прежде времени, неграмотная, без особых умений – каким образом она могла добыть пропитание себе и сыну? Да таким, каким это испокон веку делают женщины в таком положении. – Мамуля вздохнула. – Не суди ее, Робин. Нет у нас на это права. Она задирала юбку для любого бродяги, для любого работяги – за стогом, в канаве, на груде листьев в Укромной роще – да-да, именно там, где тот зверь впервые взял ее силой. – Мамуля, побоявшись, что рассказала слишком много, встала. – Однако, «как в породе темной яркий камень»[56]56
У. Шекспир, «Генрих IV». Часть первая. Акт I, сцена 2. Пер. Е. Бируковой.
[Закрыть], – продолжила она, цитируя слова Барда, вложенные им в уста принца Хэла – точнее, то, как цитировала Барда ее любимая писательница Сибил Траскотт, – из такого жуткого убожества и явился мой драгоценный Сирил. Гений чувственности, непревзойденный мастер видеть и изображать, был рожден на навозной куче. Я пойду поставлю чайник.
Я, конечно, знал, как мамуля любит украсить рассказ мрачными подробностями и цветистыми оборотами – она вдохновлялась, перечитывая снова и снова не только Сибил Траскотт, но и сестер Бронте, миссис Гаскелл, Уилки Коллинза, раннего Моэма, Хью Уолпола и Джона Голсуорси. Поэтому я делал нужные поправки. Однако я всегда считал, что хотя бы по сути ее рассказ о рождении и детстве Энтуисла достаточно точен. Откуда бы она это узнала, если не от него самого? Видно, он страдал nostalgie de la boue[57]57
Ностальгия по грязи (фр.).
[Закрыть]. Так что существенно отличавшаяся от этой версия, которую изложила Фрэнни, оказалась для меня полной неожиданностью.
Когда мы уходили из «Крысы и морковки», Энтуисл коснулся кончиком хлыста козырька своей кепки, прощаясь с хозяином, а тот понимающе подмигнул, показал большой палец и хрипло кашлянул.
– Кретин, – сказал Энтуисл, – законченный кретин. Впрочем, пиво тут неплохое. Если присмотреться, в каждом можно найти что-то хорошее, – усмехнулся он. – Давай, Робин, залезай!
Я положил вещи на заднее сиденье лендровера, брезентовая крыша которого, несмотря на холод, была откинута, а сам сел рядом с Энтуислом.
– Ну, погнали! – крикнул он – не то чтобы в шутку.
Он выехал из деревни на север, свернул на разбитую дорогу, а оттуда – на пустоши, по которым мы тряслись километра полтора.
– Это тебе на пользу – прочистишь легкие от городского смога, – сказал он.
Солнце, которое в то утро в Рипоне светило ярко, да и когда мы добрались до «Крысы и морковки» в Дибблетуайте, еще пробивалось сквозь набегавшие облака, теперь скрылось окончательно. Небо заполонили огромные иссине-черные тучи, над землей с завыванием носился ветер. Повсюду виднелись островки снега – от предыдущего бурана. Я поддернул шарф повыше, чтобы прикрыть уши. Впереди, метрах в пятистах, был дом, обещавший тепло и уют – луч света в надвигавшемся мраке.
Рождество за городом, диккенсовская мечта англичанина, разрекламированная и таблоидами, и газетами посерьезнее, манило вкрадчиво – как плотские искушения Цирцеи или Акразии[58]58
Акразия – персонаж поэмы «Королева фей» Эдмунда Спенсера (1552–1599), злая волшебница, воздвигшая в своих владениях декорации земного рая.
[Закрыть] – и сулило столько же опасностей. Где же зелье, что спасет меня от колдовства? Память, падкая на сантименты, не могла устоять перед этим ежегодным искушением. Рождество за городом неминуемо ужасно – в чем я всякий раз убеждался, не здесь, так в другом месте.
– Пройдись до дома пешком, дружок, ладно? На пользу пойдет, аппетит нагуляешь. – Энтуисл так резко притормозил, что меня швырнуло к лобовому стеклу. – Пока ты погуляешь, у нас с Фрэнни будет время быстренько перепихнуться. – Я, разумеется, вылез из машины. – Э-ге-ге-гей! – весело завопил он и нажал на клаксон.
И умчался – как мистер Жаб[59]59
Мистер Жаб (или же мистер Тоад) – персонаж книги Кеннета Грэма «Ветер в ивах».
[Закрыть] в Жаб-Холл, подумал я.
Фрэнни оказалась такой красавицей, что дух захватывало. Как только Энтуисл опять умудрился заполучить такую, да еще и на двадцать лет моложе себя. Ему было – подумать только! – пятьдесят пять, точнее, пятьдесят шесть, если то, о чем мне рассказала Фрэнни, было правдой; по моим нынешним меркам – еще молодой, но тогда он казался постыдно старым человеку, на пятнадцать лет его моложе, человеку, чью мать он трахал-перетрахал столько лет назад! Я переводил взгляд с Фрэнни на Энтуисла, с него на нее и чувствовал нечто, что мог чувствовать Яго, представляя, как мавр и Дездемона складывают зверя с двумя спинами.
– Фрэнни, детка моя, это Робин, известный бездельник, мой, так сказать, гражданский пасынок.
Фрэнни пожала протянутую мной руку, притянула к себе, ласково чмокнула в щеку.
– Добро пожаловать, Робин!
Я вдохнул ее ароматное тепло. И так бы и застыл навеки, но Энтуисл оттащил ее от меня и по-хозяйски положил ей руку на плечо. Я что-то пробормотал в ответ – как я счастлив здесь оказаться, какой холод на улице, Рождество, видно, будет снежное, – чувствуя себя персонажем из романа Агаты Кристи, нес вязкую чушь, но она была столь добра, что выслушала меня с улыбкой.
– Ну, пора и подкрепиться! – сказал Энтуисл, поведя носом. – Жареная баранина, запеченная картошка, гороховое пюре, мятный соус – вот что тебя ждет. А если хочешь отлить, прежде чем сесть за стол, так ты же знаешь, где pissoir[60]60
Туалет (фр.).
[Закрыть], так ведь, малыш?
Я машинально повернулся в сторону туалета.
– Руки не забудь помыть, – хмыкнул Энтуисл. Рука его, все еще обвивавшая шею Фрэнни, скользнула ниже и ущипнула ее сосок.
Я на самом деле покраснел. Этот извращенец намекал на тот давнишний случай, когда мамуля, неукоснительно, хоть и смущаясь, но с собачьей покорностью исполнявшая свою роль in loco patris[61]61
Вместо отца, в качестве отца (лат.).
[Закрыть], объясняла мне, уже вполне великовозрастному детине, как важно, с точки зрения гигиены, мыть руки после того, как – по ее выражению – «сделаешь пи-пи». И когда я вышел из туалета, Энтуисл – я запомнил дословно – сказал мне: «Держу пари, руки ты помыл, дурачина? Но это все лабуда. Ты их мой, когда чужой хер хватаешь, а не собственный». И хмыкнул он тогда точно так же.
Вот что мне раньше в голову не приходило, так это то, что дом Энтуисла никак не походил на дом работяги. Он был куда богаче, куда просторнее, даже если не брать в расчет примыкавшие постройки – мастерскую, в которой он работал, огромный сарай, где он хранил свои картины, гараж, где при необходимости можно было бы разместить четыре машины и двух шоферов в комнате наверху. Мамуля тогда, много лет назад, пытаясь улучшить суровый быт основного дома, сотворила чудеса – были проведены газ и электричество. Все последующие тоже привносили что-то. Но пошлую деревенскую атмосферу создала уже Фрэнни: фальшивая исконность словно сошла с реклам Лоры Эшли и Ральфа Лорена и со страниц «Загородной жизни». Приглушенные тона, узоры в огурцах и кожа, деревянные сундуки и абажуры с бахромой, безделушки и оборочки повсюду. На стенах не картины Энтуисла, а нежные акварельки Фрэнни, кое-какие вполне миленькие – как картинки на шоколадных коробках: овцы на туманных пустошах, башни Йоркского собора, развалины какого-то монастыря и так далее. И то, как изменился интерьер, было убедительным доказательством силы обуревавшего Энтуисла чувства. Такого он бы не позволил ни мамуле, ни последовавшим за ней. Короче, интерьер говорил о многом – но не о том, подозреваю я, что предполагала эта влюбленная парочка.
А поверх всего этого пестрели обычные рождественские украшения. В эркере стояла вся в мишуре Tannenbaum[62]62
Ель (нем.).
[Закрыть], обычай наряжать которую, как мне говорили, пришел в Англию с возлюбленным супругом Виктории Альбертом, да так и укоренился. Под ней лежали подарки в ярких обертках – это пришло уже из Голливуда, тамошние магнаты слыхом не слыхивали про то, что день подарков – это второй день Рождества. В изобилии были представлены изящные венки из остролиста и плюща. Из четырех углов по потолку тянулись разноцветные бумажные цепи, сходившиеся у люстры, с которой свисала – о да, вы угадали! – ветка омелы. На рояле – изящном кабинетном рояле «У. X. Барнс», истинно английском, наверняка принадлежащем Фрэнни, поскольку Энтуисл был так же немузыкален, как и шекспировский Хотспур, лежали ноты рождественских песен, с «Я видел три корабля» сверху. На каминной полке были расставлены рождественские открытки. Что до самой Фрэнни, то она была в модельных джинсах и кремового цвета шелковой блузке и выглядела весьма эротично.
Ланч прошел в натужно веселой атмосфере, но еда была вполне приличная. Поварихой, как я узнал, оказалась Фиби Доггет, жена владельца «Крысы и морковки» Альберта.
– Нам очень с ней повезло, – сказала Фрэнни. – А в таких случаях она просто незаменима.
– Это она про традиционные блюда, – объяснил Энтуисл. – Если ты предпочитаешь континентальную кухню, то тут у тебя надежда только на Фрэнни. – Он послал ей воздушный поцелуй через стол, и это было невыносимо. – А как насчет твоих truite farcie?[63]63
Фаршированная форель (фр.).
[Закрыть] Или agnello marinato alla griglia?[64]64
Маринованная баранина на гриле (ит.).
[Закрыть] Или Esterházy rostélyos?[65]65
Жаркое «Эстергази» (венг.).
[Закрыть]
– Ну, завтра y нас будут миссис Доггет с гусем, рождественским пудингом и всем прочим, – спокойно сообщила Фрэнни.
– Вот это жалко – сказал Энтуисл. – Однако придется держать марку. Завтра к нам кое-кто придет. Родственников Фрэнни здесь нету. Одна пара из Лидса, у них денег куры не клюют. Он заказал портрет жены – кошмарной пухломордой блядищи. Прости, Фрэнни. Зачем он решил ее запечатлеть, я никогда не пойму. Да и не мне в этом разбираться. А еще – Джеффри Уилкинсон. Может, ты о нем слыхал? Он был редактором отдела религии в литературном приложении к «Таймс». Он, думаю, непременно захочет рождественских песен. Так что уж извини. Но для тебя у нас особая гостья – Элис Грешам, она пишет для «Йоркширского книжного обозрения» и большая поклонница твоего таланта.
Остаток дня пролетел быстро, чему поспособствовала тьма, наступившая часам к четырем – тьма, которая бывает лишь в сельской местности – думаю, на йоркширских пустошах она совсем кромешная, да и Энтуисл около восьми утащил Фрэнни в спальню.
– Ты же взял что-нибудь почитать? Если нет – тут полно книг. Выбирай что хочешь. Фрэнни, пошли!
– И в кладовке берите что хотите – если вдруг голод подступит, – сказала Фрэнни. Она поднялась, взъерошила Энтуислу волосы – с той гордостью, с какой любящая мать любуется своим щекастым сыночком. – Сирил, не слишком мы любезны с Робином. Сегодня все-таки рождественский сочельник.
– Ну и хрен с ним, – миролюбиво откликнулся Сирил. – Я вымотался.
Фрэнни, взглянув на меня, с милой улыбкой развела руками.
– Спокойной вам ночи, – сказал я. – Я тоже скоро лягу.
Заснуть я не мог несколько часов, мешал шум сексуальной битвы, доносившийся через толстую стену, разделявшую наши спальни, – крики, вопли, стуки, смех, стоны, визги, лихие крещендо и усталые вздохи. Мне хотелось плакать. Утром Энтуисл, хитро на меня поглядывая, спросил, не мешали ли они мне ночью.
– Нисколько, – ответил, поджав губы, я. – Заснул мгновенно. Сельский воздух.
– Сельские забавы, скорее, – не без намека ответил Энтуисл.
День Рождества обещал либо здоровое веселье, либо тягучую тоску, в зависимости от того, как относиться к предполагаемым традиционным празднованиям и предполагаемому развлечению. Думаю, вам понятно мое к этому отношение. Миссис Доггет приготовила весьма удовлетворительный рождественский ужин, веселое настроение обеспечивала выпивка. Напялили смешные шляпы, разрывали хлопушки, играли в шарады – прервались, чтобы посмотреть, как королева в телевизоре пытается подбодрить своих подданных и здесь, и за границей. И каждую из присутствующих дам, включая зардевшуюся и покрывшуюся от волнения испариной миссис Доггет, поцеловал под омелой хотя бы один подвыпивший джентльмен. Джеффри – «Зовите меня просто Джеф» – Уилкинсон а капелла спел нежным голосом «Adeste fideles»[66]66
«Придите, верные» (лат.). Рождественский гимн.
[Закрыть], после чего под громкое бренчание Фрэнни на рояле Энтуисл прохрипел «Коленки повыше, матушка Браун». Миссис Доггет, которая, когда Уилкинсон призывал верных, стояла тихая, благоговейная и чуточку пьяная в дверях, не только подпевала хрипам Энтуисла, но даже дерзнула жестами призывать нас подхватить песню. Ее поддержала только Флорри Боствик, супруга господина из Лидса, чей портрет Энтуисл подрядился написать. Она сопровождала пение «Матушки Браун» движениями и жестами, вполне подобающими произведению, издавна любимому во многих пабах, и улыбкой, демонстрирующей, что она умеет поддержать веселье.
Элис Грешам явно ощущала свое превосходство над собравшимися и в основном натянуто улыбалась. Ее в Дибблетуайт привезли Боствики, которые оказывали существенную финансовую поддержку «Йоркскому книжному обозрению», поэтому, как ясно дал ей понять редактор издания, обижать их не следовало. К тому же без них ей было не выбраться из этой богом забытой дыры. Господи, молю, давай без снегопада. С Боствиками она должна была мириться, но быть любезной со мной она не намеревалась. И это еще мягко сказано. Мой первый роман был не без достоинств, признала она, было чего ждать дальше. Но затем я поддался на льстивые речи истеблишмента, частью которого и стал. Мой успех говорил сам за себя.
Согласитесь, не очень-то приятно. Однако я ее простил.
– Мой кошелек говорит совсем о другом, – сказал я, решив по пьяни, что высказался весьма остроумно.
Она была вполне недурна собой, разве что слишком уж сухая и бесцветная по сравнению с Фрэнни, и я поцеловал ее под омелой. Я их обеих поцеловал.
Когда миссис Доггет ушла, пробормотав благодарности всем присутствующим за щедрые рождественские подарки (деньги были скромно вложены в поздравительные открытки), весь энтузиазм куда-то улетучился. Дерек Боствик, который метил на место депутата тори от Отли, разразился слезливым тостом, в котором упомянул, как нам повезло жить в стране, где и т. д. и т. п., во времена, когда и т. д. и т. п., но прежде всего потому, что настоящие друзья и т. д. и т. п., поэтому он и хочет поднять бокал за радушного хозяина и очаровательную хозяйку и т. д. и т. п., сохранивших лучшее из культурного наследия и т. д. и т. п., и отметить особо, какая честь встретить этот освещенный духовностью праздник в доме одного из величайших из ныне живущих художников и его прекраснейшей спутницы… Здесь он прервался, его душили рыдания, и продолжать он не мог. Наступившую тишину прервали Джеффри Уилкинсон и Элис Грешам, закричавшие: «Точно! Точно!», а потом все вместе стали кричать: «Фрэнни и Сирил!» Рождество в Дибблетуайте закончилось.
Ну, и слава богу. Важно то, что Фрэнни поведала мне на второй день Рождества, и то, что она показала, чтобы подтвердить свой рассказ.
Ланч на следующий день был скромный: картофельный суп, холодный окорок, маринованный лук, сыр, хлеб. Фрэнни предложила прогуляться втроем по пустоши. Метели не случилось. Более того, сияло солнце. Энтуисл сказал, что хочет использовать остаток светового дня и поработать в мастерской. Так что мы с Фрэнни отправились вдвоем. Уже и не помню, почему разговор зашел о юных годах Энтуисла. Но я, используя напускное сочувствие к нему как способ приблизиться к Фрэнни, рассказал что знал о его детстве.
Во время прогулки мы остановились полюбоваться виселицей, копией той самой, как сообщалось на табличке рядом, которая стояла на этом месте или где-то поблизости с 1689-го по 1830 год и на которой испустили последний вздох многие злодеи. Собственно, любовался я не виселицей, а румянцем, заигравшим от прогулки по холодку на щеках Фрэнни. Будь он проклят, этот Энтуисл! Мы повернули к дому.
Моя, точнее мамулина, версия о происхождении Энтуисла, сообщила мне Фрэнни, была ошибочной, точнее, «полным вздором». В этом не было мамулиной вины. Энтуисл любил подрабатывать и преображать свое прошлое, выискивая взглядом художника самую суть.
– А вы знаете, что он ведет дневник, уже многие годы? – Я невнятно хмыкнул. – Он пишет его в блокнотах на кольцах, чтобы можно было вынимать и вставлять страницы. Вот на прошлой неделе он мне показывал страницу, которую добавил к 1967 году. «Ужин с Э. Гомбричем и К. Поппером, „Атенеум“. Немного перебрал бренди, напился. Гуммо и Поппи в отличной форме». Все выдумано, от первого до последнего слова, в том числе его остроумные obiter dicta[67]67
Сказанное к слову (лат.).
[Закрыть] за столом.
– Зачем ему все это?
– Я его спрашивала. Сказал: «Для потомков. Будет этим говнюкам о чем подумать». Он массу всего исправил или добавил. Вряд ли он теперь точно знает, где правда. Это при том, что всей правды никто знать не может, – философски добавила она. – Он вам сказал, что я еврейка?
– Вообще-то да.
– Вообще-то я не еврейка. Была бы еврейкой, я бы и не думала это отрицать, но – нет. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Однако он это выдумал и иногда, по-моему, сам в это верит. Ему удобно, чтобы я была еврейкой. Бог его знает, почему. И когда-то ему было удобно, чтобы у него были контуженый зверюга-отец и поруганная шлюха-мать – такая правда была удобна для него или для вашей мамы, а может, для обоих. Может, от такой правды им было лучше в постели. К тому же я вовсе не отрицаю, что у Сирила, бедняжечки, было ужасное детство. Наверняка было. Как и у всех нас.
– А откуда вы знаете, что история, рассказанная вам, ближе к правде, чем история, которую он рассказал моей матери?
Она усмехнулась.
– Естественно, я этого не знаю. Но я нашла парочку доказательств – вполне убедительных. Я вам покажу, когда мы вернемся.
Сирил для Фрэнни был сыном капитана Джайлза Уолтера Энтуисла, кавалера ордена Виктории, и Люси Вайолет Энтуисл, урожденной Тоджер, оба были единственными детьми в семьях сельских священников, его отец – из прихода Ламли около Нерсборо, ее – викарий церкви Святого Суитина в Дибблетуайте, так что он был, считай, из среднего класса с его пресловутой респектабельностью. Сука, сволочь, на хер и прочие слова, столь значимые в лексиконе Сирила, для его родителей просто не существовали. Это нисколько не указывает на их праведность или ханжество, а лишь свидетельствует о социальных ограничениях того времени. Мы можем предположить, что капитан, будучи человеком военным, наверняка слышал подобные выражения не только в траншеях, среди плебса, но и в офицерской среде, однако никогда не позволял себе осквернить губы, которые берег для Люси. (То, что «мы можем предположить», разумеется, может быть совершенно неверно. Кто знает, как они заводили друг друга по пути к супружескому ложу или на нем?)








