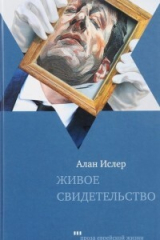
Текст книги "Живое свидетельство"
Автор книги: Алан Ислер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– Сирил, это все правда? – спросил я.
– Все? Не понимаю, что ты называешь «всем»[152]152
Отсылка к реплике Фальстафа в пьесе У. Шекспира «Генрих IV». Часть первая. Акт II, сцена 4.
[Закрыть]. – Он опять строил из себя Фальстафа, значит, нужно быть настороже. – Я могу свидетельствовать только о том, что видел и слышал. И что делал. Насчет этого слово мое тебе порукой. – Он развернулся и целился уже в меня, но потом опустил руку и хитро улыбнулся. – С чего мне врать? Все есть в моем гребаном дневнике. Если хочешь, можем посмотреть, проверить. А что до остального, так это она мне рассказывала. Ты волен, как был волен я, верить ей или не верить.
– В твоем гребаном дневнике?
– Ой, Робин, молодец! Да, и что такого? Как список Лепорелло. А мне и правда нравится, черт побери! «Мой гребаный дневник». Да, моим учебником был «Вальтер». «Моя тайная жизнь»[153]153
Сочинение в одиннадцати томах «Моя тайная жизнь», описывающее сексуальную жизнь мужчины викторианской эпохи, вышло в свет конце XIX века. Автор скрывался за псевдонимом «Вальтер».
[Закрыть], все, на хрен, одиннадцать томов. В моей юности эта книга считалась крайне откровенной. У нашего старшего воспитателя мистера Куинтуса Т. С. Фэншоу, магистра искусств, выпускника Кембриджа, по кличке Коитус, она имелась. Он приглашал избранных счастливчиков к себе в комнаты на чай с тостами и зачитывал им по несколько страниц из «Жизни». Коитус часто говорил, что верит: его мальчики смогут лучше противостоять многообразным искушениям плоти, если будут знать, что именно это за искушения. А в твое время Фэншоу еще там работал?
– Ты рассказывал мне о Полли Копс.
– Я звал ее Поликарпом, в память о священномученике епископе Смирнском. Он горел христианским рвением, за что и был сожжен заживо. В Полли Копс никогда не стихало пламя похоти. Она была единственной настоящей нимфоманкой, которую я знал. Когда у нее свербело, она это чесала. Ей было все равно чем – пальцами, камберлендской колбаской, мужским членом, если оказывался под рукой.
– Поликарп? Ты говорил, что звал ее Полип-в-попе.
– Говорил, да? Может, и звал.
– Так как же именно?
Он покачал головой, давая понять, что устал от моих придирок.
– Пока я писал вот это, – он показал большим пальцем на портрет, – вымотанный тем, что обслуживал ее с вечера до утра, она однажды на дневном сеансе ублажила себя ручкой моей десятисантиметровой кисти. Ее излюбленным дилдо была бутылка шампанского, «Кристал» Луи Лодерера, неважно какого года. И у ее изголовья всегда стояла такая, даже в Англии, даже в Дибблетуайте. Ей было плевать, где она и с кем она, если вдруг накатывало желание, она тут же его удовлетворяла и совершенно не старалась этого скрыть.
Мой английский хрен ей нравился больше американской сосиски Джерома, но это было дело вкуса – да, эта тупая сучка так и сказала, она не могла уловить double entendre[154]154
Двойной смысл (фр.).
[Закрыть], даже когда он хватал ее за причинное место. Размер значения почти не имел. Главное, чтобы член стоял, важны были первые десять сантиметров. Остальное – только для вида. Да к тому же ни один мужчина не мог удовлетворить ее так, как бутылка «Кристал» Луи Лодерера.
Робин, ты писатель. Можешь, наверное, вообразить, в какую жопу превратилась жизнь Джерома. Светскую жизнь пришлось свести на нет. Простой ужин с родственниками, с гордящимися им родителями, с братом Стэном и Хоуп, со старыми друзьями, университетскими приятелями, деловыми знакомыми, с новым партнером фирмы и с женой нового партнера – все это в мгновение ока могло превратиться в кошмар. Однажды она взяла левую руку нового партнера, который сидел справа от нее, сунула ее под стол и из-за ножки стола себе во влагалище. Бедный придурок не знал, что делать, хотя ничего сложного от него не требовалось. Джером обращался к специалистам – сексологам, психиатрам, всевозможным врачам, сторонникам холистической медицины, диетологам, искал помощи во всех здравых и почти здравых лечебных практиках. Полли на все это соглашалась, безропотно ходила от одного лекаря к другому. Со сколькими из них она перепихнулась, неизвестно. Джером узнал, что почти наверняка в детстве она стала жертвой сексуальных домогательств, возможно, виновником был ее отец, и если покопаться в ее прошлом, это может помочь; он узнал также, что ей могут помочь лоботомия или клиторидэктомия, узнал, что ей следует сократить употребление шоколада и увеличить прием марганца, бора и ванадия. Одним словом, ни хрена он не узнал.
– Думаешь, Стэн с ней тоже трахался? – спросил я исключительно из злобного любопытства. И вообще, откуда Сирилу было знать ответ?
– Этот старый хрен? Наверняка. Она пользовалась всем, что попадалось под руку, особенно с тех пор, как Джером ослабел. Во всяком случае, так она рассказывала о Джероме. Слушай, она наверняка должна была подкатиться к Стэну, а отказать ей было трудно.
Везунчик этот Стэн. Черствость Саскии по отношению к покойной Полли стала теперь понятнее. Знала ли Хоуп о том, что происходило? Простила ли она тогда Стэна потому, что знала, как он презирает брата, и поэтому сочла его неверность всего лишь местью? Или потому, что готова была стерпеть что угодно, лишь бы не потерять мужа? Или потому, что научилась не видеть того, что может ее расстроить?
– Это место меня переживет и Клер тоже переживет. – Сирил обвел рукой вокруг, имея в виду не только сарай, в котором мы сидели, но и дом, остальные постройки и земли. – Фамильное древо засыхает. На мне все заканчивается. Когда она отдаст концы, все это отойдет государству. Здесь будет что-то вроде музея, ну, посвященное моей жизни и творчеству. Йоркшир меня воспитал, он меня и сохранит. Похоже, это лучшее, что можно сделать. Как считаешь, Робин?
– По-моему, блестящая идея, хотя предаваться таким мрачным мыслям еще рано. Ты на себя посмотри, старичок-бодрячок, тебе еще жить и жить.
– Думаешь?
Вообще-то я был потрясен тем, как он постарел и одряхлел, словно на него вдруг навалились годы. Ему, как его любимому Фальстафу, пришлось склониться перед обвинениями Верховного судьи. «Разве у вас не слезятся глаза, не высохли руки, не побелела борода, не желтеют щеки? Подбородок у вас двойной, а смысла стало вдвое меньше»[155]155
У. Шекспир. «Генрих IV». Часть вторая. Акт III, сцена 2. Пер. Б. Пастернака.
[Закрыть].
– Ну-ну, давай без сантиментов. Впрочем, я подумал, может, ты захочешь эту картину, с обнаженной Полли. В конце концов, парочку Копсов ты знаешь. И ты ради меня потащился в Коннектикут.
И тут я сказал самую большую глупость за всю мою жизнь:
– Сирил, как я могу? Она, наверное, стоит целое состояние.
Эти слова просто вырвались из меня – вот она, врожденная вежливость. Я уже представил себе портрет над камином в Болтон-Гардене, себя рядом с ним. «Да, это Энтуисл. Я знаю кое-кого из главных действующих лиц, История преинтереснейшая». Наверное, я рассчитывал на такую же вежливость со стороны Сирила. «Разумеется, можешь, старичок. Мне будет только приятно». Но получил в ответ совсем другое.
Сирил встал и показал на стальную дверь за моей спиной. Показ был окончен. Он кинул на меня проницательный взгляд.
– Пожалуй, ты прав. Это была бы хрен знает какая экстравагантность. Но ты не волнуйся, я тебе что-нибудь отпишу, если, конечно, успею до прихода тупого конвойного[156]156
Отсылка к фразе «Но смерть – тупой конвойный». У. Шекспир, «Гамлет». Акт V, сцена 2. Пер. Б. Пастернака.
[Закрыть].
Мысленно я заорал во весь голос.
– Робин, ну как он тебе?
Вопрос был задан вроде бы вскользь, но чувствовалось, как Клер нервничает. Я сидел за кухонным столом, передо мной были огромный кусок вчерашнего яблочного пирога и чашка с дымящимся чаем. Клер стояла лицом ко мне, спиной к раковине, обнимала себя обеими руками – словно пытаясь согреться, и все время поглядывала в окно, на мастерскую, в которую удалился Сирил. («Не могу я шататься без дела, – проворчал Сирил. – С вами, бездельниками, Англия не выстоит». И он удалился, бурча что-то себе под нос.)
– Как всегда, грубит. Хорошо, что он все еще работает. Чем он сейчас занят?
Она пропустила мой вопрос мимо ушей.
– Ты же видел, какой у него тремор.
– Да, но я думал, что в его возрасте…
– В его возрасте? Дело вовсе не в этом. Ты знаешь его почти всю свою жизнь. Когда он выглядел таким грустным? И дело не только в том, что он грустный, не все же время. Mon dieu[157]157
Бог мой (фр.).
[Закрыть], Робин! У него лицо становится мраморное, глаза как будто лаком покрыты. Неужели ты этого не заметил?
Оглянувшись, я понял, что перемены в нем я заметил, просто не зафиксировал на них внимание. И все равно, эти перемены были не столь резкими, чтобы впадать в такую панику. Осмелюсь предположить, что человек, который видит Сирила впервые, и не понял бы, что что-то не так.
– Как давно это продолжается?
– Кто его знает… Не очень давно. Я сама стала это замечать только несколько месяцев назад, и ухудшалось по чуть-чуть. Вот уже две недели я помогаю ему застегивать рубашку. – Я увидел, что глаза у нее красные. Она вытерла подступившие слезы рукой.
– Паркинсон?
– Да, Паркинсон, что еще? Я это знаю. Он это знает. Но старый дурак не желает этого признавать. Он считает, что, если не будет обращать на это внимания, оно само тихонько исчезнет, как нежеланный, но воспитанный гость. Я его убить готова! – Она немного истерично рассмеялась – над абсурдностью ей же сказанного. – Он отказывается идти к врачу. Говорит, что с врачами он завязал. «Пошли они все на хрен, – говорит. – Пусть мать-природа возьмет свое, – говорит, но это же мой Сирил, ma bête brute, mon blageur[158]158
Мой дикий зверь, мой враль (фр.}.
[Закрыть], и он добавляет ни с того ни с сего: „Дух мой бодр“». И неважно, что от этого есть лекарства. Нет, пусть все идут на хрен. – И она сдавленно всхлипнула.
– Я посоветуюсь со своим врачом, а потом переговорю с Сирилом. А ты, Клер, постарайся не волноваться. Возможно, все не так плохо, как тебе кажется. Обещаю, я сделаю все, что смогу.
По ее презрительному взгляду было ясно: она во мне разочарована. Пустые слова она могла отличить.
– По крайней мере он теперь понял, что не будет жить вечно. Он задумался о своем наследии. И у него на уме одна работа, завершающая, son coup de maître[159]159
Его шедевр (фр.).
[Закрыть]. Он ее называет «Четыре последние вещи». Точно знает, что хочет делать. Говорит со мной об этом днем и ночью. Пока что он может держать кисть, дрожь проходит, когда он сосредотачивается, даже если он просто хочет взять стакан с водой. Но долго ли он так продержится? Никто этого не знает. Поэтому так важно, чтобы этот его биограф, Копс, изложил историю его жизни правильно. Сирила – кто бы мог подумать – начинает тревожить, каким он предстанет в глазах потомков.
– Но его работы – это и есть его наследие. Господи, да он же величайший из ныне живущих художников, и он это знает. Никто не ставит под сомнение его место в пантеоне.
– У него безумные идеи насчет того, что его жизнь тоже должна стать произведением искусства. Похоже, он считает, что «Четыре последние вещи» соединят его жизнь и творчество в то, что он называет «цельнокроенным одеянием», «Высшей правдой». А вдруг он не сможет рисовать? Так что этот идиот Копс держит сердце Сирила в своих руках.
– Есть лекарства от его болезни. Вдруг они помогут? В худшем случае они просто замедлят развитие болезни.
– Ну да, – с горечью сказала она, – лекарства. Л-допа, синемет, атамет и прочие, каждый день появляются новые. Но сначала нужно к врачу. Без врача и лекарств не будет. Bêtise![160]160
Глупость (фр.).
[Закрыть] Дурак! – Она посмотрела в окно. – Ну, все, он идет. Господи, он же еле плетется!
5
– Я слышал, вы со Стэном немного повздорили. Как приятно узнать, что вы двое снова – команда.
Демонстрация вежливого участия, скрывающая откровенную фальшь.
– Что ты такое несешь?
– Ходят слухи, что Стэн был с тобой грубоват. Синяк вот, после которого вы ненадолго разъехались. Слухи, знаешь ли.
– Слухи ложные. – Саския взяла бокал и одним жадным глотком выпила сто граммов великолепного «Пуанкаре-Каде» 1999 года. А затем уставилась на меня, вертя в пальцах бокал.
Мы сидели за ланчем в ресторане «Адмиралти» в Сомерсет-хаусе. Они со Стэном приехали в Англию, чтобы кое-где свести концы с концами в его биографии Энтуисла. Стэн в тот день отправился в Йоркшир, полный решимости получить от Сирила правдивые ответы на кое-какие вопросы; Саския пригласила меня, рассчитывая выдоить информацию о годах, которые провела с Великим Человеком мамуля.
– Ходят и другие слухи, – осторожно продолжил я. – По ним выходит, что над супругом издеваешься ты. Ты его бьешь и выгоняешь из дома, а он попадает в заботливые руки аспирантки.
Она в очевидном изумлении широко открыла рот, а затем нахально усмехнулась.
– Вот такие слухи мне нравятся, разве что кроме пассажа про аспирантку. Я его бью! Вот это да!
– Надеюсь, и без слов понятно, что я ничему этому не верю. Но я счел своим долгом рассказать, что о вас говорят.
– Да-да, конечно.
– Поначалу я подозревал, что издатели Стэна, здешние или американские, подкидывают эти истории перед выходом книги в свет. Однако мои шпионы уверяют, что это не так. Но дым пусть не от огня, но откуда-то идет. Так как было дело?
Она отставила бокал и наблюдала за официантом, который с нежностью наполнил его вновь.
– Попробуй пить маленькими глотками, – сказал я. – Смотри, вот так. – Я отпил немножко из своего бокала, покатал вино по языку и только потом проглотил. – Великолепно.
– Все-таки ты говно, Робин. Не просто говно, а напыщенное говно, настоящий засранец.
– Смешанную метафору опускаем, но вино все-таки попробуй глоточками.
– Пошел ты!
– Так что на самом деле произошло у вас со Стэном?
Мой интерес, само собой, не был праздным. Я надеялся отвоевать ее.
– Ты что, правда думаешь, я тебе расскажу? Мы пара со Стэном, пара. Ты хоть догадываешься, что это такое? Зачем мне выкладывать подробности нашей личной жизни тебе? Это называется предательство.
У меня хватило такта не напоминать ей, как она предала Стэна двадцать с лишним лет назад, как минимум с обворожительным дипломатом из Ганы и, как я мог лично засвидетельствовать, со мной. Память, говори, как сказал Набоков.
– Однако ты рассчитываешь, что я «предам» свою мать. Ты хочешь, чтобы я рассказал gratis[161]161
Бесплатно, даром (лат.).
[Закрыть], исключительно ради Стэна, об интимных подробностях самой страстной и самой важной любовной истории в жизни моей матери.
Саския поковырялась в своем Salade Niçoise à Amiral[162]162
Салат «Нисуаз» по-адмиральски (фр.).
[Закрыть]. Я попал в точку. А может, работа Стэна важнее, чем брезгливость в вопросах супружеской верности.
– Дай мне подумать, хорошо?
Она думала весь ланч, в том числе и за финальной частью, для которой она выбрала Clafoutis aus Figues[163]163
Клафути с инжиром (фр.).
[Закрыть].
Саския в позднем (можно сказать, очень позднем) среднем возрасте стала набирать вес, особенно в области бедер. Теперь она сидела, судя по всему, весьма удобно, на очень широкой заднице.
– Ну ладно, – сказала она. – Quid pro quo?[164]164
То за это, услуга за услугу (лат.).
[Закрыть]
– Сначала ты.
Она шла на дневной спектакль в Национальный театр. Мы быстро прошли Стрэнд, завернули за угол и по мосту Ватерлоо перешли на Южный берег. День был ясный, почти безоблачный, но на мосту ветер дул так, что у нас глаза заслезились. Саския запыхалась и хотела остановиться – якобы чтобы полюбоваться видом. Бурные воды Темзы казались оливково-зелеными, чайки метались то вниз, то вверх, преследуя катера и туристические пароходики. На той стороне реки, за нами, за Вестминстерским мостом отливало золотом псевдоготическое здание парламента, перед нами сиял на солнце купол собора Святого Павла, белоснежный, серый по краям, как будто с черными подтеками. Новый мост Миллениум серебряным ножом резал воду.
– Здесь было бы чудесно жить, если бы не британцы, – сказала Саския.
– Расскажи наконец, что случилось.
– Случилось вот что: Стэн застал меня и Джерома при, как выразились бы юристы, «компрометирующих обстоятельствах».
Мне вспомнилась ночь в Коннектикуте, когда нос мой учуял аромат духов Саскии, донесшийся, когда закрывалась дверь в спальню Джерома. И я почувствовал знакомый укол ревности.
– Ты должен понять. Пуля, прошедшая насквозь, покалечила не только тело Стэна, его либидо тоже потерпело урон. Не то что у него не встает, ему совершенно все равно, встал или нет. Секс его больше не интересует. А мои желания, это ему как жужжание комара в ухо – раздражает и мешает спать. У нас с Джеромом одинаковые потребности – физические, не эмоциональные. Мы просто их удовлетворяли.
– И Стэн застукал вас?
– Как ты удивительно владеешь словом, Робин. Впрочем, ты же как-никак писатель.
Я пропустил ее сарказм мимо ушей. Мы спустились по ступеням с моста и пошли по набережной.
– И что было?
– Стэн был первым выступающим на панельной дискуссии в Университете Хьюстона – биографы собрались обсудить трудности своей профессии. Из Хьюстона он должен был уехать в четверг утром, а уехал в среду днем. «Я дома», – сообщил он, войдя в спальню с букетом цветов. Джером был сверху. Даже не думала, что член может настолько быстро опасть. Господи, я хотела только одного: чтобы он закончил то, что начал, пусть и при Стэне. Поверь, мне оставалось совсем чуть-чуть.
– Мой источник сообщил, что от Джерома толку никакого. То есть в этом аспекте.
– Какой источник?
– Между нами: Сирил говорил, что так ему рассказывала Полли.
– Полная ерунда! Не хочу говорить плохо о Полли. Поскольку она умерла. Ты же сам знаешь, Сирилу верить не стоит. Я тебе говорю: у Джерома он в два раза больше, чем у Стэна. Мало того, уж если встал, то стоит. И возраст не помеха.
– Но Стэн, видно, помеха. Ну, продолжай: Стэн входит…
– «Я дома». Опа! Я его сразу увидела. Гляжу ему в лицо и думаю: пусть хоть провалится, пока я не кончу. Господи, мне оставалось совсем чуточку! И тут у Джерома все опало. Стэна услышал, наверное, поэтому. Он нырнул под простыню, не мог смотреть на брата, так расстроился. Дальше – Стэн, как джентльмен, пятясь назад, выходит из комнаты. И пятился так до самой лестницы, не понял, что начались ступени, и покатился вниз. Мы с Джеромом услышали шум и кинулись полуголые к лестнице. А внизу лежит Стэн навзничь, без чувств. Но букет алых роз из руки так и не выпустил. Это меня просто доконало. Мы мгновенно оделись, Джером помог мне отнести его в машину. Боже, я так боялась, что старые раны откроются. Я отвезла его в больницу. Слава богу, ничего страшного. Несколько синяков и легкое сотрясение. Вот и всё. Ну да, когда я поняла, что с ним все в порядке, я уехала на пару недель к сестре в Сан-Франциско. Больше рассказывать нечего. Теперь твоя очередь.
Национальный театр мы прошли и отправились назад.
– Кофе хочешь? А мороженого?
– Робин, не увиливай. Твоя очередь.
– Вовсе нет. Ты не закончила. Что было, когда ты вернулась? Упреки? Примирение со слезами?
– Ничегошеньки не было. Он ничего не помнил или утверждал, что ничего не помнит, кроме того, что упал с лестницы. Когда я вернулась из Сан-Франциско, все продолжилось как раньше. Кстати говоря, мы спим вместе. Тоска…
Мы свернули с набережной и поспешили к Национальному театру. Я показал ей свои часы. Спектакль вот-вот должен был начаться.
– Так как насчет твоего рассказа? Сволочь, ты нарочно тянул время. Когда мы можем еще раз встретиться?
Она на ходу судорожно рылась в сумочке, искала, может, билет, а может, бумагу с ручкой – не знаю.
– Ежедневник не при мне, – соврал я и, демонстрируя огорчение, похлопал по карманам куртки. – Позвони мне. Мы что-нибудь придумаем. – Я приобнял ее за плечи и невинно поцеловал в обе щеки, после чего она сердито развернулась и направилась в быстро пустеющее фойе. – Спасибо за ланч! – крикнул я ей вдогонку.
* * *
Сирил позвонил мне на следующий вечер. Хотел узнать, пытался ли Стэн разведать про его роман с мамулей. Стэн, по-видимому, решил, что годы с мамулей весьма важны для понимания жизни художника, тем более потому, что, как он ни старался, почти ничего не выведал.
– Получит от меня «милую Фанни Адамс»[165]165
Фанни Адамс (1859–1867) – девочка, которую убил и расчленил сумасшедший клерк. Сейчас выражение «милая Фанни Адамс» означает «ничего вовсе».
[Закрыть], – буркнул Сирил голосом, исполненным праведного негодования. – И плевать, что этот недоумок имеет сказать о вашем покорном слуге. Я здесь и могу за себя постоять, а она – нет. – По его словам никто бы и не подумал, что он упрашивал написать его биографию. Он был в очень воинственном настроении. – Не желаю даже думать, что этот ублюдок своими вонючими руками прикоснется к священным воспоминаниям о ней. Я ему сказал, что ее сын жив. Все вопросы касательно мамули пусть адресует тебе. Ты – истинный хранитель ее чести.
Сирил влажно закашлялся, харкнул и сплюнул – хотелось надеяться, что в платок. Последовала пауза – видимо, он разглядывал мокроту.
Когда Сирил, как заправский политик, демонстрирует величие души и использует слова «священный» и «честь», можно не сомневаться: он преследует какую-то не вполне благородную цель. И вскоре о ней заговорит. А пока что он, очевидно, ждал от меня благодарного отклика.
– Робин, ты еще здесь?
– Еще здесь, Сирил.
– Я уж подумал, ты помер. – Он хихикнул, в горле клокотала мокрота. Он снова закашлялся, снова харкнул, снова сплюнул, снова последовала пауза. – Так что он неминуемо с тобой свяжется. Но предупрежден – значит вооружен, да? – И тут он добрался до главного. – Во времена нашей Большой Любви я написал мамуле довольно много писем. В те времена люди писали письма. Никаких этих чертовых телефонов не было. А женщины, они обожают хранить такие вещи – всякие сувениры, любовные письма, засушенные цветочки и прочую дрянь. Мамуля, думаю, тоже хранила. У тебя, Робин, их случайно нет? Этих писем? Ведь когда бедная мамуля преставилась, ты наверняка разбирал ее бумаги и все такое. Ты мои письма нашел? Если да, нельзя допустить, чтобы они попали в чужие руки. На твоем месте я бы их сжег. Или пришли мне, я с ними разберусь. В конце концов, это же мои письма, я их писал. Но в любом случае, ты же не допустишь, чтобы этот вонючий еврей их увидел, да?
Я не сказал ему, есть ли у меня его письма к мамуле. Сказал только, что не имею ни малейшего намерения беседовать о моей матери со Стэном Копсом.
В чем-то Сирил и мамуля идеально подходили друг другу. Сирил всегда полностью сосредоточен на себе, он требует от остальных исключительной преданности, полного погружения в его мир, его речи, его работу. В окончательный солипсизм он не впадает только потому, что ему нужны другие люди – обеспечивать ему комфорт, удовлетворять его нужды и капризы; в особенности ему нужны женщины: они квазимистическим образом предоставляют Вечную женственность, мощную колдовскую силу, источник вдохновения и творчества, которую он может почерпнуть через сексуальную связь. Можно возразить, как наверняка делали некоторые критики, что на протяжении всей своей карьеры он отдавал дань этой концепции, что очевидно по тому, с какой любовью он изображает женское тело, особенно в своих «ню» – так, что к этому телу хочется прикоснуться. (Канадский искусствовед Антуан Леви-Лакло в статье для La Vie Canadienne Culturelle[166]166
Культурная жизнь Канады (фр.).
[Закрыть] о недавней выставке «Энтуисл, 1965–1975» в Монреале писал, что на многих картинах нужно повесить табличку Ne pas toucher[167]167
Не трогать (фр.).
[Закрыть].)
От мамули до того, как Сирил сразил ее наповал, а потом и завалил на спину за крикетным павильоном в Кронин-Холле, никто не требовал полной покорности. Там, на лужайке, когда ходившая вверх-вниз голова Сирила загораживала ей пробивавшееся сквозь листву солнце, а его горячее дыхание обжигало ей щеку, она испытала не только желанный оргазм, это было неожиданное откровение. Прежде она всегда полагала, что делает более или менее то, что хочет, и, насколько позволяли обстоятельства, более или менее распоряжалась своей судьбой. Мамуля не была склонна к философствованию и уж точно не вступила бы в полемику с Исайей Берлином[168]168
Исайя Берлин (1909–1997) – английский философ, автор книг «Две концепции свободы» (1958) и «Четыре эссе о свободе» (1969).
[Закрыть], но могла бы, как многие английские женщины ее поколения, сказать, что считает себя свободной. Теперь же она поняла, что истинная свобода в том, чтобы отказаться от себя, что реализовать себя нужно через жертву, что счастье в служении, и это единственный подлинный триумф воли: мамуля нашла своего Führer[169]169
Вождь, фюрер (нем.).
[Закрыть].
Собственно говоря, я почти не наблюдал их совместную жизнь. Полагаю, меня возмущало то, что Сирил каким-то образом узурпировал мое место – ведь раньше центром мамулиного внимания был я. Что было вполне естественно, даже для подростка, который при всем при этом боролся за собственную независимость. Но я не был Гамлетом, а эта парочка напоминала Гертруду и Клавдия только неуемными сексуальными аппетитами. В те годы Сирил мне скорее нравился – кажется, об этом я уже упоминал. А если я когда и видел в своем воображении, как проклятые пальцы гладят ее шею[170]170
Отсылка к словам Гамлета. У. Шекспир, «Гамлет». Акт III, сцена 4. Пер. М. Лозинского.
[Закрыть], я об этом позабыл, да и в то время наверняка постарался бы прогнать от себя эту картину. Что это мое отражение в зеркале, над моей обнаженной матерью, на некогда скандальном двойном портрете, который висит в Национальной портретной галерее, я теперь уже не так уверен, как прежде. Однако я могу с легкостью представить, что Стэн, пиши он мою биографию, мог бы, как я не раз намекал, без труда наложить на мою жизнь фрейдистскую схему. Правда куда проще. Я уехал учиться в университет, оттуда в Лондон, и пуповина уже была перерезана с соблюдением всех правил гигиены. В Дибблетуайт при мамуле и потом я приезжал только как гость, домом он мне никогда не был.
Письма проливают некоторый свет на эти запутанные отношения. (Да, разумеется, письма у меня.) Когда мамуля поселилась в Дибблетуайте, она довольно легко могла добраться автобусом через Рипон до Харрогейта. Ее родители, мои дедушка с бабушкой, которых я едва знал, закрыли свою закусочную, которая давала им средства к существованию, и жили себе поживали в небольшом домике за станцией. Сирил явно считал, что ей полезно время от времени их навещать. Возможно, ее отсутствие предоставляло ему возможность изучать разнообразные проявления Вечной женственности в других податливых особях. В разлуке они обменивались письмами. Только Сирил знает, сохранились ли письма мамули к нему.
Ранние письма полны признаниями в любви. «Ты – величайшая радость моей жизни», например. «Сегодня утром Дружок так бесновался, что я достал из корзины с грязным твои трусики, нюхал их и тосковал по тебе». «Теперь, когда я знаю, что такое настоящее одиночество, может быть, я его сумею нарисовать». Если не считать школьных лет в Кронин-Холле, недолгого пребывания в Кембридже и службы за границей, в армии, Сирил редко покидал родные болота. Он был сельский житель, можно сказать, деревенщина. Мамулина городская изысканность, титул, который она получила, вступив в брак с адвокатом, имевшим рыцарское звание, ее благоприобретенный «аристократический» выговор – все это явно его возбуждало. «Твои каблуки, твои шелковые блузки, рыжая лиса, которую ты носишь на плечах, с глазками-бусинками, острой мордочкой и пышным хвостом, меня заводят. Тебе достаточно сказать: „Сирил!“, и Дружок, вскочив, салютует тебе».
Он мог быть и жестоким, вскипал безо всякой причины, просто потому, что был не в настроении: «Вряд ли ты могла бы возбудить меня физически, не будь духовной составляющей. Начать с того, что грудь у тебя, на мой вкус, великовата. Немецкая шлюха в Гамбурге как-то раз научила меня, какой размер идеален: „Eine Handvoll und nicht mehr; was übrig ist ordinär“[171]171
Полная ладонь и не больше. Все, что больше, – банально (нем.).
[Закрыть]. Пойди спроси своих приятелей-лингвистов, что это значит». «Картофельную запеканку с мясом я делаю лучше, чем ты. От твоей меня тошнит».
Когда мой дедушка умер и мамуля стала ездить в Харрогейт не когда было удобно Сирилу, а когда это было нужно моей несчастной бабушке, он стал злобствовать. «Что мне нужно, так это здоровая девица, здоровая и телом и духом, которая будет меня поддерживать и давать мне все то, чего ты, так эгоистично меня покидая, давать мне не можешь. Боже ты мой, твой отец ведь уже умер. Почему бы твоей матери с этим не смириться?» Но к тому времени он уже повстречал леди Синтию, младшую дочь баронета, предкам которого пожаловал этот титул Генрих IV. В одном из писем мамуле он цитирует письмо леди Синтии к нему: «Я безумно волнуюсь, мечтаю, чтобы ты имел все, что ты хочешь и что тебе нужно. Меня это беспокоит куда больше, чем собственные нужды». Затем Сирил сообщает мамуле, что она сделала свой выбор: предпочла ему свою мать. Он желает ей всего хорошего. Этого письма хватило, чтобы мамуля немедленно вернулась в Дибблетуайт – как ее мать ни демонстрировала свое горе. Но в Дибблетуайте, разумеется, уже поселилась леди Синтия. И мамуле ничего не оставалось делать кроме как, в отчаянии заливаясь слезами, бежать в Лондон.
* * *
На мой автоответчик поступило сообщение от Стэна. Я уже давно и с благодарностью использовал возможность отслеживать звонки. И убежден, что после изобретения собственно телефона самым полезным нововведением в области телефонной связи стал автоответчик. Я никогда не снимаю трубку, не поняв, кто звонит. Поскольку от Сирила и от Саскии я узнал, что именно Стэну нужно, я предпочел не отвечать.
– Робин, дружище, как жизнь? Саския говорит, ты прекрасно выглядишь. Стал спортом заниматься? – Пока что это были просто приятельские привет – как дела, обычный вежливый набор. Затем голос стал тише, доверительнее – мол, между нами. – Ты, конечно, знаешь, почему я здесь, в старой доброй… Последние штрихи в книге об Энтуисле – найти ответы на несколько вопросов, разгадать несколько загадок. Саския наверняка ввела тебя в курс дела. Из всех источников один ты остался неохваченным. – Он хихикнул. – Впрочем, я серьезно: может пригодиться твоя помощь – насчет тех лет, которые Энтуисл провел с твоей матерью. Понимаешь, об этом времени почти ничего нет. Старина, ты со многим можешь мне помочь. Позвони, хорошо? Давай встретимся. Поужинаем вместе. Я угощаю. – Он оставил свой номер телефона.
Второе сообщение было чуть покороче. Тон был уже раздраженный, резкий – тон человека, которого незаслуженно обижают.
– Робин, это снова Стэн. Время поджимает. У нас здесь осталось всего несколько дней. Мне очень нужно с тобой поговорить. Позвони мне, хорошо? – И он еще раз оставил свой номер.
Я позвонил на следующий день поздним утром – я был уверен, что в это время не застану обоих – он будет занят своей исследовательской работой, она отправится приобщаться к культуре или на деловую встречу с местными клиентами и коллегами. На сей раз сообщение оставил я, на гостиничный автоответчик.
– Стэн, буду рад повстречаться с тобой и, конечно же, еще раз увидеться с всегда прекрасной Саскией. Но хочу заранее предупредить: я категорически отказываюсь обсуждать с тобой свою мать. Тебе в твоей книге придется обойтись без меня. Не хочу тебя расстраивать, но в своем решении я тверд.
Наши автоответчики продолжали общаться друг с другом.
– Это снова Стэн. Поверь, Робин, ты допускаешь большую ошибку. Без твоего вклада все, что у меня есть по этому периоду, – это мнение Энтуисла, а оно наверняка предвзятое, и комментарии лорда Питера Дермотта, сына Седрика Смит-Дермотта, за которым твоя мать была замужем, когда сбежала с Энтуислом. Помнишь его? Лорд Питер предоставил мне доступ к бумагам своего отца, и там мало лестного о мамуле. Кто еще? Ах, да, мать лорда Питера, леди Смит-Дермотт, которая некогда была супругой твоего директора в Кронин-Холле. Господи, как же вы, британцы, любите игру «Займи стул». И наконец – леди Гарриет Блэкени. Это, если тебе любопытно, дочь леди Синтии, которая заняла место мамули. Документальных подтверждений немного – я о письмах, дневниках и мемуарах. Эти люди – враги, Робин. Разве ты не хочешь пойти в контратаку? Позвони мне. Мы отбываем завтра.








