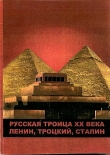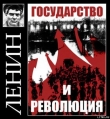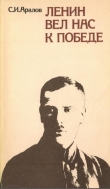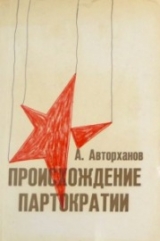
Текст книги "Происхождение партократии"
Автор книги: Абдурахман Авторханов
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 49 страниц)
Сталин великолепно понимал, что разгром «Новой оппозиции» есть не только политическая акция, но и важнейшая идеологическая проблема. В такой догматической, идеократической партии великое значение имеет как раз идеологическое обоснование каждой политической акции. Постоянно надо апеллировать к Марксу, Энгельсу, Ленину, чтобы убедить партию ленинских фанатиков, что прав ЦК (Сталин) и неправа оппозиция. В идеологическом разоблачении сначала троцкизма, а теперь зиновьевского «ленинизма» роль Бухарина была выдающаяся, более того – исключительная. Даже в глазах Ленина он был единственным и выдающимся теоретиком, хотя и с изъянами. Сталин тоже высоко ценил теоретические способности Бухарина и вовсю использовал их как против Троцкого, так и теперь против Зиновьева и Каменева. Поэтому и оппозиция сосредоточила весь огонь своей догматической критики на Бухарине. Сталин с деланным возмущением спрашивал: «Почему не прекращают они (оппозиционеры) травлю против т. Бухарина?… Чего собственно хотят от т. Бухарина? Вы хотите крови т. Бухарина? Мы не дадим ее вам» («Четырнадцатый съезд…», стр. 504–508). В новом издании своего доклада (1947) Сталин вычеркнул из текста «кровь т. Бухарина», ибо ее он сам пролил позднее, в 1938 г. (Сталин, Соч., т. 7, стр. 384).
Вечный агрессор по своей внутренней природе, в борьбе со своими соперниками Сталин всегда выступает в маске «миротворца». К этому его обязывала, правда, и его должность генерального секретаря, но Сталин эту маску надевал по тактическим соображениям – надо было создать в партии впечатление своей безупречной лояльности даже по отношению к тем из деятелей партии, которые открыто, перед всей партией требовали его собственной, сталинской «крови». С первых же дней болезни Ленина, особенно после разрыва с ним Ленина, Сталин взял за правило косвенно отвечать Ленину и его обвинениям в «Завещании» ортодоксальнейшей защитой ленинизма даже против Ленина. Эту тактику он продолжает и в борьбе с оппозициями. Проект его знаменитых «Вопросов ленинизма» опубликован ровно через неделю после того, как он получил письмо Ленина о разрыве личных отношений (см. «Правду» от 14 марта 1923 г., И. Сталин «К вопросу о стратегии и тактике»). Через два месяца после смерти Ленина он публикует брошюру «Об основах ленинизма» (апрель 1924). В ноябре 1924 г. он публикует брошюру «Троцкизм или ленинизм», а в декабре 1924 года брошюру «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов», как предисловие к его книге «На путях к Октябрю». Во всех этих работах одна генеральная идея – канонизация ленинизма в собственной интерпретации. Надо сказать, что на эту же тему писали Зиновьев, Троцкий, Бухарин; Зиновьев – развязно, Троцкий – блестяще, Бухарин – глубокомысленно, все трое, как и Сталин, канонизировали ленинизм (Троцкий еще хвалился, что он был первым, кто Ленина назвал гениальным), но Ленина понял только один Сталин. Вот почему «Основы ленинизма» Сталина в двадцатых годах стали «бестселлером» в партии. Объявляя Ленина непогрешимым, а ленинизм новой религией, Сталин знал, что он делает, но соперники Сталина, которые хорошо знали, что Ленин вовсе не является «святым», а сам ленинизм носит в себе ядовитые черты партаппаратной тирании, которая легко может переродиться в тиранию государственную, приняли вызов Сталина по созданию культа святости Ленина. И сталинцы и антисталинцы начали соревноваться в вознесении и обожествлении Ленина. Из человека и политика Ленина сделали атеистического бога. Однако в святость этого бога меньше всего верил Сталин, но лучше своих соперников он эксплуатировал такую веру у малоразборчивой армии партаппаратчиков. Выяснилось, что канонизацией Ленина, который не только ошибался много раз, но и которого и съезды партии и ЦК много раз поправляли, все оппозиции против Сталина обрекли себя на гибель. Это и доказал Сталин как в борьбе против Троцкого вчера, в борьбе с Зиновьевым сегодня, как он это докажет в борьбе с Бухариным завтра.
Проанализировав все писания Зиновьева 1925 г. (статьи «О большевизации» и «Философия эпохи», книгу «Ленинизм»), Сталин пришел к выводу, что политика Зиновьева не только враждебна духу ленинизма, но она представляет собой «постоянное вихляние». Вся карьера Зиновьева и при Ленине и после него отличалась, по Сталину, беспрерывным колебанием в сторону от ленинизма. Сталин спрашивал съезд: «Какая гарантия, что Зиновьев не колебнется еще разочек? Но это ведь качка, а не политика. Это ведь истерика, а не политика». Как же быть с таким Зиновьевым? Сталин огласил обращение большинства ЦК к Зиновьеву и Каменеву от 15 декабря 1925 г., за три дня до съезда, в котором предлагались «мир» и «компромисс» с оппозицией, если оппозиция признает свои ошибки, снимет наиболее активных зиновьевцев с занимаемых ими постов в Ленинграде, никто из оппозиции, особенно из членов Политбюро не выступит против линии ЦК (Сталина). За все это ЦК соглашается включить одного из оппозиционеров в члены Секретариата ЦК. Сталин заявил: «Вот какой компромисс предлагали мы, товарищи. Но оппозиция не пошла на соглашение… В основном мы и теперь остаемся на точке зрения этого документа» (Сталин, Соч., т. 7, стр. 389). Зиновьев на съезде вполне резонно заметил, что Сталин предложил не компромисс, а требовал полной капитуляции оппозиции. В заключительном слове Сталин еще раз продемонстрировал свое миролюбие и осудил несговорчивость оппозиции. Заодно Сталин заверил съезд: «Единство у нас должно быть, и оно будет, если партия, если съезд проявит характер и не поддастся запугиванию. (Голоса: «Не поддадимся, тут народ стреляный»)» (там же, стр. 390–391). (Из этого «стреляного народа» – 1 306 делегатов вместе с Зиновьевым и Каменевым – Сталин расстрелял в ежовщину около 80 %).
Съезд вынес резолюцию по политическому и организационному отчетам ЦК, в которой было сказано: «XIV съезд ВКП(б) всецело одобряет политическую и организационную линию ЦК» («КПСС в рез.», ч. II, 1954, стр. 73).
За резолюцию голосовало 559 делегатов, против 65 («Четырнадцатый съезд»…, стр. 524). Съезд записал и предупреждение по адресу «новой» или любой будущей оппозиции: «Съезд поручает ЦК вести решительную борьбу со всякими попытками подрыва единства партии, откуда бы они ни исходили и кем бы они ни возглавлялись» («КПСС в рез.», там же, стр. 81). Вся платформа «Новой оппозиции» решительно осуждалась, как антиленинская позиция. Было принято специальное обращение к Ленинградской организации, полное комплиментов по ее адресу и с резким осуждением ее лидеров. Впервые на XIV съезде Сталиным, Рыковым, Бухариным была провозглашена разработанная вместе с Зиновьевым, Каменевым и Троцким программа индустриализации страны, «чтобы СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, превратить в страну, производящую машины и оборудование».
Точно так же впервые на XIV съезде появляется и слово, которое символизирует собою самую кровавую эпоху в истории крестьянства: «колхоз» (там же, стр. 75, 79). Следующий съезд – XV – уже будет назван съездом коллективизации.
Верный своей тактике «миротворца», Сталин проявил определенное «великодушие» во время выборов ЦК. Хотя наиболее активные сторонники «новой оппозиции» были исключены из членов ЦК (Куклин, Залуцкий, Харитонов, Лашевич – последний был оставлен кандидатом), но сами Зиновьев, Каменев, Сокольников и Евдокимов были перевыбраны в члены ЦК, а Н. Крупская – в состав ЦКК.
За счет наиболее отличившихся в борьбе с «новой оппозицией» функционеров членский состав ЦК был увеличен с 53 до 63 человек, а кандидатский состав – с 34 до 43 человек. ЦКК была увеличена со 151 до 163 человек, а Центральная ревизионная комиссия – с 3 до 7 человек. Организационный пленум ЦК 1 января 1926 г. выбрал руководящие органы ЦК: члены Политбюро – Бухарин, Ворошилов (впервые), Зиновьев, Калинин (впервые), Молотов (впервые), Рыков, Сталин, Томский, Троцкий. Кандидаты: Рудзутак, Дзержинский, Петровский, Угланов и Каменев. Члены Секретариата: Сталин (генсек), Молотов, Угланов, Косиор С. и Евдокимов (зиновьевец). Кандидаты: Бубнов, Артюхина.
Члены Оргбюро: Сталин, Молотов, Угланов, Косиор, Евдокимов, Бубнов, Артюхина, Андреев, Догадов, Смирнов А. П. и Квиринг. Кандидаты: Михайлов, Лепсе, Чаплин, Шмидт В. и Уханов. Редактором «Правды» был утвержден Бухарин, а его заместителем Мануильский. Делегация ВКП(б) в Исполкоме Коминтерна была избрана в составе Зиновьева (председатель делегации и председатель Исполкома Коминтерна), Бухарина, Сталина, Каменева и Рыкова; были избраны также кандидаты в члены делегации: Троцкий, Сокольников, Лозовский, Пятницкий и от Украины: Мануильский и Шумский («КПСС в рез.», ч. II, стр. 235, 1953 г.).
Однако «миролюбие» Сталина продолжалось всего пять дней. 5 января 1926 г. новое Политбюро сняло со своих постов Зиновьева (председателя Ленинградского Совета), Каменева (пред. СТО и зам. пред. СНК), сменило все ленинградское руководство.
В грубом нарушении Устава партии и вопреки воле самой партийной организации, даже не созвав губернской партийной конференции, ЦК распустил весь губком партии, назначил новый его состав во главе с С. Кировым.
В Ленинград были направлены члены Политбюро, ЦК, ЦКК, ЦК Комсомола, чтобы завершить разгром районных партийных организаций Ленинграда. Вся эта кампания проводилась под лозунгом «развертывания внутрипартийной демократии». Насколько велико было действие психологического террора сталинского аппарата, говорит итог названной кампании: в декабре 1925 г. Ленинградская партийная организация единодушно, то есть 100 % голосовала за «новую оппозицию», а через две недели после XIV съезда – в середине января 1926 г. за «новую оппозицию» голосовало только 3,2 %, воздержалось – 0,5 %, а за Сталина против Зиновьева голосовало 96,3 % (История КПСС, т. 4, кн. I, стр. 432). Официальный историк партии объясняет такую «быстроту» перехода Ленинградской парторганизации от Зиновьева к Сталину тем, что так быстро и внезапно открылся «обман» оппозиции. Это не комплимент организации, которая совершила Октябрьский переворот. Впрочем, дело вовсе не обстояло так, как описывает официальный историк. Выступая на XV съезде ленинградский делегат, который отошел от оппозиции, Минин засвидетельствовал, как члены Политбюро объявляли решения большинства против ЦК решениями «большинства» за ЦК (см. следующую главу).
Если уж говорить об «обмане», то официальный историк хорошо знает, что великим обманом для его организаторов оказался сам Октябрь в Петрограде. Вот данные: из 24 членов ЦК, политически руководивших Октябрьской революцией в Петрограде, своей смертью умерло 7 человек, убиты врагами 2 чел., убито Сталиным 14 чел.; из 60 членов Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградского Совета и его комиссаров, военно-оперативно руководивших Октябрьской революцией, своей смертью умерло 5 чел., убит врагами один человек, убиты Сталиным 54 человека, в том числе такие его выдающиеся руководители как Троцкий, Крыленко, Антонов-Овсеенко, Уншлихт, Невский, Бубнов, Мехоношин, Дыбенко, Смилга, Гусев, Лацис и др.
Подводя общий итог XIV съезда партии, надо констатировать следующий исторический факт: четырнадцатый съезд был последним суверенным съездом в истории партии, на котором еще можно было критиковать ЦК, на котором ЦК еще отчитывался перед съездом, на котором ЦК еще выбирался действительным тайным голосованием. Все последующие съезды партии, вплоть до наших дней, являются таковыми лишь по названию. Ни на одном из этих съездов никогда не раздавалось и не может раздаться ни одного критического слова по адресу ЦК или даже его отдельных руководителей. На этих съездах не ЦК отчитывается перед съездом, а эти сами съезды отчитываются перед ЦК. Не эти съезды выбирают ЦК, а Политбюро и Секретариат ЦК сообщают очередному съезду состав нового ЦК. Съезд, конечно, имеет одно бесспорное право: единогласно голосовать за этот новый состав ЦК. Съезд партии превратился, хотя и в очень импозантную по внешней форме, но в чистейшую, по существу, фикцию власти. Поэтому Сталин был вполне логичен, когда он последний съезд в своей жизни (XIX съезд) созвал только через четырнадцать лет, хотя Устав гласил, что съезд должен созываться не реже одного раза в три года.
Никаких изменений в характере и функциях съездов не произошло и после Сталина, только стали их вообще созывать. Хотя наследники Сталина постоянно утверждают, что они вернулись после Сталина к «ленинским принципам партийной жизни», но съездам партии не возвращена их прерогатива: выбирать и сменять руководство ЦК. Все смены руководства ЦК после Сталина происходили не на съездах, как этого требуют «ленинские принципы», а путем заговоров аппарата ЦК – заговор против Берия (1953), заговор против Маленкова (1955), заговор против Молотова и молотовцев (1957), заговор против Хрущева (1964). Совсем не надо обладать даром предвидения, чтобы знать, что то же самое будет происходить и дальше. Могут сказать, что некоторые съезды после Сталина имели все-таки «историческое» значение, например, XX и XXII съезды. Такое утверждение было бы неправильным. Не в том историческое значение этих съездов, что они разоблачили Сталина, а в том, что ЦК на них разоблачил Сталина. Съезды единогласно голосовали за предложение ЦК осудить Сталина при Хрущеве. Съезды единогласно голосовали бы за предложение ЦК реабилитировать Сталина, если бы это было предложено наследниками Хрущева на последующих съездах партии. Такова цена съездов партии после XIV съезда.
Глава 26. ОБЪЕДИНЕННЫЙ БЛОК ОППОЗИЦИИ
На XIV съезде Зиновьев, все еще отказываясь противопоставить фракционной диктатуре Сталина свою собственную фракцию, предложил партии вернуть к активной партийной работе тех, кого он вместе со Сталиным исключил из политической жизни. Зиновьев говорил:
«Не допуская фракций, оставаясь в вопросах фракций на старых позициях, вместе с тем поручить ЦК привлечь к работе все силы всех бывших групп в нашей партии» («Четырнадцатый съезд. Стенографический отчет», 1926, стр. 467).
Сталин оценил это место речи Зиновьева как «сигнал к подтягиванию всех оппозиционных течений и к объединению их в одну силу» (Сталин, Соч., т. 8, стр. 234). Если это действительно был призыв Зиновьева к бывшим оппозициям, в частности к троцкистской, объединиться против Сталина на съезде, то он отклика не нашел. Троцкисты даже не знали, кого же собственно поддерживать во вновь вспыхнувшей борьбе – Сталина с Бухариным или Зиновьева с Каменевым. Троцкист Карл Радек определенно требовал поддержать Сталина против Зиновьева (Зиновьев выставил, как мы видели, Радека из Коминтерна), а троцкист Мрачковский вообще предлагал вести борьбу на два фронта – и против Сталина, и против Зиновьева. Серьезные разногласия были и среди зиновьевцев о возможности блокирования с Троцким. Ведь начиная с 1920 г., со времени профсоюзной дискуссии, основной профессией Зиновьева и Каменева стало разоблачение Троцкого и троцкизма. На девять десятых антитроцкистская литература партии против Троцкого принадлежала им.
Троцкий не оставался в долгу. Ошибочно считая Зиновьева мотором «тройки», а Сталина лишь «серой скотинкой» и узколобой посредственностью, Троцкий думал, что Сталин в аппарате ЦК выполняет только волю Зиновьева и Каменева. Уму непостижимо, как Троцкий недооценивал Сталина даже после того, как Сталин покончил со всеми своими соперниками: от Троцкого и Зиновьева до Бухарина и Рыкова, – а сам Троцкий очутился в эмиграции. В своей автобиографии, вышедшей в 1930 г., Троцкий давал такую характеристику Сталину:
«– Скажите мне, – спросил Склянский, – что такое Сталин?
Склянский сам достаточно знал Сталина (маршал Еременко говорит в своих мемуарах, что Сталин ему рассказывал, что будучи дважды наркомом он, Сталин, в гражданской войне должен был подчиняться заместителю наркомвоенмора Склянскому. – А. А.). Он хотел от меня определения его личности и вместе объяснения его успехов.
– Сталин, – сказал я, – это наиболее выдающаяся посредственность нашей партии… Победоносная контрреволюция может иметь своих больших людей. Но первая ступень ее, термидор, нуждается в посредственностях, которые не видят дальше своего носа» (Л. Троцкий, «Моя жизнь», ч. II, стр. 254–255).
Увы, начиная, по крайней мере, с XII съезда (1923) «дальше своего носа» не видели как раз те, которые в 1926 году объединились против Сталина – Троцкий, Зиновьев, Каменев плюс еще Бухарин, Рыков, Томский, плюс еще весь ЦК, плюс вся партия. Не видели потому, что, считая Сталина «посредственностью» или желая использовать его как партаппаратный инструмент в борьбе друг против друга, они не согласились снять Сталина с поста «генсека» даже тогда, когда это предлагал не только Ленин, но об этом просил сам Сталин. Именно сам Сталин напомнил своим соперникам, что они не видели «дальше своего носа», оставляя его на этом посту. Вот заявление Сталина на октябрьском пленуме ЦК и ЦКК (1927):
«Я на первом же заседании пленума ЦК после XIII съезда просил пленум ЦК освободить меня от обязанностей генерального секретаря. Съезд сам обсуждал этот вопрос… и все делегаты единогласно, в том числе и Троцкий, Каменев, Зиновьев обязали Сталина остаться на своем посту… Через год после этого я вновь подал заявление в пленум об освобождении, но меня вновь обязали остаться на посту» (Сталин. Соч., т. 10, стр. 175–176).
Если бы Троцкий, Зиновьев, Каменев удовлетворили эту «настойчивую» просьбу Сталина, они, вероятно, умерли бы естественной смертью, а миллионам советских граждан была бы сохранена жизнь. Но вот теперь, весной 1926 г., после того, как Сталин в союзе с зиновьевцами разбил Троцкого (1924), а в союзе с бухаринцами разбил Зиновьева (1925), создается «объединенный блок» троцкистов и зиновьевцев. Его главная цель: свержение Сталина. Однако осуществить эту цель мирными средствами в нынешних условиях, в отличие от 1923–1924 гг., было почти безнадежным делом. Если в 1923 году блок Троцкого-Зиновьева, опираясь на «Завещание» Ленина, легко мог свергнуть Сталина, если в 1924 году блок Троцкого-Зиновьева, опираясь на Ленинградскую организацию (Зиновьев) и Московскую организацию (Каменев, Зеленский) и основываясь на заявлении Сталина, еще имели шансы (правда, только шансы) избавиться от Сталина в рамках партийной легальности, то в 1926 году свергнуть Сталина можно было только силой. Объединенная оппозиция взялась за такую форму борьбы, которая была не только безнадежна, но даже и бесцельна. Они хотели средствами пропаганды, дискуссий и бесконечных заверений в верности ленинизму убедить партию в гибельности политики сталинского ЦК, привлечь ее на свою сторону и таким образом на основании Устава цартии снять Сталина. Эта задача безнадежной и бесцельной была потому, что партия, которая волею Ленина с 1921 года находилась в перманентном осадном положении, после XIV съезда фактически перестала быть партией. Ведь это замечает тот же Троцкий: «Воцарился режим чистой диктатуры аппарата над партией. Другими словами: партия перестала быть партией» (Троцкий, «Моя жизнь», ч. II, стр. 257).
Значит, партия – фикция, а действительная сила – партаппарат. К кому же тогда апеллировала объединенная оппозиция? Она апеллировала к фикции и ей же жаловалась на «диктатуру аппарата». «Делай другому то, чего не хочешь, чтобы делали тебе», – таков, говорят, закон шахматной игры. Лидеры оппозиции им пренебрегли, Сталин его использовал классически. Сталин методически, систематически готовился к физической ликвидации своих соперников. Первым человеком, который это заметил еще в 1925 г., был секретарь Ленинградского губкома, член ЦК Залуцкий, когда он говорил о готовящемся термидоре. Потом в 1926 году об опасности термидора в партии говорили все лидеры оппозиции. Более того, Зиновьев и Каменев были убеждены еще тогда, что Сталин способен организовать против них даже террористический акт.
Анализируя позднейшие события и вспоминая рассказы Зиновьева и Каменева, Троцкий писал, что то, что Сталин станет тираном, можно было предвидеть еще в годы борьбы оппозиции с ним. Вот соответствующее место из рассказа Троцкого:
«Возможно ли извлечь заключение в отношении 1924 г. на основании 1936–1938 годов, когда Сталин уже стал тираном? В 1924 г. он только боролся за власть. Был ли он тогда способен на такой переворот? Все данные из его биографии заставляют нас ответить на этот вопрос положительно…
Чернила и печатное слово кажутся ему слишком незначительной вещью в политической борьбе. Только покойники не настораживают его. После того, как Зиновьев и Каменев в 1925 г. порвали со Сталиным, оба заложили в надежном месте письма: "Если мы внезапно умрем, то знайте, что это дело рук Сталина". Они мне советовали то же самое. "Вы думаете, что Сталин озабочен, как отвечать на ваши аргументы. Ничуть не бывало. Он рассчитывает ликвидировать вас без наказания"» (L. Trotski, "Stalin", p. 417).
К этому Зиновьев добавил: «Он бы вас ликвидировал еще в 1924 г., если бы он не боялся возмездия – террористических актов со стороны части молодежи. Это причина того, что Сталин решил начать с уничтожения кадров оппозиции и отложил ваше убийство до того времени, пока он себя почувствует безнаказанным. Он ненавидит нас, особенно Каменева, так как мы слишком много знаем о нем, но он еще не готов убить нас» (там же, стр. 417).
Эти слова надо было бы признать пророческими, если бы они не были основаны на точном знании психологии Сталина как врожденного преступника. К тому же, убийство политических противников было легитимным правом большевистской революции, признанным не только Лениным и Сталиным, но и Троцким, Зиновьевым, Каменевым. Здесь важно только зафиксировать: в случае окончательного торжества сталинской диктатуры Троцкий, Зиновьев, Каменев знали, что они будут уничтожены физически, знали как раз в те годы, когда они боролись против Сталина чернильным потоком и словесной макулатурой. Чтобы предупредить это, а стало быть, предупредить сталинскую тиранию с ее миллионными издержками человеческих жизней, Троцкий, Зиновьев, Каменев не оказались способными на насильственный переворот путем физической ликвидации самого Сталина с полдюжиной его ближайших сопреступников. Какие бы социологические соображения о «системе» или философские рассуждения о неведомых законах революции ни приводили против меня, я все-таки утверждаю: без Сталина история СССР пошла бы по-другому.
Однако как троцкисты, так и зиновьевцы, а потом и бухаринцы органически не были способны стать на путь революционного, насильственного устранения диктатуры аппарата Сталина в силу своей идеологии. Они были рабами коммунизма, а Сталин был его господином. Они до смерти боялись, чтобы из попытки насильственного свержения сталинского режима не вспыхнула народная революция против коммунизма вообще. Слишком свежа была в памяти история Кронштадта. В их глазах Сталин был коммунист, хотя и ошибающийся, а они в глазах Сталина были врагами, которых он собирался, по их же признанию, убить при первой же возможности. Люди, которые, в слепом подражании историческим параллелям, сами себе изобрели жупел «термидор», скорее были способны на самоубийство (как это уже сделали из-за Сталина старые большевики – члены ЦК: троцкист Иоффе, бухаринец Томский, «национал-уклонист» Скрыпник, даже сталинец Орджоникидзе), чем на убийство Сталина. Кроме того, троцкисты и зиновьевцы считали себя людьми идеи и высокой революционной совести, а у Сталина в фокусе всех идей стояла власть, что же касается совести, то он имел о ней очень утилитарное представление: хороши враги с моральным тормозом – тем вернее можешь с ними расправиться. Хороша совесть у соперника, чтобы вернее ею воспользоваться бессовестному. Если уже говорить о революционной совести самого Сталина, то, перефразируя одного польского писателя, можно было бы сказать: совесть у Сталина всегда была чиста, так как он ею никогда не пользовался. Если политика и мораль у Макиавелли противопоказаны, если нравственные нормы Ленина подчинены его цели, то аморальность Сталина в политике была абсолютного класса. В этом одна из всепобеждающих тайн сталинского тактического мастерства в политической борьбе. Троцкий же имел о морали домакиавеллианское представление. Он писал:
«Только политика, состоящая на службе великой исторической задачи, может обеспечить себе морально безупречные методы действия» (Троцкий, «Моя жизнь», ч. II, стр. 228).
Такими он, конечно, считал свою политику и свои методы. Но это уже предрешало победу Сталина. Правда, в глазах профанов, внешнее целомудрие Сталина и его подчеркнутая лояльность к соратникам могут быть сравнимы только с его революционным аскетизмом и демонстративным безразличием к своим личным интересам. Сталинская нарочитая недооценка самого себя, его подкупающая «скромность», его обезоруживающая «искренность» в борьбе «за партию, через партию, во имя партии», его безоглядная «решительность» пожертвовать самим собой, если этого потребуют интересы дела, – все это производит в те годы исключительное впечатление. В этой роли он – резкий антипод Троцкому и Зиновьеву, которые так кричаще, так грубо лезут в «исторические личности» на первом плане. Чего стоит только одно выступление Сталина в 1926 году в Тифлисе, когда впервые начали создавать ему «культ». Сталин сказал:
«Должен вам сказать, товарищи, по совести, что я не заслужил доброй половины тех похвал, которые здесь раздавались по моему адресу. Оказывается, я и герой Октября, и руководитель компартии Советского Союза, и руководитель Коминтерна, чудо-богатырь и все, что угодно. Все это пустяки, товарищи, и абсолютно ненужное преувеличение. В таком тоне говорят обычно над гробом усопшего революционера. Но я еще не собираюсь умереть» (Сталин, т. 8, стр. 173).
Сталин добавил, что он был «учеником революции» у присутствующих здесь на собрании его старых рабочих-учителей, был «подмастерьем революции» у рабочих-мастеров в Баку, а «там, в России, под руководством Ленина, я стал одним из мастеров революции» (там же, стр. 173–175). Такая манера говорить и такая «скромность» были чужды не только высокопарному Троцкому, но и заносчивому Зиновьеву, а Сталин не только демонстративно отводил всякие почести и чинопочитания по своему адресу, но еще бросил лозунг: «Скромность украшает большевика». Во что эта «скромность» потом вылилась, конечно, известно, но в то время борьбы за власть против «газетных вождей» (так Сталин называл Зиновьева и Троцкого) «скромность» Сталина импонировала даже его врагам.
Вернемся к истории образования «Объединенного блока» оппозиции Троцкого и Зиновьева.
Послушаем сначала характеристику, которую дает Троцкий своим коллегам по «блоку», а также историю возникновения самого «блока». Троцкий пишет: «В первый период борьбы мне была противопоставлена "тройка". Но сама она была далека от единства. Как Зиновьев, так и Каменев в теоретическом отношении были, пожалуй, выше Сталина. Но им обоим не хватало той мелочи, которая называется характером. Более интернациональный, чем у Сталина, кругозор, приобретенный ими в эмиграции под руководством Ленина, не усиливал, а, наоборот, ослаблял их… Попытка Зиновьева и Каменева хоть частично отстоять интернациональные взгляды превращала их в глазах бюрократии в "троцкистов" второго сорта. Тем неистовее пытались они вести кампанию против меня, чтобы упрочить на этом пути доверие аппарата к себе. Но и эти усилия были напрасны. Аппарат все более явно открывал в Сталине наиболее крепкую кость от своих костей. Зиновьев и Каменев оказались вскоре враждебно противопоставлены Сталину, а когда они попытались из тройки перенести спор в ЦК, то обнаружилось, что у Сталина несокрушимое большинство. Каменев считался официальным руководителем Москвы. Но после того разгрома, какой, при участии Каменева, был учинен над Московской партийной организацией в 1923 г., когда она большинством выступила на поддержку оппозиции, рядовая масса московских коммунистов угрюмо молчала. При первых попытках сопротивления Сталину Каменев повис в воздухе. Иначе сложилось дело в Ленинграде. От оппозиции 1923 г. ленинградские коммунисты были ограждены тяжелой крышкой зиновьевского аппарата. Но теперь очередь дошла и до них. Ленинградских рабочих взволновал курс на кулака и социализм в одной стране. Классовый протест рабочих совпал с сановной фрондой Зиновьева. Так возникла новая оппозиция, в состав которой на первых порах входила и Н. К. Крупская. К великому удивлению для всех и прежде всего для самих себя, Зиновьев и Каменев оказались вынуждены повторять по частям критику оппозиции (Троцкого) и вскоре были зачислены в лагерь "троцкистов". Немудрено, если в нашей среде сближение с Зиновьевым и Каменевым казалось, по меньшей мере, парадоксом. Среди оппозиционеров было немало таких, которые противились этому блоку. Были даже такие, которые считали возможным вступить в блок со Сталиным против Зиновьева и Каменева. Один из близких моих друзей, Мрачковский, старый революционер и один из лучших военачальников гражданской войны, высказался против блока с кем бы то ни было, и дал классическое обоснование своей позиции: "Сталин обманет, а Зиновьев убежит". Но в конце концов такого рода вопросы решаются не психологическими, а политическими оценками. Зиновьев и Каменев открыто признали, что "троцкисты" были правы против них с 1923 г. Они приняли основы нашей платформы. Нельзя было при таких условиях не заключить с ними блока… При первом же свидании со мною Каменев заявил: "Стоит вам с Зиновьевым появиться на одной трибуне, и партия найдет свой настоящий ЦК…" Каменев явно недооценил ту работу по разложению партии, которую "тройка" произвела в течение трех лет» (Троцкий, «Моя жизнь», ч. II, стр. 263–265).
Троцкий правильно оценивал положение: отсутствие думающей партии, ликвидированной «тройкой» в пользу аппарата, бесхарактерность Зиновьева и Каменева, коварство Сталина, бесперспективность борьбы обычными методами; но вывод отсюда он сделал странный и необъяснимый – заключить блок с бесхарактерными лидерами «новой оппозиции», чтобы бороться со Сталиным методами речей и увещания. Троцкий философствовал о перспективах такой борьбы:
«Мы шли навстречу непосредственному разгрому, уверенно подготовляя свою идейную победу в более отдаленном будущем. Применение материальной силы играло и играет огромную роль в человеческой истории; иногда прогрессивную, чаще реакционную… Но отсюда бесконечно далеко до вывода, будто насилием можно разрешить все вопросы и справиться со всякими препятствиями» (там же, стр. 276–277).