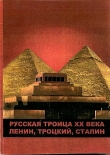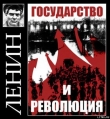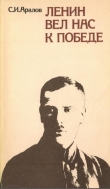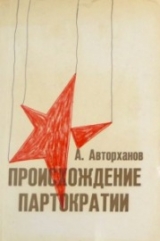
Текст книги "Происхождение партократии"
Автор книги: Абдурахман Авторханов
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 49 страниц)
Как уже отмечалось, репрессии Временного правительства после июльского восстания были направлены не против партии, даже не против ЦК партии большевиков, а против отдельных вождей, главным образом, против Ленина. Но и против Ленина не был объявлен общий розыск. Его оставили в покое, лишь бы он не показывался на собраниях. Большевики же, в свою очередь, использовали бегство Ленина от суда, как акт мученичества и преследования старого революционера и «демократа» революционным демократическим правительством.
Тем временем, ЦК большевиков развертывает весьма интенсивную пропаганду дела Ленина. В июле ЦК и его местные филиалы выпустили 51 печатный орган (сюда не входят большевистские газеты, издаваемые Советами и профсоюзами). Из них только 13 органов были запрещены после июльского восстания, из которых пять (в том числе Центральный орган) начали выходить под новыми названиями и, кроме того, прибавилось еще пять новых («История КПСС», т. 3, кн. 1, стр. 183). Ежедневный тираж всех большевистских газет и журналов составлял накануне октябрьского переворота около 600 тыс. экземпляров (там же, стр. 253).
На VI съезде были приведены многочисленные данные о той огромной организаторской работе по подготовке революции, которую вели агенты ЦК на местах. Четыре заседания VI съезда были посвящены «докладам с мест». Докладывали Военная организация при ЦК, Военная организация при Московском комитете, Военная организация 12-ой армии и Румынского фронта, гражданские партийные организации – Петрограда, Москвы, Донбасса, Белоруссии, Кронштадта, Урала, Средней Сибири, Прибалтики, Поволжья, Грозного, Закавказья, Петроградской межрайонной организации и др. («Шестой съезд…», стр. 55–96). Все докладчики единодушно подчеркивали, что после июльского восстания местные большевистские организации работают еще более интенсивно, главное – легально, без каких-либо притеснений со стороны властей. VI съезд воочию убедил всех, кроме, кажется, Временного правительства и эсеро-меньшевистских вождей Советов, что большевики всерьез держат курс на вооруженное восстание в самом близком будущем. Это была не риторика, когда изданный ЦК от имени VI съезда «Манифест» (он был написан Бухариным) кончался словами: «…Грядет новое движение и настаёт смертный час старого мира. Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи!» (там же, стр. 276).
Трагедия свободной России заключалась в том, что в это предупреждение она решительно не верила. Самый распространенный предрассудок сводился к тому, что большевики, если даже и захватят власть, то не справятся с нею и не удержат ее. Против этого предрассудка Ленин даже написал специальную брошюру: «Удержат ли большевики государственную власть?» И Ленин без всяких обобщений и философских мудрствований отвечал на этот вопрос так: если старой Россией управляли 130000 помещиков, то новой Россией могут управлять 240000 большевиков. На основной аргумент противников, что у большевиков нет «культурных кадров», чтобы справиться со сложными задачами управления, чтобы овладеть государственной машиной, Ленин в полном согласии с Марксом отвечал: да мы и не собираемся ею овладевать. Мы хотим ее разрушить до последнего винтика, а это мы вполне можем. Управлять же новым государством мы будем через новую форму власти – через Советы.
Сейчас же после VI съезда перед ЦК стал ряд вопросов: как трактовать на практике снятие лозунга «Вся власть Советам!»? Означает ли это перенесение центра тяжести работы с легальных органов партии на ее нелегальные органы? Другой вопрос казался еще более щекотливым – на какую из двух столиц страны ориентироваться, как на будущий центр восстания, – на Петроград или на Москву? Наконец, был выдвинут и такой вопрос – допустимы ли принципиально соглашения между большевиками и другими советскими партиями против контрреволюции справа.
На первый и главный вопрос ЦК отвечает классической ленинской формулой: сочетать нелегальную работу с легальной. Оставаться в Советах, но всеми средствами дискредитировать данные Советы и добиваться их перевыборов. Даже идти и в такой легальный орган, как Московское государственное совещание (12–15 августа), где правые генералы Корнилов и Каледин собираются с представителями Государственной думы всех четырех созывов, вместе с Милюковым, Керенским, Церетели. Идти, чтобы образовать на совещании большевистскую фракцию, которой поручается выработать декларацию, «зачитать ее перед началом работы совещания и в знак протеста демонстративно покинуть зал заседаний» («История КПСС», т. 3, кн. 1, стр. 210).
Сделать это большевикам не удалось, так как ЦИК Советов, официально участвовавший на Московском совещании, исключил из состава своей делегации группу большевиков, разгадав их замысел. Тогда ЦК большевиков, пользуясь преобладанием большевиков в руководстве московских профсоюзов, объявил день открытия Московского совещания днем всеобщей политической забастовки.
Призыву ЦК последовало свыше 400000 рабочих Москвы и ее окрестностей (там же, стр. 211). Вот этот неожиданно большой революционный успех в Москве, которую до сих пор считали более консервативной по сравнению с Петроградом (потому и было созвано здесь Государственное совещание), заставил даже Ленина пересмотреть (на время) свою стратегию завоевания власти в отношении главного центра восстания. 19 августа Ленин писал:
«Москва теперь, после Московского совещания, после забастовки, после 3–5 июля, приобретает или может приобрести значение центра. В этом громадном пролетарском центре, который больше Петрограда, вполне возможно нарастание движения типа 3–5 июля… 3–5 июля 1917 г. в Питере лозунг взятия власти был бы неверен… Теперь совсем не то. Теперь в Москве, если вспыхнет стихийное движение, лозунг должен быть именно взятия власти» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 77, 78).
В отношении временных блоков и соглашений с меньшевиками и эсерами ЦК держался другой политики, чем Ленин. После 3–5 июля Ленин уже в принципе отрицал всякую связь и всякие совместные акции с этими партиями. ЦК и Московский комитет, наоборот, именно теперь, в связи со слухами о подготовке выступления Корнилова, считали, что такие связи не только допустимы, но и полезны. На заседании «Узкого состава» ЦК от 14 августа было доложено, что в Москве создан Временный революционный комитет из 7 человек: двух большевиков, двух меньшевиков, двух эсеров и одного от штаба. На том же заседании «ЦК постановил войти в информационную связь» с ЦИК, в котором меньшевики и эсеры создали «Информационное бюро» из всех советских партий в связи со слухами о заговоре справа. Информационное бюро официально пригласило в свой состав представителей ЦК большевиков. Последний постановил направить туда членов ЦК Свердлова и Дзержинского («Протоколы ЦК РСДРП(б)», стр. 21).
Такое поведение ЦК вызвало резкий протест Ленина. В статье «Слухи о заговоре» он писал по поводу поведения ЦК и МК:
«…ясное сознание массами предательства меньшевиков и эсеров, полный разрыв с ними, такой же бойкот их всяким революционным пролетарием…» Ленин требовал «отстранить от работы членов ЦК или" МК, ежели бы факт блока подтвердился, и внести вопрос о формальном отстранении их до съезда на первый же пленум ЦК». (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 77).
ЦК эти требования Ленина оставил без внимания.
Глава 12. ЦК ПРОТИВ ПЛАНА ЛЕНИНА О ВОССТАНИИ
Впрочем, очень скоро, буквально через неделю, сам Ленин пересмотрит свою тактику по вопросу об отношении к эсерам и меньшевикам, пересмотрит настолько резко, насколько резкими оказались новые события – поход Корнилова на Петроград. Однако накануне похода Корнилова, между 21 августа (сдача немцам Риги) и 25 августа (начало похода Корнилова) Ленин не склонен к компромиссам. Как раз в это время он препровождает в ЦК «Листок по поводу взятия Риги», в котором он выдвигает лозунг «Долой правительство Керенского». Ленин требует, чтобы ЦК практиковал издание таких нелегальных листков с открытыми призывами к свержению правительства. Ленин предлагает подписывать подобные листки от имени «группы преследуемых большевиков», чтобы не подвергать опасности закрытия легальных газет ЦК большевиков. Характерна оговорка Ленина. Он пишет:
«Я знаю, косность наших большевиков велика и что много труда стоить будет добиться издания нелегальных листков» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 86). Но, как сказано, поход Корнилова резко меняет как общую ситуацию, так и тактику Ленина.
Политика Ленина этого периода – шедевр тактического искусства.
Сам Корниловский поход не был авантюрой генерала, вызванной честолюбием. Корнилов хотел предупредить второе восстание большевиков, к которому Ленин начал призывать свой ЦК после сдачи Риги (см. выше). Бойка, которые затребовал Керенский для укрепления петроградского гарнизона, генерал Корнилов считал полезным использовать в борьбе с революционным экстремизмом. Поэтому, двигая на Петроград третий конный корпус ген. Крымова, Верховный главнокомандующий Корнилов потребовал себе полноты военной и гражданской власти, пока в тылу не будет наведен полный порядок. Фактором беспорядка в глазах Корнилова, несомненно, был и весь Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В ответ на это требование Керенский снял Корнилова с поста Верховного главнокомандующего и обратился к Совету за помощью, а Совет, в свою очередь, обратился за помощью к ЦК большевиков. То была ошибка, равной которой не знала история России. Ленин мастерски ею воспользовался.
На первый взгляд, большевики были поставлены перед сложной дилеммой: либо, воспользовавшись восстанием Корнилова, попытаться свергнуть Керенского, либо поддержать Керенского, как «меньшее зло», против Корнилова? Дилемма не оставляла возможности для третьего решения. Меньше всего допускала дилемма и решение, основанное на чувстве. Не эмоция, не чувство мести к Керенскому, который арестовал Троцкого и Каменева и загнал в подполье Ленина и Зиновьева, а реальный расчет ума, – таков должен быть большевистский подход к решению этой проблемы исторической важности не только для судьбы Керенского, но и для судьбы самого же большевизма. Троцкий писал:
«Все понимали, что если Корнилов вступит в город, то первым долгом зарежет арестованных Керенским большевиков» (Л. Троцкий, «Моя жизнь», ч, 2, стр. 39).
Более сложной была дилемма самого Керенского: либо капитуляция перед Корниловым и тогда торжество военной диктатуры с возможной перспективой реставрации старого порядка, либо открытая борьба против Корнилова, с опорой на левый революционный фронт, включая сюда и большевиков, и тогда вероятный разгром Корнилова с возможной перспективой установления большевистской диктатуры.
Как правительство Керенского, так и эсеро-меньшевистские Советы переоценили опасность первой перспективы и недооценили опасности второй. В этом помог им и сам генерал Корнилов. Направляя генерала Крымова на Петроград, Корнилов говорил, что Крымов «не задумается, в случае, если это понадобится, перевешать весь состав Совета рабочих и солдатских депутатов» («Воспоминания генерала А. С. Лукомского», т. 1, Берлин, 1922, стр. 228). «Перевешать весь состав Совета» означало вешать не только Ленина и Троцкого, но и самого Керенского вместе с Церетели и Черновым. Такая перспектива лидерам Советов менее улыбалась, чем все еще проблематичная победа большевиков. Ленин, как всегда, вопрос связывал с перспективой захвата власти: допустимо ли выступление большевиков против Корнилова и тем самым косвенная поддержка Керенского с точки зрения завоевания власти? Приближает или удаляет подобное действие большевиков от власти? В письме в ЦК РСДРП (б) от 30 августа Ленин дает следующую тактическую установку:
«Мы будем воевать, мы воюем с Корниловым, как и войска Керенского, но мы не поддерживаем Керенского, а разоблачаем его слабость. Это разница. Это разница довольно тонкая, но архисущественная и забывать ее нельзя… Мы видоизменяем форму нашей борьбы с Керенским… Не отказываясь от задачи свержения Керенского, мы говорим: надо учесть момент, сейчас свергать Керенского мы не станем, мы иначе подойдем к задаче борьбы с ним… теперь главным стало: усиление агитации за своего рода "частичные требования" к Керенскому: арестуй Милюкова, вооружи питерских рабочих… узаконь передачу помещичьих земель крестьянам, введи рабочий контроль… Неверно было бы думать, что мы дальше отошли от задачи завоевания власти пролетариатом. Нет. Мы чрезвычайно приблизились к ней, но не прямо, а со стороны. И агитировать надо сию минуту не столько прямо против Керенского, сколько косвенно против него ж…менно: требуй активной и активнейшей истинно революционной войны против Корнилова.
Развитие этой войны одно только может привести нас ко власти и говорить в агитации об этом поменьше надо» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 120–121).
Надо заметить, что ЦК независимо от Ленина наметил и вел приблизительно ту же самую политику «условной поддержки» Керенского, начиная с первого же дня кризиса – 25 августа. Поэтому в приписке к своему письму Ленин констатирует полное совпадение своих взглядов с политическими статьями последних шести номеров (с начала кризиса) Центрального органа ЦК (газ. «Рабочий») (там же, стр. 121). Правда, в ЦК была небольшая группа, которая выступала за поддержку Временного правительства без всяких оговорок, даже за блок с эсерами (там же, стр. 119), но после письма Ленина о ней уже больше ничего не было слышно.
Когда эсеро-меньшевистский ЦИК Советов образовал «Комитет народной борьбы с контрреволюцией» и обратился к ЦК большевиков о вступлении в этот Комитет, то ЦК РСДРП (б) послал туда своих представителей. Чтобы объяснить такой резкий поворот в отношениях к меньшевикам и эсерам, ЦК 29 августа разослал местным партийным организациям телеграмму, которой говорилось:
«Во имя отражения контрреволюции работаем в техническом и информационном сотрудничестве с Советом при полной самостоятельности политической линии» («КПСС в борьбе за победу великой октябрьской социалистической революции». 5 июля-5 ноября 1917, стр. 44).
ЦК большевиков энергично взялся за организацию рабочих дружин и Красной гвардии в рабочих районах Петрограда. Оружие они получали из правительственных складов и даже непосредственно от заводов (так, Путиловский завод дал Красной гвардии 100 артиллерийских орудий) («История КПСС», т. 3, кн. 1, стр. 220). На военно-политическое обучение Красной гвардии большевики выделили свыше 700 инструкторов (там же). Вовсю развернула в эти дни свою работу Военная организация ЦК, на этот раз при официальной поддержке правительства и Советов. Более того. Корниловские дни и свой временный контакт с правительством и Советом ЦК большевиков использовал для вооружения своих сторонников во всех узловых пунктах страны: в областях Москвы, Центральной промышленной области, Урала, Поволжья, Украины, Закавказья, Дона, Сибири, Туркестана, Прибалтики, – всюду создавались рабочие дружины и Красная гвардия.
Л. Троцкий был совершенно прав, когда писал: «Армия, восставшая против Корнилова, была будущей армией Октябрьской революции» (Л. Троцкий, «Моя жизнь», ч. 2, стр. 39). Разумеется, Временное правительство освободило всех арестованных большевиков во главе с Троцким, Каменевым, Луначарским. Распоряжение Временного правительства о привлечении к судебной ответственности Ленина и Зиновьева формально отменено не было, хотя их, по-прежнему, никто не искал. Зиновьев даже участвовал на заседаниях ЦК, которые происходили легально.
30 августа поход Корнилова почти без единого выстрела провалился, а генерал Крымов, приехавший на аудиенцию к Керенскому, через час после этой аудиенции застрелился. Корнилова арестовали, но остались вооруженные отряды рабочих и Красная гвардия большевиков. Тот, кто их вооружил, не был теперь в силах их разоружить. Свою двуединую задачу – разгром Корнилова, чтобы разгромить Керенского – большевики выполнили только в отношении первой части. Теперь на карту была поставлена судьба самого Керенского. Вполне естественно, что ЦК большевиков постарался извлечь из своего участия в подавлении похода Корнилова на Петроград максимальный политический капитал. В решающем пункте – в вопросе об изменении партийного состава столичных Советов – этот капитал был уже извлечен: на перевыборах Советов в Петрограде и Москве большевики вместе с сочувствующими им левыми эсерами получили большинство. Председателем Петроградского Совета решением ЦК от 24 сентября 1917 года был выдвинут Троцкий («Протоколы ЦК», стр. 69), которого Совет и утвердил 25 сентября (председателем Московского Совета был утвержден другой член ЦК – В. Ногин). Этой своей победой большевики были обязаны поражению Корнилова.
Однако как ни была важна такая победа сама по себе, воспользоваться ею для захвата власти было трудно, пока во главе ЦИК Советов сидели меньшевики и эсеры. Поэтому ЦК большевиков ищет методов и путей оторвать ЦИК Советов от Временного правительства и заставить его образовать чисто советское правительство, хотя бы и без большевиков. Даже представился и случай для такого оборота дела. Так, когда после подавления «корниловского восстания» стал вопрос о реорганизации Временного правительства, в которое должны были войти три партии – кадеты, меньшевик и эсеры, – то меньшевики и эсеры заявили, что они не войдут в правительство вместе с кадетами. ЦК большевиков решил воспользоваться создавшимся положением, чтобы предложить меньшевикам и эсерам компромисс: меньшевики и эсеры согласны образовать свое, чисто советское, правительство, а большевики согласны отказаться от требования немедленного перехода власти в руки «пролетариата и беднейшего крестьянства» (диктатуры пролетариата).
ЦК большевиков специально обсуждал данный вопрос на своем заседании от 31 августа (13 сентября) 1917 г. По докладу Каменева была принята резолюция «О власти», которая была предложена ЦИК Советов, Петроградскому и Московскому Советам. В резолюции выдвигались следующие требования:
1. устранение Временного правительства и создание «власти революционного пролетариата и крестьянства»;
2. декретирование демократической республики;
3. передача помещичьей земли без выкупа крестьянам;
4. введение рабочего контроля;
5. объявление тайных договоров недействительными и предложение немедленного мира;
6. прекращение репрессий против большевиков;
7. отмена смертной казни на фронте и выборность комиссаров;
8. осуществление права наций на самоопределение (Финляндия, Украина);
9. роспуск Государственного Совета и Государственной думы;
10. уничтожение всех сословных (дворянских) преимуществ (Протоколы ЦК РСДРП (б), стр. 37–38).
1-3 сентября Ленин написал специальную статью об этом компромиссном предложении ЦК большевиков. Эта статья так и называлась: «О компромиссах». Ленин пишет, что обычное представление о большевиках сводится к тому, что большевики не признают никаких компромиссов. Ленин говорит, что как бы лестно ни было для революционеров такое представление о них, но все же оно неверно. В истории большевизма бывали вынужденные и добровольные компромиссы, но при этом большевики оставались верными своим принципам. Ленин писал:
«Компромиссом является, с нашей стороны, наш возврат к доиюльскому требованию: вся власть Советам, ответственное перед Советами правительство из эсеров и меньшевиков… Компромисс состоял бы в том, что большевики, не претендуя на участие в правительстве… отказались бы от выставления немедленного требования перехода власти к пролетариату и беднейшим крестьянам, от революционных методов борьбы за это требование» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 134–135). Резолюция ЦК «О власти» была принята на заседании Петроградского Совета (за – 279, против – 115, воздержались 50 депутатов). Она была принята также на заседании Московского Совета (за – 354, против – 252). Однако на предшествовавшем заседании ЦИК Советов 31 августа 1917 года резолюция «О власти» ЦК большевиков была отвергнута меньшевистско-эсеровским блоком, как чисто пропагандный маневр большевиков (Протоколы ЦК РСДРП (б), стр. 257).
Когда же была создана Директория (Совет пяти) во главе с Керенским, большинство ЦИК Советов поддержало ее. После этого Ленин писал:
«Меньшевики и эсеры не приняли, даже после корниловщины, нашего компромисса, мирной передачи власти Советам (в коих у нас тогда еще не было большинства), они скатились опять в болото грязных и подлых сделок с кадетами. Долой меньшевиков и эсеров. Беспощадная борьба с ними» (Ленин, там же, стр. 262).
Лозунг «Вся власть Советам!» оставался, но этот лозунг теперь рассматривался как лозунг восстания. ЦК большевиков и Ленин решили, что уже наступает время, когда в порядок дня становится вопрос о восстании.
Одновременно с ростом влияния большевиков в Петроградском и Московском Советах росла и численность самой партии. Следующие официальные данные показывают это:
| Время | Число членов партии |
| февраль 1917 | 23000 |
| апрель (конец) 1917 | 80000-100000 |
| август (начало) 1917 | 240000 |
| октябрь 1917 | 350000 |
(Источник: «История КПСС», т. 3, кн. 1, стр. 244).
География распределения большевиков была следующая:
| Москва и ее область | 70000 | 20 % |
| Петроград и губерния | 70000 | 17 % |
| Украина, юго-западный и румынский фронты, Чёрное море | 60000 | 17 % |
| Прибалтика, Северный фронт, Балтийский флот, русские войска в Финляндии | 30000 | 8,5 % |
| Белоруссия и западный фронт | 30000 | 8,5 % |
| Поволжье | 20000 | 5,5 % |
| Кавказ, Кавказский фронт, Дон | 20000 | 5,5 % |
| Сибирь и Дальний Восток | 15000 | 4,5 % |
| Другие | 10000 | 3,5 % |
(Источник: там же, стр. 247).
Росла и Красная гвардия, руководимая Военной организацией ЦК. Перед октябрьским переворотом красногвардейские отряды насчитывали в Петрограде свыше 20 тысяч бойцов, в Москве – около 10 тысяч, тысячи и сотни красногвардейцев были и в других городах. Всех красногвардейцев из рабочих было 200 тысяч человек (там же, стр. 264). Быстро росло влияние большевиков и в армии. Из 12 армии в ЦК партии сообщали: «Громадное большинство войск на нашей стороне. Примыкают к нам целые полки», из 5 армии сообщали в ЦК: «Большинство армии доверяет только большевикам. Это их последняя надежда» (там же, стр. 272). Официальный историк партии, анализируя рост влияния большевиков в армии, приходит к выводу: «Даже командующие фронтами и представители Ставки вынуждены были признать, что армия выходит из повиновения, не хочет продолжать войну, слушает только большевиков» (там же, стр. 272).
Почему это так? Ответ очень простой: партия большевиков, пользуясь максимальной легальностью и безнаказанностью, твердила каждый день, каждый час одно и то же: любой ценой заключить мир, распустить солдат по домам, а пока это произойдет, немедленно отменить смертную казнь на фронте, а комиссаров и командиров не назначать сверху, а выбирать голосами самих рядовых солдат! Знаменитый «Приказ № 1» по демократизации армии от 1 марта 1917 года, составленный меньшевиками и эсерами, оказался в конечном счете динамичным инструментом в руках большевиков по завоеванию армии на свою сторону.
Суханов ярко рисует общую ситуацию, которая сложилась в России после корниловского выступления: «Никакого управления, никакой органической работы центрального правительства не было, а местного – тем более. Развал правительственного аппарата был полный и безнадежный. А страна жила. И требовала власти, требовала работы государственной машины… О земельной политике теперь не было и речи. Даже разговоры о земле застопорились на верхах, в то время, как волнение низов достигло крайних пределов. В Зимнем дворце даже не было и ответственного человека, не было министра (земледелия), а по России катилась волна варварских погромов, чинимых жадными и голодными мужиками. С продовольственными делами было не лучше. В Петербурге мы перешли пределы, за которыми начался голод со всеми его последствиями. Но никакого выхода не виделось в перспективе. Органическая работа была нулем, но политический курс давал отрицательную величину. Не нынче – завтра армия должна была начать поголовное бегство с фронта, ибо голод – прежде всего. Во всех промышленных центрах не прекращались забастовки, в которых, по очереди, участвовал, кажется, весь российский пролетариат. Положение на железных дорогах становилось угрожающим. Движение сокращалось от недостатка угля… Вся пресса, сверху донизу, в разных аспектах, с разными тенденциями и выводами, но одинаково громко и упорно, вопила о близкой экономической катастрофе. Чисто административная разруха также была свыше меры. Там, где в корниловщину возникли бойкие военно-революционные комитеты, уже не было речи о законной власти, действующей согласно общегосударственным нормам и директивам из столицы» (Н. Суханов, «Записки о революции», кн. VI, стр. 73–75).
Как тут не вспомнить то, что Ленин назвал «основным законом революции»? Сравните выше нарисованную ситуацию России накануне октября 1917 года с тем, что Ленин говорит об этом законе. В работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» Ленин писал:
«Основной закон революции, подтвержденный всеми революциями и, в частности, всеми тремя русскими революциями в XX в. состоит вот в чем: для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда "низы" не хотят старого и когда "верхи" не могут по-старому, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса» (Ленин, 3-е изд., т. XXV, стр. 223).
Таковы именно и были условия в стране, когда Ленин поставил перед ЦК в четырех письмах от 12–14 сентября, 13–14 сентября, 29 сентября и 24, октября настойчиво и категорически вопрос о немедленном захвате власти. Эти письма Ленина, кроме принципиального значения, имеют еще и большую историческую ценность, так как вскрывают всю остроту борьбы Ленина против ЦК именно по вопросу о своевременности или несвоевременности захвата власти. В связи с вопросом захвата власти в ЦК образовались три группы:
группа Троцкого – власть захватить, но самый захват приурочить к открытию II съезда Советов, назначенного на 20, а потом перенесенного на 25 октября (съезд назначал старый меньшевистско-эсеровский ЦИК Советов);
группа Ленина – власть захватить немедленно и не дожидаясь открытия съезда;
группа Зиновьева-Каменева – захват власти в данных условиях авантюра, а потому гибелен для революции.
В первом письме от 12–14 сентября 1917 года (накануне открытия Демократического совещания) в ЦК Ленин пишет:
«Получив большинство в обоих столичных Советах, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки… на очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере и Москве, завоевание власти, свержение правительства. Обдумать, как агитировать за это, не выражаясь так в печати» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 239–240).
Второе письмо Ленина ЦК от 13–14 сентября озаглавлено: «Марксизм и восстание». Это письмо представляет собой как бы конденсированный тактико-стратегический трактат на тему: как успешно провести вооруженное восстание. Его центральная мысль: восстание – это искусство. Его практические предложения: «А чтобы отнестись к восстанию по-марксистски, т. е. как к искусству, мы в то же время, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку (там должно 15 сентября открыться Демократическое совещание. – А. А.), занять Петропавловку (крепость на Неве в центре Петрограда. – А. А.), арестовать Генеральный штаб и правительство… занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы» (Ленин, там же, стр. 247).
Как реагировал ЦК на эти письма Ленина? На этот вопрос отвечает протокол заседания ЦК от 15 сентября 1917 г. На этом заседании присутствовало из 24 членов ЦК – 16 человек. В числе присутствовавших были – Троцкий, Каменев, Рыков, Ногин, Сталин, Свердлов, Дзержинский и др. Главным и единственным вопросом повестки дня было обсуждение цитированных выше двух писем Ленина. Из протокола явствует, что ЦК фактически отклонил предложение Ленина о восстании. Письма Ленина дали Центральному Комитету лишь повод «в ближайшее время назначить собрание ЦК, посвященное обсуждению тактических вопросов» (Протоколы ЦК РСДРП (б), Москва, 1958, стр. 55). Не было принято и предложение Сталина «разослать письма в наиболее важные организации и обсудить их» (это был предлог, чтобы вообще уклониться от прямого ответа Ленину). Не было принято также и предложение Каменева, который очень резко требовал отклонить письма Ленина. В его предложении говорилось:
«ЦК, обсудив письма Ленина, отвергает заключающиеся в них практические предложения, призывает все организации следовать только указаниям ЦК и вновь подтверждает, что ЦК находит в текущий момент совершенно недопустимым какие-либо выступления на улицу» (там же, стр. 55). ЦК однако принимает резолюцию, которая отклоняет установки Ленина и в своей заключительной части совпадает с резолюцией Каменева. В резолюции ЦК сказано:
«Членам ЦК, ведущим работу в Военной организации и в ПК, поручается принять меры к тому, чтобы не возникло каких-либо выступлений в казармах и на заводах» (там же, стр. 55).
Заседание ЦК далее выносит постановление: уничтожить все экземпляры писем Ленина, кроме одного. Это решение принимается 6 голосами против 4, 6 воздержалось (там же, стр. 55).
Ленин считал ошибкой ЦК и участие в Всероссийском Демократическом совещании, которое было созвано меньшевиками и эсерами от имени ЦИК Советов (с 14 по 22 сентября 1917 г.). На этом совещании были представлены, кроме советских партий, городские самоуправления, земства, кооперативы, профсоюзы, представители деловых кругов, а также сами Советы, всего около 1 500 чел. Вопрос об участии в этом Демократическом совещании, а также в работе органа, который оно создало – в Предпарламенте (Временный Совет республики) обсуждался на многих заседаниях ЦК в сентябре 1917 г. Принципиальное решение об участии в Демократическом совещании ЦК принял 3 сентября. В циркулярном письме к местным организациям он потребовал «приложить все усилия к созданию возможно более значительной и сплоченной группы из участников совещания, членов нашей партии» («Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организациями», март-октябрь 1917 г., 1957, стр. 35).