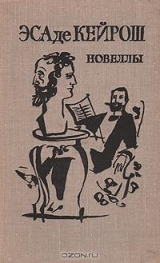
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
ПОЭТ-ЛИРИК[8]8
Перевод Е. Любимовой
[Закрыть]
Это безыскусная и печальная, без громких слов и без прикрас, история поэта Коррискосо. Из всех известных мне поэтов-лириков он, бесспорно, самый несчастный. Я познакомился с ним в Лондоне, в Чаринг-Кросской гостинице, морозным декабрьским утром. Я приехал с континента, обессиленный двухчасовым путешествием через Ла-Манш… Ах, что это за море! А ведь дул всего-навсего свежий норд-вест, но там, на юте, под клеенчатым плащом, которым один моряк накрыл меня, как накрывают мертвое тело, он показался мне, иссеченному снегом и волнами, угнетенному этим бурным мраком, который пароход разрывал толчками и грохотом, тайфуном Китайских морей…
Едва войдя в гостиницу, сонный и замерзший, я ринулся к широкому камину перистиля и там и остался, наслаждаясь теплым покоем, в котором застыл зал, и блаженно уставившись в чудесные ярко-красные угли… Тут-то я и увидел эту тонкую длинную фигуру, уже во фраке и в белом галстуке; стоя по другую сторону камина с молчаливой грустью задумавшегося аиста, он тоже смотрел на пылающий огонь, держа в руках салфетку. Но в это время портье прикатил мой багаж, и я пошел зарегистрироваться в бюро. Служащая, суровая блондинка с античным профилем со стершейся медали, положила свой crochet[9]9
Крючок (англ.).
[Закрыть] рядом с чашкой чая, ласково погладила свои белокурые бандо, правильно записала мое имя, оттопырив пальчик, чтобы ярче заиграл ее бриллиант, и я начал подниматься по широкой лестнице, как вдруг тощая роковая фигура согнулась в поклоне и прошептала по-английски, отделяя один слог от другого:
– Завтрак, который полагается здесь в семь часов, уже подан…
Но мне не нужен был завтрак, который полагается здесь в семь часов. Я пошел спать.
Попозже, уже отдохнувший, свежий после ванны, я спустился в ресторан ко второму завтраку и тотчас увидел эту худую и грустную личность, печально сидящую у широкого окна. Скупо освещенный зал был пуст; камины пылали; а за окном, в воскресной тиши, с бледного, тусклого неба падал на молчаливые улицы бесконечный снег. Я едва различал спину этого человека, но в его худой, чуть сгорбленной фигуре было столь явное выражение уныния, что я заинтересовался ею. Его длинные волосы тенора, ниспадавшие на воротник фрака, обличали в нем южанина; весь он зябкий и хрупкий съеживался при виде этих крыш, покрытых снегом, от ощущения этой мертвой, белой тишины… Я окликнул его. Когда он обернулся, его физиономия, которую накануне я едва разглядел, произвела на меня впечатление: у него было длинное, грустное, некрасивое, очень смуглое лицо с еврейским носом, с короткой курчавой бородой – бородой Христа с картины романтической школы; голова у него была из тех, которые, если не ошибаюсь, в изящной словесности именуются «главами»: она была широкой и блестела. Его запавшие блуждающие глаза смотрели с мечтательной нерешительностью человека, плавающего в теплой воде… А как он был худ! Его короткие панталоны обвивались при ходьбе вокруг ног, как вокруг флагштока; на фраке образовались складки, как на широкой тунике; длинные и острые полы выглядели до боли смехотворно. Не глядя на меня, он с покорной скукой принял заказ и потащился к comptoir[10]10
Стойка (франц.).
[Закрыть], за которой метрдотель читал Библию, провел блуждающей и скорбной рукой по лбу и сказал ему глухим голосом:
– Номер триста семь. Две отбивные котлеты. Чай…
Метрдотель отложил Библию, записал заказ, и я сел за столик и раскрыл томик Теннисона, который захватил с собой к завтраку, ибо – кажется, я уже говорил вам об этом – было воскресенье, – день, когда нет ни газет, ни свежего хлеба. Над немым городом шел снег. За одним из столов, в отдалении, сложив руки на животе и открыв рот, дремал какой-то старик с красным лицом и совсем белыми волосами и бакенбардами, в пенсне, съехавшем на кончик носа. И только один-единственный звук доносился с улицы, один-единственный стонущий голос, к тому же заглушаемый снегом, один-единственный умоляющий голос, на все лады распевавший псалом на противоположном углу… Лондонское воскресенье!
Этот худой принес мне завтрак, и едва он приблизился с чайным сервизом, как я тотчас почувствовал, что томик Теннисона, который я держал в руках, заинтересовал его и взволновал, – он бросил на раскрытую страницу быстрый, жадный взгляд и почти неприметно вздрогнул; это была, конечно, мгновенная вспышка, ибо, поставив прибор, он повернулся на каблуках и меланхолично пристроился у окна, печально глядя на печальный снег. Его странное поведение я приписал роскошному переплету книги – это были «Королевские идиллии» – из черного сафьяна, с гербом Ланселота Озерного – золотой пеликан на зеленом море.
Этой ночью я уехал экспрессом в Шотландию и, еще не доехав до Йорка, оцепеневшего в своей епископской чопорности, успел забыть о романтическом слуге из Чаринг-Кросского ресторана. Но через месяц я вернулся в Лондон, и стоило мне войти в ресторан и вновь увидеть эту длинную роковую фигуру с блюдом ростбифа в одной руке и с картофельным пудингом в другой, как я почувствовал, что во мне вновь пробудился прежний интерес к этому человеку. В этот же вечер мне на долю выпало неожиданное счастье узнать его имя и частично приоткрыть завесу над его прошлым. Было уже поздно, когда я, возвращаясь из «Ковент-Гардена», встретил в перистиле гостиницы моего величественного и преуспевающего друга Браколетти.
Вы не знаете Браколетти? Его внешность великолепна; у него необъятный живот, густая черная борода, он медлителен и церемонен, как тучный паша, но эта турецкая серьезность и важность смягчается в Браколетти его улыбкой и взглядом. Что за взгляд! Этот ласковый взгляд заставляет меня вспоминать животных Сирии: он – сама нежность. Его мягкая влажность словно излучает набожность тех племен, которые производят на свет Мессию… Ну а улыбка! Улыбка Браколетти – это самое совершенное, самое образцовое, самое красивое выражение человеческого лица; в этих губах, которые, раскрываясь, обнажают блестящую эмаль нетронутых зубов, видны чуткость, простодушие, добродушие, мягкая ирония, уверенность… Ах, в этой улыбке и заключалось счастье Браколетти!
Человек Браколетти ловкий. Он родился в Смирне; родители его были греки; и все это видно по нему; но, когда его спрашивают о прошлом, славный грек с минуту качает головой от плеча к плечу, добродушно прячет под сомкнутыми веками свои магометанские глаза, расплывается в медовой улыбке и шепчет, как бы захлебываясь добротой и умилением:
– Eh! Mon Dieu! Eh! Mon Dieu!.. [11]11
Ах, боже мой! Ах, боже мой!.. (франц.)
[Закрыть]
Вот и все. Впрочем, он, надо думать, много путешествовал, ибо он знает Перу, Крым, мыс Доброй Надежды и прочие экзотические страны так же хорошо, как Риджент-стрит, однако всем понятно, что его жизнь, в отличие от жизни заурядных левантийских авантюристов, не соткана из золота и грубой пряжи, из роскоши и нищеты: это толстяк, следовательно, человек осторожный; великолепный солитер никогда не исчезал с его пальца, и никакие холода ни разу не застали его без меховой шубы стоимостью в две тысячи франков; каждую неделю он выигрывает в Фратернал-клубе, уважаемым членом которого он является, десять фунтов в вист. Это сильный человек.
Но есть у него и одна слабость. Он необычайно лаком до девочек двенадцати – четырнадцати лет; он любит худеньких, светлых блондинок, имеющих обыкновение ругаться. Он методически находит их в бедных кварталах Лондона. Он помещает их дома и держит там, как птичек в клетке, сует им зернышки в клюв, слушает их глупую болтовню, подбадривает их, когда они вытаскивают у него из кармана шиллинги, наслаждается развитием порочности в этих цветах, выросших в лондонской грязи, отдает в их распоряжение бутылки с джином, чтобы ангелочки перепились, и когда какая-нибудь из них, возбужденная спиртным, растрепанная, с горящими щеками, поносит его, таскает за волосы, выкрикивает непристойности, славный Браколетти, сидя по-турецки на диване, благоговейно сложив руки на брюхе, закатив глаза в блаженной истоме, шепчет на своем итальянском с берегов Сирии:
– Piccolina! Gentilleta![12]12
Малютка! Прелесть! (искаж. итал.)
[Закрыть]
Милый Браколетти! Я с искренней радостью обнял его в тот вечер в Чаринг-Кроссе, а так как мы давно не видались, то мы вместе отправились ужинать в ресторан. Печальный слуга был там за своей comptoir, склонившись над «Журналь де Деба». И едва Браколетти появился с величием толстяка, как тот молча протянул ему руку; shake-hands[13]13
Рукопожатие (англ.).
[Закрыть] было торжественным, ласковым и чистосердечным.
Великий боже, они были друзьями! Я утащил Браколетти в глубину зала и, трясясь от любопытства, учинил ему допрос с пристрастием. Прежде всего я хотел узнать имя этого человека.
– Его зовут Коррискосо, – торжественно объявил Браколетти.
Тогда я захотел узнать его историю. Но Браколетти, подобно богам Аттики, которые укрывались за облаками от мирских забот, спрятался за своими недомолвками.
– Eh! Mon Dieu!.. Eh! Mon Dieu!..
– Нет, нет, Браколетти. Погодите. Я хочу знать его историю… Эта роковая, байроническая фигура должна иметь свою историю…
Тут Браколетти вдохнул столько свежего воздуха, сколько позволяли ему живот и борода, и поведал мне, цедя слова по капле, что они вместе ездили в Болгарию и в Монтенегро… Коррискосо был его секретарем… Изящная словесность… Тяжелые времена… Eh! Mon Dieu!..
– Откуда он родом?
Браколетти, не колеблясь, ответил, понизив голос и сделав жест, выражавший глубочайшее презрение:
– Он грек из Афин.
Мое любопытство исчезло, как вода, которую впитывает песок. Когда путешествуешь по Востоку, по левантийским портам, быстро возникает – возможно, это и несправедливо – подозрительное отношение к грекам; на первых порах при встречах с ними, особливо у людей с университетским, классическим образованием, даже загорается энтузиазм, они размышляют об Алкивиаде и Платоне, о славе этого красивого и свободного народа, в их воображении вырисовываются величественные очертания Парфенона. Но после регулярных посещений табльдотов и ютов Messageries[14]14
Торгово-пассажирская контора (франц.).
[Закрыть], а главное, после знакомства с легендами о мошенниках, орудующих от Смирны до Туниса, иные люди при встречах с греками тотчас проделывают следующее: быстро застегивают пиджак, крепко хватаются обеими руками за цепочку от часов и напрягают свои умственные способности, дабы отражать атаки escroquerie[15]15
Здесь: мошенников (франц.).
[Закрыть]. Создалась же столь зловещая репутация потому, что те греки, которые переселяются в левантийские порты, – это подлая чернь, частью жулики, частью лакеи, банда коварных и жестоких грабителей. И, по правде говоря, как только я узнал, что Коррискосо – грек, я сразу же вспомнил, что во время моего последнего пребывания в Чаринг-Кроссе мой изящный томик Теннисона исчез из моего номера, и в памяти у меня возник алчный, неотрывный взгляд, который вперил в него Коррискосо… Это был разбойник!
За ужином мы больше не говорили о Коррискосо. Нас обслуживал другой официант, красный, честный здоровяк. Мрачный Коррискосо, погрузившись в «Журналь де Деба», не вылезал из-за comptoir.
Случилось так, что, разыскивая в тот вечер свой номер, я заблудился… Гостиница был переполнена, и меня поместили на верхнем этаже Чаринг-Кросса, в лабиринте коридоров, лестниц, углов и закоулков, где обойтись без карты и компаса почти невозможно.
С подсвечником в руке я проник в коридор, куда доносилось теплое дуновение душной улочки. К дверям здесь были приклеены не номера, а карточки, на которых были написаны имена: Джон, Смит, Чарли, Уилли… Несомненно, это были комнаты слуг. Одна дверь была открыта, и из нее падал свет газового рожка; я прошел вперед и увидел Коррискосо, который, еще во фраке, сидел за покрытым бумагами столом, подперев голову рукой, и писал.
– Вы не скажете, как пройти в номер пятьсот восемь? – пролепетал я.
Он устремил на меня сонный, мутный взор; казалось, он возвращается из дальней дали, из другого мира; хлопая глазами, он повторял:
– Пятьсот восемь? Пятьсот восемь?..
И тут я увидел на столе, среди бумаг, грязных воротничков и четок, мой томик Теннисона! Он, этот разбойник, перехватил мой взгляд и выдал себя с головой: краска залила его худое лицо. Первым движением моей души было не узнать книгу, но так как это было движение благородное, то я, повинуясь высшему моральному кодексу великого Талейрана, удержался от него; указуя на томик обвиняющим перстом, перстом разгневанного Провидения, я сказал:
– Это мой Теннисон…
Не знаю, что он пробормотал мне в ответ, ибо я сжалился над ним и, вновь охваченный интересом, который возбуждала во мне эта комичная фигура сентиментального грека, добавил тоном, в котором было полное прощение или же оправдание:
– Великий поэт, не правда ли? Как вы думаете? Я уверен, что вы в восторге…
Коррискосо покраснел еще больше, но это не была злость униженного грабителя, пойманного с поличным; я понял: то был стыд человека, который видит, что его интеллект, его поэтический вкус разгаданы, а ведь он носит на своих плечах потрепанный фрак официанта. Он не ответил. Но страницы книги, которую я раскрыл, говорили за него: белизну широких полей покрывала сеть карандашных пометок: «Великолепно! Гениально! Божественно!» – буквы этих слов были судорожно набросаны дрожащей рукой, движимой трепетным чувством…
Тем не менее Коррискосо, опустив голову, продолжал стоять в почтительной, виноватой позе; узел его белого галстука уполз назад. Бедный Коррискосо! Меня тронула эта поза, отражающая все его несчастливое прошлое, глубокую грусть, порождаемую его зависимым положением… Я вспомнил, что ничто не производит такого впечатления на жителя Леванта, как драматический, театральный жест; я протянул ему руки так, как это сделал бы Тальма, и сказал:
– Я тоже поэт!..
Северянину эта необычная фраза показалась бы смешной и нескромной, но левантинец тотчас увидел в ней экспансивность, присущую родственной душе. Ибо – разве я не сказал вам об этом? – то, что писал Коррискосо на полоске бумаги, были стихи; это была ода.
И тут, закрыв дверь, Коррискосо рассказал мне свою историю или, вернее, отрывки, разрозненные эпизоды из своей биографии. Она столь печальна, что я привожу ее в сокращении. Впрочем, в его повествовании имелись лакуны, растянувшиеся на целые годы, и я не могу логично и последовательно восстановить историю этого чувствительного романтика. Все здесь неясно и подозрительно. Родился он действительно в Афинах; его отец как будто был грузчиком в Пирее. В восемнадцать лет Коррискосо стал слугой у одного врача, а в свободное от службы время посещал афинский университет: так часто бывает la-bas[16]16
Там, в тех местах (франц.).
[Закрыть], говорил он. Он закончил факультет права, и позднее, в трудные времена, это дало ему возможность стать переводчиком при гостинице. К этому же времени относятся его первые элегии, помещенные в лирическом еженедельнике под названием «Афинские отголоски». Литература привела его непосредственно к политике и к парламентскому честолюбию. Пылкая любовь, трагическое крушение, свирепый муж и угроза смерти заставляют его покинуть родину. Он отправляется в Болгарию, становится служащим одного из отделений Оттоманского банка в Салониках, посылает скорбные надгробные песни в некую провинциальную газету «Трубы Арголиды». Тут снова лакуна, черная дыра в его истории. Затем он снова появляется в Афинах в новом платье, либералом и депутатом…
Это время славы было недолгим, но его было достаточно для того, чтобы привлечь к нему внимание; его речи, яркие, поэтичные, искусно разукрашенные блестящими образами, покорили Афины; по его словам, он мог заставить цвести самые бесплодные земли; из какой-нибудь дискуссии о налогах или о путях сообщения рождались у него эклоги Феокрита. В Афинах талант такого рода приводит к власти: Коррискосо назначили на высокий государственный административный пост, однако министерство, а вместе с ним и большинство тех, для кого Коррискосо был любимым тенором, пало и, независимо от конституционной логики, исчезло в одном из тех внезапных политических крушений, столь обычных в Греции, когда правительства рушатся, как дома в Афинах, – без причины. Отсутствие фундамента, ветхость вещей и индивидуальностей… А если разваливается фундамент, все превращается в прах…
Снова лакуна, снова темный омут в истории Коррискосо…
Он всплывает на поверхность, он – член республиканского клуба в Афинах, в одной из газет он требует, чтобы Польше предоставили независимость и чтобы Грецией управлял конгресс гениев. Тут же он публикует свои «Вздохи Фракии». Новая сердечная склонность… И наконец, – об этом он сказал мне не объясняя причины – он вынужден искать убежища в Англии. В Лондоне он перепробовал разные должности и в конце концов устроился в Чаринг-Кросском ресторане.
– Это тихая пристань, – сказал я, пожимая ему руку.
Он горько улыбнулся. Это, конечно, тихая и к тому же удобная пристань. Его сытно кормят, он получает приличные чаевые, у него старый пружинный матрас, но его нежной душе ежеминутно наносятся мучительные раны…
Печальные дни, дни крестных мук – это дни, когда наш поэт-лирик вынужден разносить по залу котлеты и кружки с пивом благополучным, прожорливым буржуа! Но независимое положение удручает его; его душа грека не так уж жаждет свободы; для него достаточно, чтобы хозяин был вежлив. И, как он сказал мне, ему приятно признать, что завсегдатаи Чаринг-Кросса никогда не попросят у него горчицы или сыру, не сказав ему: «If you please»[17]17
Пожалуйста (англ.).
[Закрыть], а уходя и проходя мимо него, прикладывают два пальца к полям шляпы: это удовлетворяет самолюбие Коррискосо.
Но мучением было для него то, что он постоянно имел дело с едой. Если бы еще он был счетоводом у банкира, главным приказчиком в магазине шелковых тканей!.. На миллионных оборотах, на торговом флоте, на грубой силе золота или же на разных тканях, на том, чтобы заставить побежать на свету муаровые волны, на том, чтобы придать бархату мягкость линий и складок, – на всем этом лежит тень поэзии… Но как можно развивать вкус, артистическую индивидуальность, чувство цвета, эффекта, чувство драматического – в ресторане, нарезая ростбиф или Йоркский окорок?! И к тому же, как он говорил, подавать еду, разносить блюда – значит служить только брюху, потрохам, низменной материальной потребности: в ресторане бог – это желудок, душа же пребывает снаружи вместе со шляпой, повешенной на вешалке, или со свернутым в трубку журналом, оставшимся в кармане пальто.
А его окружение, а отсутствие собеседников! К нему обращаются только затем, чтобы попросить у него колбасы или нантских сардинок! Он открывает рот, в который смотрел афинский парламент, только затем, чтобы спросить: «Еще хлеба? Еще порцию бифштекса?» Его удручает, что у него нет никакой возможности блистать своим красноречием.
Кроме того, служба мешает ему работать. Коррискосо слагает стихи в уме: четыре прогулки взад-вперед по комнате, резкий взмах головой – и полнозвучная, сладостная ода готова… Но перерыв, вызванный голосом какого-нибудь прожорливого завсегдатая, требующего, чтобы его накормили, становится роковым для этой творческой манеры. Порой, опершись на подоконник, с салфеткой в руке, Коррискосо сочиняет элегию; вся она – лунный свет, белые платья бледных дев, лазурные просторы, цветы скорбной души… Он счастлив, он вознесся на небеса поэзии, на голубоватые равнины, где царят мечты, перепархивающие со звезды на звезду… И вдруг из какого-нибудь угла орет грубый голодный голос:
– Бифштекс с картофелем!
Ах! Крылатая фантазия улетает прочь, словно испуганная голубка. И тогда несчастный Коррискосо, низвергнутый с высот мысли, сгорбившись, идет с болтающимися полами фрака и спрашивает, слабо улыбаясь:
– Прожаренный или с кровью?
О, горестная судьбина!
– Но почему же, – спросил я его, – вы не бросите этот вертеп, этот храм желудка?
Он опустил свою красивую голову поэта. И поведал мне о том, что его удерживает, поведал мне об этом, чуть не плача у меня на груди; узел его белого галстука оказался у пего сзади: Коррискосо влюблен.
Он влюблен в некую Фанни, прислугу, выполняющую в Чаринг-Кроссе всякую работу. Он полюбил ее в первый же день, когда вошел в гостиницу; он полюбил ее в то мгновение, когда увидел, как она моет каменную лестницу, когда увидел ее полные голые руки и ее белокурые волосы, роковые белокурые волосы – такие волосы сводят с ума южан – пышные, с медным отливом, с отливом матово-золотистым, заплетенные в косу, как у богини. И потом – цвет кожи, цвет кожи англичанки из Йоркшира – кровь с молоком…
Вот отчего страдает Коррискосо! Вся его скорбь изливается в одах, которые он переписывает набело по воскресеньям, по выходным дням и в праздник Тела Христова! Он прочитал мне их. И я увидел, как может страсть потрясти нервное существо: какая жестокость в выражениях, какой взрыв отчаяния, какие вопли истерзанной души, пронзающие отсюда, с верхнего этажа Чаринг-Кросса, молчание холодного неба! Дело в том, что Коррискосо ревнует. Несчастная Фанни равнодушна к этому поэту, к этому нежному, к этому чувствительному романтику: она влюблена в полисмена. Она влюблена в полисмена, в этакого Алкида, в этакую гору мяса, ощетинившуюся лесом бороды; грудь у него – как борт броненосца, а ноги – как нормандские крепости. Этот Полифем, как называет его Коррискосо, обычно дежурит на Стрэнде, и бедняжка Фанни проводит день в ожидании у окошка на верхнем этаже гостиницы.
Все свои сбережения она тратит на джин, на бренди, на можжевеловую водку и вечером приносит ему кувшинчики под передником; она удерживает его при себе с помощью спиртных напитков; это чудовище, эта громада, воздвигнутая на углу, молча берет кувшин, одним махом опрокидывает его в темную глотку, глухо рыгает, проводит волосатой ручищей по своей бороде Геркулеса и молча идет дальше, гулко топая по вымощенной плитами мостовой своими широченными подошвами, не сказав: «Спасибо», не сказав: «Люблю тебя». И быть может, в эту самую минуту, в другом углу, худощавый Коррискосо, напоминающий в тумане тонкие очертания телеграфного столба, рыдает, закрыв худое лицо прозрачными руками.
Бедный Коррискосо! Если бы он мог хоть растрогать ее!.. Но где там! Это тело унылого чахоточного вызывает у нее презрение, а его душа ей непонятна… Не то чтобы Фанни были недоступны пылкие чувства, выраженные на языке поэзии. Но Коррискосо может писать свои элегии только на родном языке… А Фанни по-гречески не понимает… А Коррискосо велик только на греческом…
Я спустился в свою комнату, оставив его рыдающим на койке. Я и теперь вижу его, когда приезжаю в Лондон. Он еще больше похудел, вид у него еще более роковой, он еще больше высох от ревности и еще больше горбится, передвигаясь по ресторану с блюдом ростбифа; он еще более восторжен и лиричен… Когда он обслуживает меня, я всегда даю ему шиллинг на чай, а потом, уходя, сердечно пожимаю ему руку.








