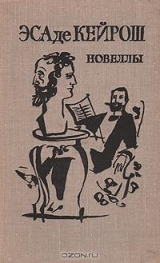
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
Случай вроде бы банальный, особенно для прозы XIX столетия: молодой дворянин, обладающий талантами и наследствами, растрачивает себя и состояние. Опустившись на дно, но сохранив в чистоте любовь, умирает. Намек на «роковую» судьбу и ее объяснение даны уже в портрете героя – белокурого, как пшеничный колос, с закрученными вверх усами странствующего рыцаря и безвольным, слабо очерченным ртом. На поверку, однако, оказывается, что перед нами случай романтически-исключительный. Даже рассудочно-трезвый повествователь, требующий, чтобы «колос вырастал непременно из зерна», считал Жозе Матиаса возмутительно пошлым и «правильным». Ни единой пылинки на штиблетах, ни единой слезинки от чтения «Созерцаний» Виктора Гюго. Безразличие к ранам Гарибальди и к нищете Польши!
Но постепенно намечается отклонение от нормы. То, что Жозе Матиас влюбился в божественную Элизу Мирандо (кожа цвета только что распустившейся камелии, глаза черные, влажные, гибкая, словно пальма на ветру), более чем естественно, совершенно неотвратимо: их особняки рядом, между ними лишь стена, разделяющая сад. То, что Жозе Матиас десятилетия посылает лишь вздохи своему кумиру, – куда ни шло. Но вот умирает старый муж, и, точно в сказке, подвиг рыцарского долготерпения должен получить награду. Любовь, красота, богатство Элизы брошены к ногам вернейшего из влюбленных. Героям остается жить-поживать да добра наживать; впрочем, и наживать не надо – его сколько угодно, чтобы тратить, наслаждаясь друг другом и жизнью. Тут-то отклонение от нормы и становится резким.
Отвергнув мольбы богини, Жозе Матиас не удостаивает ее даже встречи, а когда Неземная сочетается браком с землевладельцем Торресом Ногейрой, Жозе Матиас дни напролет – и снова годы – торчит у окна, терзаясь любовью. «Ах, сколько я как философ раздумывал над всем этим!» – восклицает рассказчик. Современный читатель, философствуя на этом месте, вряд ли углубится за пределы известной сентенции насчет забот господина учителя и, очевидно, последует дальше за фабулой – туда, к пределу сюжета и жизни героя, где ни черные усы, ни грубые руки не спасут мужлана, самца, мясника, вторгшегося в постель богини.
Неземная, как другие смертные, по закону католической церкви, не имеет права на третий брак и обзаводится любовником. Промотавшийся, спившийся во имя любви Жозе Матиас простаивает теперь ночи напролет в грязном, как сточная канава, подъезде, напротив дома, где дважды овдовевшая снимает квартирку для тайных свиданий. Теперь единственное счастье ночного рыцаря – знать, что любовник не изменяет Элизе, тем самым не оскорбляя и его, Жозе Матиаса, возвышенной любви. Короткое счастье! Оно обрывается смертью. Пожалуй, гуманной смертью: привезенный в больницу только охнуть и успел.
Как философ и метафизик, рассказчик доволен, что по поручению вдовы Ногейро ее любовник пришел на похороны с букетом цветов: Материя пришла поклониться Духу. По мнению рассказчика, если бы случилось наоборот, то вдова не послала бы «любовника души» на похороны «любовника плоти». Уже ради того, чтобы увидеть победу Духа, стоило проводить в последний путь Жозе Матиаса, который, «весьма возможно, был значительно больше, чем мужчина, или совсем им не был».
Так что же, опять ирония, доходящая до издевки? Несомненно. И все же под ее покровом теплится чувство к Жозе Матиасу, не осквернившему своей надзвездной любви ни единым прикосновением к земной прозе. Разве эта любовь не сродни любви другого рыцаря к другой Прекрасной Даме по имени Дульсинея Тобосская?
Эса де Кейрош скептически относится и к самому повествовотелю. В «Реликвии» роль трезво-тупого носителя разума играет Топсиус, всеведущий педант, доктор Боннского университета, автор многотомно-монументальных трудов; если же выйти за пределы творчества Эсы, то от рассказчика протянутся нити к образу повествователя, традиционному для прощавшейся с романтизмом реалистической прозы, шедевром которой является новелла, ставшая легендою, мифом: «Кармен» Проспера Мериме.
В последнем счете взгляд на романтику определился у Эсы отношением к прогрессу, к цивилизации и культуре. Для понимания этого отношения особенно важна повесть «Цивилизация», ставшая основой посмертно изданного романа «Город и горы».
В предисловиях к романам уже шла речь о том, что противопоставление природы и цивилизации лишено в «Городе и горах» – и в повести, ставшей ее основой, – руссоистской страстности; оно скорей благодушно, чем сурово. В «горах» патриархальная примитивность возвращает Жасинто, доведенному «городом» до зеленой тоски и безнадежного пессимизма, оглушенному последними криками, шумами, писками «цивилизации», благословенную тишину и радость, интерес и вкус к жизни. Возвращение это совершается по воле счастливого случая, который на самом-то деле грустен: за ним слышится проповедь умеренности, видится розовая идиллия.
На последних, присыпанных сахарной пудрой страницах романа – и повести, лежащей в его основе, – сказался настрой того поколения европейской интеллигенции, которому на исходе века казалось: революционные взрывы 1848 года и Парижской коммуны отошли в область воспоминаний, 1789-й – событие давно отгремевшего прошлого, мирные времена утверждаются в Европе навечно.
«Эпохальные» объяснения большей частью справедливы и всегда недостаточны: исторические причины, общие для художников одного поколения и одной страны, одного города, еще не дают разгадки, отчего каждый художник старается выстроить дом свой по-своему.
Только ли особенности развития Португалии виновны в том, что в «Цивилизации», в «Городе и горах» уксус социальной иронии порядком выдохся? Не лежит ли немалая часть вины на писателе?
Дипломатия, когда-то распахнувшая перед Эсой большой мир, теперь ограничила его кругозор, ибо стала общественной позицией. Профессия и карьера не могли не сказаться на творчестве: поддерживая порядок, пусть только левой рукой, трудно ниспровергать его правой. Тем более что ярость ниспровержения не всегда же резонней сдержанности компромисса.
Большей частью Эса отрицает в повести не прогресс, не цивилизацию, а их крайности. Он против кулинарных изысков и явных излишеств в сервировке, но не против здоровой пищи и тарелок; однако же его призыв к умеренности зачастую не свободен от ретроградства. Допустим, сломался фонограф и записанный на нем голос советника Пинта Порто без конца повторяющий: «Великолепное изобретение! Кого не восхитят успехи нашего века?» – это издевка над изобретением и успехами века. Но изобретение действительно великолепное, и успехи века налицо, а фонограф надо попросту починить или заменить на лучший. Спасение от прогресса в прогрессе, дороги назад нет.
Но почему же призывы «назад!», «осади!» раздаются на всех широтах? Почему ностальгия по мнимоидиллическому прошлому – постоянный спутник цивилизации? Много раз теоретически опровергнутая, тоска по естественности и простоте живет, получая подтверждения, что в давних и современных призывах к натуре – каждый раз иная, но немалая и достаточно веская правда.
Какой бы сюжет ни разрабатывал Эса де Кейрош, в какой бы форме ни воплощал свою идею – в форме античной или средневековой легенды, философской притчи или бытового рассказа, – он остается художником чуткого сердца и живой мысли.
История о том, как трое братьев, самых оборванных дворян в Астурийском королевстве, нашли сундук, до краев наполненный золотыми добранами («Клад»), как, боясь поделить клад и ожидая – от каждого каждый – коварства, умертвили друг друга на самом пороге сказочного богатства, – разве эта стилизованная легенда всего лишь история? Романтическая формально, она реалистична и современна по сути. Это емкая притча, и читатель вправе увидеть за ней хоть все человечество, склонившееся над сундуком с золотыми добранами культуры и лежащих у ног богатств.
На средневековый сюжет написана и «Кормилица». Зачин ее: «Жил когда-то король, юный и отважный…» – повторяет такой же фольклорный зачин «Клада»: «Жили-были в Астурийском королевстве…» Но и эта сказочка не стареет, как не стареет подвиг самопожертвования и верности, отваги и любви. Как не стареют подвиги Одиссея, рассказанные Гомером и в который раз заново читаемые потомками.
По гомеровской канве Эса вышивает собственный узор. В новелле «Совершенство», тяготеющей к философской притче, пребывание Одиссея у богини Калипсо – повод для утверждения высокой и мудрой истины: удел, достойный человека, – не безмятежный покой, а жизнь, требующая труда и мужества, борьбы и страданий.
Ослепительно хороша и вечно прекрасна богиня Калипсо. Как может сравниться с нею, конечно, увядшая, удаленная годами и расстояниями Пенелопа? Смертная в сравнении с бессмертной – как чадящий светильник с чистыми звездами. Во владениях богини Одиссей совершает прогулки по долинам, не знающим увядания. Ни сухого листка, ни поникшего цветочка не встретил он за восемь лет, пока богиня пыталась усладить его всеми яствами и осчастливить своей нежной любовью. Но Одиссею невыносимы уже и покой и радости, которыми одаривает его Калипсо. Не будь у него супруги, сына и царства, не знай он тоски по прошлому, все равно Одиссей рвался бы из этого рая туда, где слезы и боль, нищета и грязь, где не одни лишь празднества, а будни и опасность. Только в «несовершенстве», только в схватке с ним – жизнь и радость жизни.
Библейский миф об Адаме и Еве привлек писателя по мотивам, на первый взгляд сходным: миф обладает особой емкостью, в нем больше, чем концепция, в нем философия жизни… Однако между новеллой об Одиссее и чем-то вроде памфлета, эссе, написанного по законам художественной прозы, различие существенное.
«Адам и Ева в раю» – это в первую очередь опыт скептического прочтения библейского мифа, предпринятый мыслителем-атеистом, который вникал в труды Дарвина и прошел позитивистскую школу. В то же время это памфлет художника, духовный мир которого религия определяет не менее сильно, чем романтизм – несмотря на разрыв с нею, продолжавшийся как переход к реализму, как полемика с романтизмом, едва ли не всю жизнь.
Внутренняя связь «Адама и Евы в раю» с «Преступлением падре Амаро», с «Реликвией» очевидна; не в предисловии на ней останавливаться подробно. Здесь придется лишь подчеркнуть мотивы, особо важные для сборника рассказов.
Писатель задумал «Адама и Еву в раю» как антирелигиозный памфлет. Судя по его началу, праотец всех людей был создан «28 октября в два часа пополудни». Утверждает это не кто-нибудь, а знаменитейший Уссериус, епископ Митский, архиепископ Армахский, настоятель собора святого Патрика. Между тем Эсе доподлинно известно, что бог сказал «Да будет свет» 23 октября, а не 28-го. Иронично и описание «утра всех утр». Новехонькое, без пятнышек на сияющем лике, солнце, подобно жениху из «Песни песней», бежало вкруг земли восемь часов подряд, окутывая ее лаской тепла и света.
В этой же манере набросан портрет Адама.
Ах, бог его создал по своему образу и подобию?! Пожалуйста: шерсть покрывает все его тело, редея лишь на локтях и коленях. С приплюснутого, изрезанного морщинами лба свисают на уши редкие рыжие космы. В глазных впадинах, заросших, как отверстия пещер, кустарником, безостановочно вращаются, закатываясь от страха, шарики глаз. Когда ветер доносит острый запах сидящих на деревьях самок, Адам жадно втягивает его плоскими ноздрями, из мохнатой его груди вырывается сиплое хрюканье…
«Симпатяге-парню» соответствуют и пейзажи рая.
Занявшись импровизацией, Иегова превращает мирный холм в огнедышащий вулкан; Еву, искавшую насекомых в Адамовой шкуре, он сбрасывает вместе с супругом со склона, как со спины разъяренного животного; взревев, забурлив, заклокотав в ущельях, выбрасывая на поверхность мертвых тюленей, в пещеру, куда укрылись Адам и Ева, врывается море; Земля распахивается бездонной пастью, поглощая стада и пастбища, горлиц, воркующих на кедрах… А какова райская сушь! Мох слезает с горных склонов, словно сухая кожа с острых костей…
Вряд ли найдется педант, склонный приблизиться к этой живописи с критериями строгой науки. Но не увидеть серьезного замысла под фельетонным покровом было бы не меньшей ошибкой. Последовательно, пункт за пунктом, Эса набрасывает в своем опыте тезисы к древнейшей и вечно новой теме – происхождение человека.
Вот первые шаги по земле Существа, просидевшего свою многовековую зарю на ветках. Лес для него – темная стена ужасов. Шорох листвы – угроза. Его тянет на равнину, к берегу реки, а потом и моря. Вот после ягод и кореньев он впервые высасывает кровь «Ихтио», погибшего в схватке с «Плезио» – плезиозавром, слизывает жир с пальцев, ощущает вкус мяса. Убив медведя, совершает открытие, что заостренный посох – оружие. Затем другое, третье изобретение и обретение: копье, молоток, наконец, огонь. Собственные открытия совершает Ева, поначалу, как водится, более обаятельная, чем Адам. Праматерь не хуже супруга раздирает на части козленка, одну за другой вырывает из-под панциря лапы у черепахи. Но какова ее роль в прогрессе!
Лишь с помощью Евы бог сумел достроить мироздание, сотворя Царство Духа, без которого не появились бы домашний очаг, племя, город.
На этот раз цивилизация и прогресс – великое благо. Первопричина их – Сила Разума, которая вывела спотыкающегося на кривых ногах Адама из зарослей, избавила от дикости, утвердила в господстве над познаваемой природой.
Процесс познания Эса трактует почти материалистически. Именно потому, что лютое скопище райского зверья, отстаивая владычество Силы Инстинкта, ополчилось на бедного Адама, перед ним возникла необходимость противопоставить атакам инстинкта Силу Разума. Не будь ящеров и птеродактилей, гиен и гиппопотамов, земля так и осталась бы ужасающим раем, где покрытый шерстью Адам отыскивал на морском побережье выброшенную волной мертвечину. Не будь пантер и пещерных львов, не возникли бы города и вся цивилизация, которая родилась из отчаянных усилий человека найти защиту от всего, что лишено Души.
Эса де Кейрош почти диалектик. На его взгляд, человек родился в тот «благословенный вечер», когда ему удалось посохом убить медведя. «Почти» – поскольку Эса материалист непоследовательный и диалектике верен не до конца.
Как известно, Лаплас на вопрос о боге ответил Наполеону, что в этой гипотезе не нуждается. Эса подобным образом ответить не мог бы, ибо нуждается в боге во многих случаях, когда разум отыскивает, но не находит исчерпывающую разгадку бытия, когда не может точно ответить, почему, например, некое слезшее с дерева Существо озарилось Идеей, что оно венец творения, обрело Душу и устояло перед всеми хищниками, всеми опасностями. Во всех этих случаях Эса прибегает к иронично-художественной гипотезе существования божества и его посланцев: «…ни один зверь не приближался к первому на земле человеку: рядом с Адамом, охраняя его, возвышалась гордая белая фигура с белоснежными крылами за спиной, сияющим вкруг головы звездным нимбом, грудью, защищенной алмазной кирасой и огненным мечом в сверкающих руках».
Верит ли Эса, что именно господь бог ниспослал нам величайший из всех даров – «дар любви к ближнему» и к тому, что вроде бы не нуждается в нашей любви – к Мирам и Небесным Светилам, сотворенным по воле божьей из той же первоосновы, что мы, и, быть может, тоже любящим нас, нас не зная?..
Подобно зачину, эта концовка опыта об Адаме и Еве иронична и в то же время серьезна. Под покровом иронии в ней высказывается та нравственная идея, которую Эса отстаивает своим творчеством как итог этического развития человечества.
Вариация на евангельский сюжет – «Трогательное чудо», – идейно родственная «Адаму и Еве в раю», будучи последним словом сборника, подтверждает его пафос. Открыто атеистичен рассказ, подобно «Реликвии», сочетающий историческое и бытовое правдоподобие с новозаветной легендой об Учителе, который любил детей и обещал бедным царство, более изобильное, чем двор Соломона. Эса преподносит явление Христа младенцу как чудо, как «трогательное», сентиментальное чудо. К тому же облик простого плотника из Галилеи вновь, как в «Реликвии», открыто полемичен мраморно-золотому Спасителю. Да только ли ему? Антицерковный добрый Христос несовместим с яростной проповедью архиепископа Браги, который писал хвалебный некролог Салазару и чествовал годовщину зарождения португальского фашизма.
В 1970 году, во введении к предыдущему тому Эсы де Кейроша, приводилась цитата из крайне правой газеты «Новидадес», откликнувшейся на столетие писателя статьей-ультиматумом: «Если бы Эса был жив, ему пришлось бы либо отречься от всего написанного в самую активную пору творчества, либо открыто встать в авангарде врагов Португалии».
Незачем гадать, в чьих рядах оказался бы сегодня живой Эса. У его наследия, у живой его части, написанной в активную пору творчества, – а к ней, безусловно, относятся и рассказы, – своя логика, свое место в социальной схватке. Оно действительно в авангарде свободолюбивой, демократической Португалии.
М. Кораллов
НОВЕЛЛЫ
СНЕГ[2]2
Перевод И. Тыняновой
[Закрыть]
Поутру дровосек поднялся со своей циновки и зажег свечу.
У очага, скорчившись от холода, спал хилый мальчик, кое-как закутанный в рваное одеяло. Беднягу дровосека трясла лихорадка; накануне он дотемна бродил по черной чаще, а после так и забылся, голодный, пред очагом: в доме не нашлось и тарелки супу.
Шли большие снега по горам и ущельям, а он, печальный, должен был кормить малых детей, что по вечерам за молитвой, худые и оборванные, жались к матери, захлебываясь в голодном плаче: потому-то об эту пору и бродил он в дурманной мгле по горам и долам, по сосновым лесам, и рубил, колол, срезал ветки, на хлестком ветру, средь суровых, хранящих молчанье, снегов.
Мальчик спал, вытянув застывшие, белые, в глинных пятнах ноги; редкие волосы растрепались, белела в сумраке впалая грудь. В углу, на ослизлых постилках, укрытые материной старой юбкой, спали, выставив красные локотки, двое малышей, потонувшие в голодном и холодном сне. Дровосек снял куртку, которую надевал в горы, укрыл их прозяблые ножки и со свечой в руке нагнулся над циновкой, где спала жена: она лежала, всем телом прижавшись к скудному теплу циновки, словно к груди любимого, расслабленно уронив руки, обессиленная; ее черные волосы печально рассыпались по жалкой постели, как траурный убор; и дырявое одеяло обрисовывало девственные и плодоносные формы ее груди.
Дровосек взял черный свой топор и большой жгут веревок, натянул на голову грубый бурый колпак и медленно побрел из дому тощей, голодной тенью, по долгим, крутым, мертвенно-белым, тонущим в снегу дорогам.
Его лачуга затерялась у подножия высоких гор, вдали от людских поселений, средь нескольких черных деревьев, подъявших к небу свои оголенные, тощие, скорбные руки.
Здесь жила эта закованная в холод, изъеденная голодом семья, наедине со снегами и зимою, тая в сердцах своих религию солнца, зеленеющих всходов и звонкого сияющего плодородья – яркие, чарующие картины, столь же далекие и непостижные, как сам бог средь райских просторов в звездной пыли. Мужчина каждый день уходил в горы на свою битву с ветвистым лесом; женщина, дома, чинила лохмотья у потухшего очага, а как стемнеет, приоткрывала срывающуюся с петель и растресканную ветрами дверь, всматриваясь в заснеженные тропинки, – не возвращается ли, медленно, сгибаясь под огромными связками хвороста, ее муж…
Дровосек брел в сторону леса.
Снег падал, легко и тихо. Душа цепенела в теле, как в монашеской одежде, испуганная сверхъестественной строгостью пейзажа. Ибо у здешней природы были своеобычные и жестокие повадки.
Заря вставала мутная и медлительная, слезливая, как вдова в час похорон мужа; и в скудном тонком свете клочки льда, свисающие с чертополохов и вересков, казались лохмотьями погребального савана; на недвижных деревах птицы, застылые и немые, топорщили перья на режущем ветру.
Дровосек все шел, раздирая плечи в колючих кустах куманики, обрызганный капелью с веток, бледный, невозмутимо спокойный.
Он шел медленно. Он думал о землепашцах, что об эту пору там, в теплых краях, выходят, посвистывая, священным сияющим утром, средь высоких трав, в животворном блистании рос, ведя по бороздам, под радостный победный посвист ласточек, своих сильных, медлительных и добрых волов… У него была жена и голодные дети в жалкой хижине; он каждый день исходил потом и падал от усталости, но редко удавалось ему видеть на любимых лицах румянец жизни. Всё здесь было холод и голод: ни теплого одеяла, ни прочной одежды! Добрый бог там, в вышине, верно, так уж тепло укутан средь своих райских кущ и светлых звезд, что ему и недосуг подумать о бедных людях с полей и гор, которые дрожат от холода. И есть же на свете счастливцы, каждый день видящие теплый румянец на лицах своих детей!
Так думал печальный путник, тяжко влачась по крутым тропам, весь промокший, с душою, полной тревоги и муки. Снегопад разматывал над ним длинные пряди белого пуха.
А он всё думал, что ведь мог бы быть зажиточным землепашцем и видеть ввечеру, вкруг пылающего и мирного очага, целую толпу крепышей – жнецов и сеятелей – перед большим котлом супа, за простой и веселой трапезой, сдобренной смехом и шуткой.
Снег падал ровно и зыбко, и слышался шум – неверный, как гул моря, упорный, как жужжанье пчел, – и были то стоны тысяч и тысяч печальных сосен.
Бедный дровосек глядел вокруг на большие снега, в клубок сворачивающиеся на камнях, в клочья рвущиеся о чертополохи. Время от времени ворон, пролетев над деревьями, ночной и безмолвный, колебал недвижный воздух резкими ударами своих крыльев.
Начинал просветляться день. Дровосек чувствовал себя совсем одиноким средь этой враждебной и дикой природы; и порою рука его, ослабевшая от лихорадки, гнулась под тяжестью топора и мокрых веревок.
Он всё углублялся в чащу, словно в забытьи. Сосны стояли сомкнутым строем, и ночь еще медлила покидать сплетенье бледных веток. Снег, падающий на них, таял росою от тепла древесного сока.
Деревья замерли, словно в религиозном страхе.
Когда шел из рощи к ближним горам, вспомнилось вдруг дровосеку, как ходил он когда-то на подрезку маиса в далеком южном селенье и в страстном, гармоническом свете звезд пел под гитару, сидя возле милой девушки с невинным лицом и волосами цвета шелковичных ягод; и, потеряв голову, заглядывался на белую шейку, чуть видную из-под платка!
А сегодня, вот в эти минуты, – думалось ему, – с мукой в душе глядит она, бедная женщина, на голодных детей, топчущихся в их сырой лачуге, оборванных, жалких, хватающихся за ее подол со стоном: «Мама! Мама!..» И глаза несчастного туманились струями слез.
Но вот он крепче сжал в руке топор и вошел в ветвистый лес.
Древние дубы, буйные и вещие, томные тополя, торжественные каштаны, гигантские вязы, ощетинившаяся шипами куманика – огромное сплетенье ветвей, где веет печальный ветер, – все эти живые, крепкие растения, что приветно шумят под солнцем, обрызганные яркостью света, – вся чаща лесная, сумрачная Диана с растрепанными прядями, стояла, погруженная в дрему, под тяжестью снегов, печальная, немая, горделивая и непокоренная.
Дровосек, вздев свой топор, пробирался по чаще; он знал эти странные причуды леса, эти снежные перекаты, задумчивые лики скал, всю путаницу ветвей и листьев, с которых капли спадают, как эхо прошлых дождей, – и, размахнувшись на старый дуб, он побледнел, словно совершал убийство.
Его простое доброе сердце не понимало, но чувствовало эти недвижные жизни, немые и звонкие, что звались деревьями, листьями, кустами и цветами; он сострадал стону могучих стволов, печалился об ободранной коре и рваных древесных волокнах, и у него было чувство, что он приносит в жертву своим голодным детям бесчисленные жизни деревьев.
Дровосек вонзил топор в ствол дуба, и все гигантское дерево задрожало от боли: и ветви его, вытянувшись, повисли, без жизни и силы, вдоль ствола, словно готовясь умереть без стона, в гордом, суровом молчанье.
Солнце поднялось свинцовое, бледное, слабое, без силы и радости, без священного сиянья восхода, меж стелющихся туманов, средь скорбно тающих туч. Птицы взлетали то там, то тут с печальным криком.
И дровосек, тяжко дыша, с растрепавшимися волосами, весь красный, свирепый, подняв топор, в трагическом ожесточении сражался со стволами, сучьями и корнями, с твердой корой и упругими волокнами. И земля вкруг него полнилась ворохом черных ветвей – отрубленных рук деревьев, безжизненных и недвижных, как броня поверженного воинства.
Все эти деревья, которым понадобилось столько времени, чтоб взрасти и набраться силы, чтоб привыкнуть к неистовым ветрам, научиться хватать за гривы буйные ливни, закутывать свою нежную наготу в туманы и испарения земли, все эти деревья, полные шрамов от укусов ноябрьской стужи, полные легенд и запаха бурь, испуганно свертывали свои дрожащие ветви, едва топор зловеще сверкнет в воздухе…
Широкая рваная рубаха дровосека колыхалась на ветру, грубые деревянные башмаки оставляли ямы в глубоком снеге. И, голодный, пугающий, он шел большими шагами по лесу, разрывая волокна, кроша корни, покрытый щепками, опутанный обрывками живых нитей, трагически вздевая руки, замахиваясь топором на кружащих над головою воронов; и, полный любви к своим детям, пытал деревья, терзал их жгучими ударами, крича им: «Трусы!»
Так сражался он со снегом, с ветром, с дождем, с сыростью, с туманами, с лихорадкой, с болью до самого наступленья темноты.
Он нарубил уже целую гору веток и поленьев, обвязал их веревками, крепкими, как его руки, и воткнул в середину кучи свой топор. Огромная связка лежала у его ног, прислоненная к глыбе снега; концы веревки, за которые предстояло поднять ее, свисали вниз, черные и сырые. Он согнулся в три погибели, чтоб взвалить ее на плечи, но, как стал подымать, руки его вдруг ослабли, похолодели ладони, в глазах помутилось, и он рухнул наземь, обливаясь ледяным потом, приклеившим волосы ко лбу, и оцепенелые пальцы его вонзились в снег.
Так лежал он в каком-то дурмане до тех пор, пока, с трудом открыв смыкавшиеся веки, не подполз еще ближе к своей связке, да так и остался, прислонившись к ней, молчаливый и полный какой-то странной нежности.
Сумерки уже разливались вокруг, и туманы ниже повисли над землею; весь воздух был подернут тусклой и суровой бледностью: падал мелкий, мглистый дождь, вся земля отяжелела от густого снега.
У ног дровосека лежал длинный ствол большого дерева, промерзлый, мертвый, без корней, без веток, без сока; с одного конца гниение уже разрушало его.
Вокруг теснились целые толпы высоких деревьев, засыпанных снегом, таких тонких в просветах тумана, ночных и печальных, словно монахи в белых одеждах.
В глубине открывалась прогалина, позволяющая видеть вдали широкую полосу света, уходящего с тихою робостью.
Дровосек, с обнаженной шеей, промокший насквозь, с болью в груди, ухватил свои веревки и, напрягшись всем телом, с налитым кровью лицом, со вздувшимися на висках канатами вен, с затекшими ногами, рывком попытался встать. Но тут же снова рухнул в снег, обессилев, задыхаясь, пронизанный влажным холодом лихорадки.
И остался лежать так, глядя на поваленный ствол огромного дерева, голый, лишенный листьев, покрытый снегом, и думая, что и его тело останется тут навсегда, рассыплется среди гниения стволов.
И вся плоть его содрогнулась, и ужас овладел им. Вспомнились ему жена и дети и как они стряхивали снег с его волос и щепу с его куртки, когда он возвращался.
Снег падал, тихо и печально. Об эту пору она ждет у двери, глядя вдаль: не идет ли муж, согнувшись под тяжестью своей ноши, по белым от снега дорогам.
Она оперлась, верно, одной рукой о дверной косяк, а другой прижимает к себе детей, спрятав их в складках своих широких юбок от холода ночи.
А он-то здесь один, раздавленный безжалостным снегом!
А когда они увидят, что его нет?! И он искал в памяти: не случалось ли оставаться на ночь в горах? Никогда.
Если они увидят, что его нет, то выйдут с плачем из дома и пойдут кликать его, заслоняя от ветра слабое пламя свечи, по зловещим ночным чащам.
Порою им овладевало безумие, и он видел огромные фигуры из тени, карабкающиеся по стволам черным дымом; и каждый раз эти сгустки человеческих подобий ползли все выше, теряясь в свинцовой прозрачности воздуха.
Снег падал, словно лиясь из туч.
И он думал, печальный, что жена и дети узнают, как умирал он среди снегов, под грозно сплетающимися кронами и укусами дикого ветра, в безмолвном одиночестве, как волк!
И тогда тело его, сломленное, посиневшее, дрожащее от холода в промокшей одежде, растворившееся в маете тумана, вдруг напряглось; с горящими глазами, грозно обнажив зубы во внезапном диком смехе, изорванный колючими ветвями кустов, дровосек поднялся, растрепанный, окостенелый, посеревший, и бросил в ночь свой крик.
Последовал испуганный взлет птиц по всем темным кронам. И налетел ветер и унес, в своих тугих спиралях, клубки мертвых листьев. И последний свет дня погас над прогалиной… В горах не было ни души. Он был один. Один! Ни пастуха, ни погонщика, ни заблудившегося путника. Один! И удалялись птицы, удалялись листья, удалялся свет. Он оставался один.
И тогда, видя вокруг лишь немую и черную чащу, смыкающуюся толпу теней, последнюю бледность оголенных веток, странные очертания ночного мрака, причудливые горбы корней, слыша вой волков вдалеке и шелест вороновых крыл над головою, он пал ничком на землю и воззвал в ночь, сквозь снегопад и шум ветвей: «Господи!»
И чаща ответила молчаньем, величественная и бесстрастная; и вороны улетели с криком. Он упал, обессиленный, задыхающийся, сломленный, уничтоженный, умирающий; и небо над ним, большое небо, праведное небо, чистое небо, святое небо, утешное небо плевалось снегом в жалкую холодеющую плоть.
И он замер без движения. Снег падал, сплошной и белый. А он все лежал, вытянувшись… Он видел над головой великую недвижность леса, туманы, сбрасывающие ему на лицо свои ледяные лохмотья, а рядом призрачную тень огромной связки дров.
Он ощущал свое тело закованным в холод, голову больно сжимал какой-то обруч, глаза кололо словно иглой; и чудилось ему, что в боку его зияет огромная рана и снег под тяжестью его тела преобразился в огонь и сжигает его.
Порою рыданье разрывало ему грудь. И тогда ему виделись большие тени, взлетающие над его головой, удаляясь со скорбным криком, с диким шумом крыльев, засыпанные белым снегом, чудовищные и свирепые.
То были вороны… Он содрогнулся. Он словно уж видел, как они опускаются ему на грудь, пригнувшись, ударяя крыльями, полуповиснув в воздухе, чтоб погрузить свои черные клювы в его бедную плоть.








