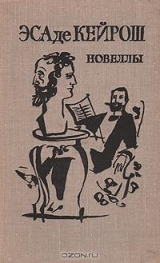
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
КЛАД[28]28
Перевод Л. Бреверн
[Закрыть]
I
Жили-были в Астурийском королевстве три самых голодных и самых оборванных брата-дворянина, родом из Медраньос: Рун, Гуаннес и Ростабаль.
Во дворце Медраньос, где прилетавший с горы ветер срывал черепицу с крыш и бил стекла, проводили они вечера этой зимой, дрожа от холода в камлотовой одежонке и постукивая рваными подошвами по каменным плитам кухни, возле большого черного камина, в котором уже давно не потрескивали дрова и не варилась еда в железном котле. Когда темнело, братья съедали корку черного хлеба, натертого чесноком, и без огня шли спать в конюшню по снегу через двор, надеясь согреться теплом трех покрытых язвами кобыл. Такие же голодные, как и хозяева, кобылы грызли края кормушки. Нищета сделала братьев злее злых волков.
И вот весной, тихим воскресным утром, когда братья из Медраньос шли по лесу Рокеланес, выслеживая дичь и собирая росшие под дубами грибы, а их лошади пощипывали свежую апрельскую траву, нашли они в расселине скалы среди зарослей колючего кустарника старый железный сундук. В его трех замках торчали три ключа, как если бы он был спрятан в неприступной башне. По крышке сундука арабской вязью шла какая-то надпись, плохо различимая из-за покрывавшей ее ржавчины. А внутри сундук был полным-полнехонек золотыми добранами.
От восторга и сильного волнения мертвенная бледность покрыла лица трех братьев. Потом они принялись хохотать, радостно запуская руки в золото, и хохотали так громко, что задрожали нежные листья на росших вокруг вязах… Вдруг они снова побледнели и, пристально посмотрев друг на друга горящими от жадности и нескрываемого недоверия глазами, схватились за висящие у пояса большие ножи. Тогда самый сообразительный из них, Руи, рыжий и тучный, вскинул вверх руки, как третейский судья, и сказал, что посланный им богом или дьяволом клад принадлежит всем троим и должен быть взвешен на весах и поделен между ними поровну. Но как они донесут в Медраньос, на самую вершину горы, этот полный золота сундук? Выходить из леса с таким богатством раньше, чем наступит полная темнота, не следовало. Так считал Руи. Поэтому он решил, что братец Гуаннес, как самый легкий на подъем, должен, взяв немного золота, рысцой ехать в ближайшую деревню, чтобы купить там три кожаные переметные сумы, три меры ячменя, три куска мяса и три бутыли вина. Вино и мясо для них самих, ибо они со вчерашнего дня ничего не ели, а ячмень для кобыл. Хорошенько подкрепившись, они наполнят золотом переметные сумы и под прикрытием темной ночи поднимутся с лошадьми в Медраньос.
– Прекрасно придумано, – вскричал высокий, как сосна, Ростабаль с длинной гривой волос и бородой, которая, начиная расти у налитых кровью глаз, касалась пряжки на поясе.
Но Гуаннес, хмурясь и недоверчиво поглядывая, теребил почерневшую кожу на своей журавлиной шее и не трогался с места. Потом он твердо сказал:
– Братцы! У сундука три ключа… Я хочу запереть ту часть, что принадлежит мне, и взять свой ключ!
– Я тоже, тысяча чертей, хочу взять свой ключ, – прорычал в ответ Ростабаль.
Руи улыбнулся. Что ж, это справедливо. Каждому хозяину досталось по ключу, и они спрятали их в карманы. Но прежде чем спрятать, все трое, присев на корточки перед сундуком, крепко-накрепко заперли каждый свою долю. Тотчас же повеселевший Гуаннес сел верхом на кобылу и поехал в сторону Ретортильо по тропинке меж вязов, напевая их ветвям свою бесконечно жалобную песню:
Оле! Оле!
Вот крест выносят из церкви,
Обернут он крепом черным…
II
На поляне, напротив зарослей колючего кустарника, которые скрывали клад и которые трое братьев проредили своими ножами, из скал пробивалась тонкая струйка воды и, прежде чем исчезнуть в высоких травах, падала на широкую выдолбленную каменную плиту, образуя чистый и прозрачный водоем. Рядом в тени бука стоял старый, покосившийся и поросший мхом гранитный столб. Здесь-то и присели Руи и Ростабаль, сжав коленями свои грозные палаши. Обе кобылы пощипывали сочную траву, обрызганную красными цветами мака и златоцвета. В ветвях прохаживался и пел дрозд. Благоухающие фиалки источали приторный, дурманящий аромат. Ростабаль, глядя на солнце, сладко зевал.
Сняв широкополую шляпу и поглаживая на ней фиолетовые перья, Руи вкрадчиво и осторожно, взвешивая каждое слово, как было ему свойственно, повел разговор о том, что сегодня утром Гуаннес вовсе не хотел идти с ними в лес Рокеланес. И было бы хорошо! Ведь если бы Гуаннес остался дома, они бы вдвоем с Ростабалем нашли сундук и вдвоем с Ростабалем разделили бы золото! Какая досада! Тем более что свою часть Гуаннес очень скоро промотает в тавернах, играя в кости со всякими бездельниками.
– Ах, Ростабаль, Ростабаль! Если бы Гуаннес нашел этот клад один, он бы с нами не поделился. Нет, Ростабаль!
Ростабаль громко засопел и, яростно дернув себя за черную бороду, воскликнул:
– Нет, тысяча чертей, не поделился! Гуаннес жадный… Когда в прошлом году, если ты помнишь, он выиграл сто дукатов у оружейного мастера из Фресно, он даже трех дукатов взаймы не хотел мне дать на покупку нового камзола.
– Вот видишь! – радостно подхватил Руи. Оба вскочили с гранитной плиты, словно поднятые одной и той же блестящей мыслью. И высокая трава заскрипела под их твердыми шагами. – Зачем ему золото? – продолжал Руи. – Ты слышишь, как он кашляет ночью? Ведь вокруг соломы, на которой он спит, весь пол в крови от его плевков! Он не дотянет до следующей зимы, Ростабаль! Но успеет промотать дукаты, которые по праву должны принадлежать нам. Мы отремонтируем дом, ты сможешь купить себе породистых лошадей, оружие и приодеться. Кому, как не тебе – старшему брату, должна принадлежать большая часть богатства!
– Тогда он должен умереть, и сегодня же! – прорычал Ростабаль.
– Ты этого хочешь?
Руи схватил за руку брата и указал на тропинку меж вязов, по которой, напевая грустную песню, ехал Гуаннес.
– Чуть-чуть дальше, в конце тропинки, в кустах, мы можем спрятаться. Но убить его должен ты, Ростабаль, как самый сильный и самый ловкий, нанеся ему удар в спину. Ты только приведешь в исполнение приговор, вынесенный ему богом. Вспомни, сколько раз Гуаннес обзывал тебя свиньей и тупицей только потому, что ты не знаешь грамоте и не умеешь считать.
– Подлец!
– Ну, иди!
И они пошли. В зарослях колючего кустарника, возле узкой и каменистой, как русло высохшего ручья, тропинки, они сели в засаду. Спрятавшись в канаве, Ростабаль обнажил меч. Легкий ветерок шевелил листья тополей, растущих на склоне; еле слышный колокольный звон из Ретортильо донесся до их слуха. Руи, поглаживая бороду, определял время по солнцу, которое уже опускалось за горы. Громко каркая, пролетела над ними стая воронов. И голодный Ростабаль, который следил за ее полетом, снова, позевывая, принялся мечтать о мясе и вине, которые должен был привезти Гуаннес.
Наконец! Тревога! На тропинке послышалась печальная песня, которой внимали ветви деревьев:
Оле! Оле!
Вот крест выносят из церкви,
Обернут он крепом черным.
Руи прошептал:
– В бок! Как только он приблизится!
Копыта лошади цокали по гравию; над кустами красным огнем вспыхнуло перо на шляпе.
Ростабаль раздвинул листья куманики и высунул руку с длинным мечом в образовавшееся отверстие; по самую рукоять меч мягко вошел в бок Гуаннеса, когда тот, услышав шум, резко обернулся. С глухим стоном Гуаннес повалился на камни. Руи схватил лошадь под уздцы. Гуаннес корчился в предсмертных судорогах, Ростабаль лег на него и всадил кинжал сперва в грудь, потом в горло несчастного.
– Ключ! – крикнул Руи.
Сорвав с шеи убитого ключ, оба бросились бежать: Ростабаль – впереди, с обнаженным мечом в руках, втянув голову в плечи и дрожа от запаха крови, которая струей хлынула изо рта Гуаннеса; Руи – сзади, изо всех сил натягивая удила кобылы убитого, которая упиралась в каменистую дорогу и скалила желтые крупные зубы, не желая покидать всеми брошенного и растянувшегося во весь рост на дороге хозяина.
Руи несколько раз ударил ее по изъязвленному крупу и поскакал, подняв меч, словно преследовал мавра, который показался на поляне, где солнце еще золотило листву. Ростабаль бросил в траву шляпу и меч и, засучив рукава и опершись о края выдолбленной каменной плиты, стал шумно мыть лицо и бороду в водоеме.
Теперь лошадь снова спокойно пощипывала траву, нагруженная переметными сумами, которые Гуаннес купил в Ретортильо. Из одной, самой полной, торчали горлышки двух бутылей с вином. Тогда Руи осторожно вытащил из-за пояса свой длинный нож, бесшумно скользнул по густой траве к отдыхавшему у водоема Ростабалю, с бороды которого капала вода, и спокойно, как будто втыкая жердь в огороде, воткнул все лезвие ножа в широкую, сильную спину брата прямо против сердца.
Ростабаль, даже не застонав, упал лицом в водоем, его волосы закачались на воде. На бедре Ростабаля висела старая кожаная сумка. Чтобы вытащить из нее третий ключ, Руи приподнял тело, и горячая дымящаяся кровь струей хлынула в водоем.
III
Теперь все три ключа принадлежали ему, ему одному!.. И Руи, потянувшись, вздохнул с облегчением. Как только спустится ночь, он с золотом в переметных сумах поведет трех лошадей через горы, поднимется в Медраньос и спрячет в подвале свое сокровище. А когда эти безымянные кости здесь, у водоема, и там, у кустарника, покроет декабрьский снег, он, став богатым сеньором Медраньос, в новой фамильной часовне закажет богатую заупокойную мессу по погибшим братьям… Погибшим? Как? Но разве могли иначе, как не в бою с неверными, погибнуть братья из Медраньос?!
Он открыл тремя ключами сундук, взял горсть добранов и бросил их о камни – добраны зазвенели. Какое золото, какой высокой пробы! И это его золото! Потом он решил проверить вместительность каждой сумы, но, найдя две бутыли вина и жирного жареного каплуна, почувствовал страшный голод. Со вчерашнего вечера у него во рту, кроме куска сушеной рыбы, ничего не было. И как давно он не ел каплуна!
С удовольствием расположился он на траве. Раскинув ноги, положил между ними белое мясо птицы, поставил бутыль янтарного вина и принялся за еду. Да! Гуаннес был неплохой мажордом – не забыл купить маслин. Но почему он привез на троих две бутыли вина? Руи оторвал крыло каплуна и стал откусывать от него большие куски. Спускался задумчивый, ласковый вечер, по небу поплыли розовые тучки. Там, на тропинке, громко каркала стая воронов. Сытые лошади, опустив морды, дремали. А ручеек журчал, омывая тело мертвого.
Руи поднял к свету бутыль с вином. Вино такого цвета и такой крепости не могло стоить меньше трех мараведи. Запрокинув голову, он стал пить его медленными глотками, так что кадык заиграл на его волосатой шее. О! Благословенное вино, как быстро согревает оно кровь! Он отбросил пустую бутыль и открыл вторую. Но Руи был человек предусмотрительный, и больше пить он не стал, ведь ему предстояла тяжелая работа – подъем в гору с золотом. Ему необходимо быть твердым и ловким. Положив голову на руку, Руи отдыхал, мечтая о том, как он покроет крышу в замке Медраньос новой черепицей, как долгими зимними вечерами будет смотреть на пляшущее в камине высокое пламя, и о женщине, которая всегда будет на его ложе, покрытом парчой.
Вдруг какое-то странное, мучительное беспокойство заставило его поскорей привязать к седлу переметные сумы. Меж стволов быстро густела темнота. Он притянул за поводок одну из лошадей к сундуку, открыл крышку и взял пригоршню золотых монет… Но, покачнувшись, выпустил добраны, и они зазвенели на камнях. С тревогой прижал он руки к груди. Что такое, дон Руи? Тысяча чертей! Огонь, живой огонь разгорался в груди, поднимался к горлу. Он разорвал камзол, сделал несколько неверных шагов и, согнувшись, стал слизывать языком огромные капли пота, от которого он холодел, как от снега. О, мадонна! Огонь в груди жжет все сильнее и сильнее, распространяется по всему телу, терзает! Он закричал:
– На помощь! Кто-нибудь! Гуаннес! Ростабаль!
Его скрюченные руки в отчаянии били воздух. А пламя внутри не унималось. Он чувствовал, как трещат, подобно балкам горящего дома, его кости.
Шатаясь, он дошел до источника, чтобы погасить это пламя. Споткнулся о тело Ростабаля и, опершись на него коленом и царапая ногтями камень, со стоном приник к воде, которая обрызгала ему глаза и волосы. Но и вода обожгла его, подобно расплавленному металлу. Он попятился, стал рвать траву и кусать ее, чтобы получить хоть каплю влаги. И все-таки Руи сумел подняться. Густая пена текла по его бороде, глаза вылезали из орбит, и, почувствовав наконец весь ужас предательства, он простонал:
– Яд!
Да, предусмотрительный дон Руи, это был яд! Ведь Гуаннес, как только прибыл в Ретортильо, свернул, напевая, в узкую улочку за старым собором и, прежде чем купить переметные сумы, купил у еврея-аптекаря яд, который, подмешанный в вино, сделал бы его, Гуаннеса, владельцем клада.
Спустилась ночь. Два ворона, отделившись от стаи, которая кричала в зарослях колючего кустарника, сели на труп Гуаннеса. Омывая другое мертвое тело, журчал источник. Наполовину скрытое темной травой, чернело лицо Руи. На небе мерцала звездочка.
А клад и поныне там, в лесу Рокеланес.
АДАМ И ЕВА В РАЮ[29]29
Перевод И. Чежеговой
[Закрыть]
I
Адам, праотец всех людей, создан был в день двадцать восьмого октября в два часа пополудни…
Так утверждает с непререкаемостью в своих «Annales Veteris et Novi Testamenti» ученейший и знаменитейший Уссериус, епископ Митский, архиепископ Армахский, настоятель собора святого Патрика.
Мир же существовал с тех пор, как бог сказал: да будет свет, а свершилось это двадцать третьего октября, в утро всех утр. И земля уже не была той первозданной землей, бурой и бесформенной, утопавшей в глинистых водах и окутанной густым мраком, из которой тут и там торчали окаменелые стволы с одним-единственным листиком или одной-единственной почкой, землей пустынной, вовсе безмолвной, где жизнь, полностью сокрытая, лишь едва обнаруживалась колыханием неясных, червеобразных студенистых существ, лишенных окраски и даже очертаний и возросших в глубинах глинистой топи. Нет! Ныне, в дни сотворения своего, двадцать шестого и двадцать седьмого октября, земля затвердела, сделалась плодородной и украсилась, чтобы достойно принять Обетованного, который и появился. В день тот, двадцать восьмого октября, земля предстала перед ним совершенной, во всем том изобилии и красотах, кои перечислены в Библии: на земле произрастали зеленые травы, сеющие семена, плодовитые деревья, приносящие по роду своему плоды, всяческие рыбы плавали в блещущих водах, всяческие птицы летали в ясной выси, всяческие животные паслись на цветущих холмах, и ручьи орошали почву, и огонь таился в камне; и хрусталь, и оникс, и отменное золото лежали в земле Хавила…
В те времена, друзья мои, солнце еще вращалось вокруг земли. Земля была юной и прекрасной и была возлюблена богом. А солнце еще не обрело своей торжественной неподвижности, как на этом настаивал позднее, невзирая на гневные нарекания церкви, ученый Галилей в саду близ монастыря святого Матфея во Флоренции. И солнце любовно бежало вкруг земли, подобно жениху из «Песни песней», что в сладостные дни обольщения, увенчанный драгоценным венцом, скача без отдыха, легче ланей галаадских по мирровой горе, кружил подле своей возлюбленной и, обжигая ее пламенем своих очей, ослеплял любовным нетерпением. Итак, в день двадцать восьмого октября с самого рассвета солнце, совсем новехонькое, без пятен, морщин и трещин на своем сияющем лике, в продолжение восьми часов окутывало землю нескончаемой и неутолимой лаской тепла и света. Когда же, сверкнув, истек час восьмой, неясное волнение, исполненное ужаса и торжественности, пронеслось по всему божьему творению, возбуждая трепет трав и листвы, вздымая дыбом шерсть животных, выгибая горные хребты, ускоряя извержение источников, извлекая еще больший блеск из порфиров… И тогда в лесу, очень густом и сумрачном, некое Существо, неторопливо отделилось от ветви дерева, на коей оно просидело всю свою многовековую зарю, соскользнуло по обвитому плющом стволу, поставило обе задние лапы на устланную мхом землю и осталось стоять прямо, затем вытянуло вперед освободившиеся передние лапы, широко шагнуло и… ощутило несходство свое со зверями и постигло озарением, что оно есть, – и оно и в самом деле было! Бог, который хранил его, в тот миг его создал. И живое существо, венец творения, Адам, расставшись с бессознательным времяпрепровождением на дереве, направился в земной рай.
Он был ужасен. Курчавая, блестящая шерсть покрывала все его плотное большое тело, редея лишь на локтях и жестких коленях, где проглядывала дубленая, цвета тусклой меди, кожа. С убегающего назад, приплюснутого, изрезанного складками лба, свисали, падая на острые уши, редкие рыжие космы. Между квадратными челюстями, в громадной щели, образованной вытянутыми, словно рыло, похожими на хобот губами, блестели острейшие клыки, способные легко раздирать мясо и дробить кости. А в глубоких, затененных глазных впадинах, окаймленных всклокоченным пухом, подобно тому как заросли окаймляют отверстие пещеры, янтарно-желтые круглые глаза безостановочно вращались и моргали, закатываясь от страха и тревоги… Нет, он не был хорош собою, наш достопочтенный праотец, в тот осенний день, когда Иегова ласково помог ему слезть с дерева. И, однако же, в этих круглых янтарных глазах даже сквозь тревогу и боязнь просвечивала высшая красота – Сила Разума, которая вела его, спотыкающегося на кривых ногах, прочь из зарослей, где в прыжках и криках среди густых ветвей прошла вся его многовековая заря.
Но (если только учебники антропологии не вводят нас в заблуждение) первые человеческие шаги Адама отнюдь не направили его тотчас же с резвостью, быстротой и доверчивостью навстречу его судьбе, поджидавшей его на четырех реках Эдема. Еще не стряхнувший оцепенения, не освободившийся от наваждений леса, он с трудом отрывает ноги от усеянной листвой и заросшей папоротниками и бегониями земли и радостно касается тяжелых цветочных гирлянд, которые гладят ему кожу, и сам нежно гладит длинные бороды светлого лишайника, свисающие с дубовых и тиковых стволов, среди которых он вкушал еще недавно столь сладостную беззаботность. С ветвей, что в течение столь долгих времен питали и убаюкивали его, он по-прежнему срывает сочные ягоды и молодые побеги. Чтобы перебраться через ручьи, повсюду блестевшие и журчавшие в лесу после сезона дождей, он по-прежнему хватается за какую-нибудь могучую, оплетенную орхидеями лиану и, раскачавшись, с неторопливой небрежностью переносится через поток. И я весьма склонен думать, что, когда шумящий по чащобе ветер доносит до него тепловатый и острый запах сидящих на деревьях самок, наш праотец по-прежнему с жадностью втягивает его своими плоскими ноздрями и из его мохнатой груди вырывается сиплое и горестное хрюканье.
И все же он идет… Его желтые глаза, горящие желанием, таращатся и сверлят заросли, ища вдали ту землю, которой он жаждет и боится и которая уже дает о себе знать громким шумом, словно там повсюду кипит вражда и не прекращаются побоища. И по мере того, как светлеет лесной полумрак, в девственный мозг Адама проникает, подобно проникающему в темное логово рассветному лучу, предчувствие каких-то иных форм бытия и иной Силы, коей они одушевляемы. Это смутное ощущение лишь усиливает в нашем достопочтенном праотце смятение и ужас. Все библейские сказания, даже самые непререкаемые, сходятся на том, что Адам, вступая впервые на равнины Эдема, дрожал и кричал, словно малое дитя, потерявшееся на шумном деревенском празднике. И можно с уверенностью предположить, что из всех форм бытия ни одна не внушала ему большего ужаса, чем окружающая его растительность: ведь отныне деревья для него были существами, столь отличными от его Существа, и они были такими безучастными в своей апатии, столь непохожей на его деятельную силу. Выведенный из животного состояния, на пути к своему очеловечению, Адам, для коего лес всегда служил естественным и желанным убежищем, теперь ощущал себя в нем, как в позорном и горестном плену. Коварные ветви, препятствующие его передвижению, разве это не мощные руки деревьев, протянувшиеся, чтобы схватить его, оттащить назад, удержать на своих густолиственных вершинах? А преследующий его шелестящий шепот, – разве это не сам лес ропщет, требуя возвращения своего векового обитателя? Быть может, из того необъяснимого ужаса и родилась тогда первая схватка Человека с Природой. Когда протянутая ветка цеплялась за него, наш праотец, верно, рассвирепев, пускал в ход когти, отбиваясь от нее и стараясь освободиться. В этих внезапных столкновениях он не единожды утрачивал равновесие, и его руки беспомощно падали на землю среди зарослей или скал, и он, уступив инстинкту, снова оказывался на четвереньках под торжествующий вопль Природы! Сколь тяжкие усилия делал он тогда, чтобы выпрямиться и вновь обрести человеческую стать и двигаться, оторвав мохнатые руки от сырой земли, освободив их для безмерного труда на ниве своего очеловечения! Эти сверхъестественные усилия заставляли его рычать и грызть ненавистные корни, и, кто знает, быть может, уже тогда обращал он свои блестящие янтарные глаза к небесам, где он смутно предчувствовал кого-то, кто придет ему на помощь и кто и в самом деле поднимал его с земли.
Но после каждого из этих, не проходящих для него даром, падений наш праотец восстает все более Человеком, все более нашим Праотцем. Уже сознание, граничащее с Разумом, ощущается в его гулкой поступи, когда он пролагает себе путь по лесному преддверию рая, продираясь сквозь чащу, раздвигая густые заросли, будя тапиров, спящих под чудовищно огромными грибами, или пугая заблудившегося медвежонка, который, встав на задние лапы, высасывает, уже изрядно захмелев, подаренные щедрой осенью виноградные гроздья.
Наконец Адам выходит из темного леса, и его янтарные глаза тут же зажмуриваются, ослепленные сиянием, в котором купается Эдем.
Со склона, где он остановился, перед ним открываются переливающиеся всеми цветами радуги просторные равнины, невиданно плодородные и полные всяческого изобилия (ежели только библейские сказания сего не приукрашивают). Неторопливо течет по равнинам большая река, усеянная островами, щедро поя обильными и широкими заводями растущие здесь плоды земли, среди которых, быть может, уже произрастают чечевица и рис. Утесы из розового мрамора отливают теплым багрянцем. Среди зарослей хлопчатника, белого, словно взбитая пена, высятся холмы, покрытые цветущими магнолиями, превосходящими хлопок своей сверкающей белизной. Вдали снег венчает горную гряду лучистым нимбом святости, свисая по ее обрывистым краям тонкой блестящей бахромой. Другие вершины горят безмолвным пламенем. С отвесных склонов обреченно клонятся в пропасть пышные пальмы. Над озерами туман развешивает сияющую хрупкость своих кружев. И море на краю земли словно заключает все это в золотую раму. На этом плодородном пространстве божье творение, еще сохранившее тепло создавших его рук, являет всю силу, красоту и живую отвагу своей пятидневной юности. Бесчисленные стада рыжешерстных буйволов величаво пасутся среди трав, столь высоких, что буйволицы с телятами скрываются в них с головой. Внушающие страх бородатые зубры мерятся силой с исполинскими благородными оленями: они сталкиваются рогами, и рога трещат, словно сухие дубы под напором ветра. Стадо жирафов окружает мимозу, мягко отщипывая с ее верхушки молоденькие листочки. В тени тамариндов спят уродливые бегемоты, а над ними кружат птицы, услужливо склевывая с их толстой кожи всяких насекомых. Появление тигра обращает в поспешное бегство все эти крупы, рога и гривы, и среди них уверенней и легче всех изгибаются в грациозных прыжках антилопы. Огромная пальма гнется под тяжестью обвившего ее удава. В расщелине скал порой возникает, в ореоле роскошной гривы, морда льва, важно взирающего на солнце и сверкающую бескрайность равнин. В голубой высоте громадные кондоры с распростертыми во всю ширь крылами парят неподвижно среди белоснежных и розовых стай цапель и фламинго. И прямо против склона, по одной из возвышенностей, пересекая заросли, лениво и тяжело передвигается стадо мастодонтов; ветер треплет их длинную шерсть, и хоботы их раскачиваются между изогнутыми, словно серп, клыками.
Так древнейшие летописи описывают древнейший Эдем, раскинувшийся на равнинах Евфрата, или, быть может, на желтом Цейлоне, или между светлыми реками, что омывают нынешнюю Венгрию, или даже в сих благословенных землях, где наш Лиссабон подставляет свои старые бока солнцу, устав от подвигов и мореплаваний. Но кто может поручиться за верность всех этих описаний тогдашних флоры и фауны, когда с того дня, двадцать пятого октября, озарявшего рай осенним сиянием, прошло как весьма кратких, так вместе с тем и весьма насыщенных для такой песчинки, как наша вселенная, более чем семижды семьсот тысяч лет? Достоверно, быть может, лишь то, что затем перед устрашенным Адамом возникла исполинская птица. Птица пепельной окраски, с голой головой, задумчивым взглядом и перьями, растрепанными, словно лепестки хризантем: она неуклюже прыгала на одной ноге, держа в когтях другой, весьма цепко, связку трав и веток. Наш достопочтенный праотец, нахмурив смуглый лоб в тяжком усилии уразуметь, что сие означает, изумленно созерцал невиданную птицу, которая неподалеку от него, под цветущими азалиями, степенно завершала постройку шалаша! Это был чудесный, прочный шалаш, с полом из хорошо утрамбованной глины, стенами, возведенными из крепких сосновых и буковых ветвей, и надежной крышей из сухой травы, а в стене, сплетенной из туго связанных колючих растений, даже красовалось окошко!.. Но праотец всех людей в тот день так ничего и не уразумел.
Он с осторожностью двинулся к большой реке, стараясь не отрываться от края спасительного леса. Медленно, втягивая ноздрями незнакомые ему запахи пасшихся на равнинах тучных травоядных, крепко прижав кулаки к мохнатой груди, Адам шел, раздираемый влечением к этой пышной природе и страхом перед существами, никогда доселе им не виданными и наполнявшими все вокруг оглушительной нескончаемой разноголосицей. Но в нем самом уже клокотал, не умолкая, высший источник, источник, питавшийся Силой Разума, которая звала его к избавлению от первобытной дикости и к овладению, ценой усилий, уже наполовину не столь мучительных, поскольку они уже были наполовину осознанными, теми дарами, кои должны были утвердить его господство над еще неведомой ему Природой и освободить его от гнездившегося в нем страха. И вот при виде всех этих нежданных красот Эдема: пастбищ и пасущихся на них животных, снежных гор, сияющих бескрайних просторов – из груди изумленного Адама тоже вырываются хриплые возгласы и крики, неумелые и непривычные для него, в коих он, сам того не ведая, подражает звучащим вокруг него голосам: реву, пению, грохоту водопадов, всему этому шуму и гаму… И все эти звуки застревают в его еще не просветленной памяти, неотделимые от ощущений, заставивших его их исторгнуть: к примеру, пронзительный визг, вырвавшийся у него при встрече с кенгуру и ее детенышами, которые выглядывали у нее из живота, вновь слетает с его хоботообразных губ, когда другие кенгуру, убегая от него, скрываются впереди, в темной тени коричных деревьев. Библия, с ее восточной склонностью к наивным и пленительным преувеличениям, рассказывает, что Адам после прихода своего в Эдем нарек именами всех животных и все растения, и столь отменно и с таким знанием дела, словно составлялась Естественная история Вселенной, в которой уже присутствовали как сокрушительные ниспровержения Бюффона, так и скрупулезные исследования Линнея. Но нет! Первые слова Адама были всего лишь звуками, напоминавшими хрюканье или рев, хотя звучали они и вправду более торжественно, поскольку внедрялись в его пробуждающееся сознание как цепкие корни того Слова, благодаря которому он и в самом деле стал человеком и с тех пор, великий и смешной, населяет эту землю.
И можно с гордостью предположить, что, когда наш праотец наконец дошел до эдемской реки, он осознал самого себя, Существо, столь отличное от других существ, утвердился в сем сознании, выделил себя среди прочих и, ударяя себя в грудь, надменно взревел: «Я-а-а-а! Я-а-а-а!» Потом, устремив блестящий взгляд на длинную реку, лениво несущую вдаль свои воды, он попытался выразить свои чувства при виде столь необъятных просторов и проворчал с мечтательной жадностью: «Т-т-туда! Т-т-туда!»
II
Спокойная, величаво полноводная, текла она, благолепная райская река, омывая острова, почти утопавшие под пышным бременем густых рощ, благоуханных и оглушаемых неумолчными криками какаду. И Адам, с трудом бредя по низкому берегу, уже ощущает влечение к этим послушным водам, текущим и живым, – это влечение сделается столь сильным у его сыновей, когда они откроют в реке доброго помощника, который и утоляет жажду, и удобряет, и поливает, и мелет, и перевозит. Но сколь многое еще здесь приводит его в ужас и заставляет в испуге мчаться неуклюжими прыжками под защиту прибрежных ив и тополей! На островных отмелях, на мелком розовом песке, прильнув к нему брюхом, лениво греются твердокожие крокодилы: они тяжело дышат и во всю ширь разевают огромные пасти, вбирая весь воздух томительного знойного дня, пропитанный ароматом мускуса. В тростниковых зарослях скользят, блестя, крупные водяные змеи: подняв голову, они с яростью смотрят на Адама, выпуская жало и шипя. Нашему праотцу, поскольку он доселе ничего подобного не видывал, верно, представляются весьма страшными и гигантские в сем первозданном мире черепахи: таща на себе свой панцирь, они пасутся на свежих лугах. Но вот взгляд его натыкается на нечто любопытное, что крайне его привлекает и принуждает живее скользить по топкому берегу, о который бьется, размывая его, бахрома воды. Он видит, как по течению реки большое черное стадо зубров неторопливо, держа рогатые головы над водой, а густые бороды на ее поверхности, переплывает на другой берег, равнину, покрытую созревшими злаками, среди которых, быть может, уже произрастает спелая рожь и кукуруза. Наш достопочтенный праотец долго смотрит, как стадо пересекает сверкающую реку, и в нем тоже зарождается смутное желание переплыть ее и очутиться в тех далях, где так зазывно золотятся травы; подчиняясь этому желанию, он отваживается окунуть руку в поток, в могучий поток, сразу же потянувший его за руку, словно завлекая и подталкивая. Но он, заворчав, выдергивает руку из воды и бредет дальше, расплющивая тяжелыми ступнями и не ощущая при этом ее аромата свежую лесную землянику, обагряющую траву алым, как. кровь, соком… И вскоре вновь замирает, наблюдая за стаей птиц, обсевших гряду высоких скал, густо испещренных птичьим пометом, и высматривающих оттуда, с клювом наготове, что-то внизу, там, где вода бурлит в теснине. Что они там высматривают, эти белые цапли? Косяки красивых рыб, сгрудившихся и напирающих друг на друга, что вынуждает их выпрыгивать из воды, искрясь среди белоснежной пены. Внезапно, с шумом рассекая воздух взмахами белых крыл, одна цапля, а за ней другая ринулись к воде и снова взметнулись ввысь, неся в клювах по рыбине: рыбы извивались, сверкая на солнце. Наш достопочтенный праотец почесал себе бок. Его грубое чревоугодие пробудилось при виде рыбного изобилия и возжелало и для себя хоть какую-нибудь добычу; и, ловко взмахивая рукой, он принимается ловить на лету жуков, которых обнюхивает и с хрустом жует. Но ничто так не поражает первого на земле человека, как толстый ствол плывущего по течению полусгнившего дерева, на котором восседают горделиво и грациозно две зверюшки с хитрыми мордочками, светлой шерстью и кичливо пушистыми хвостами. Не в силах оторвать от них глаз, наш огромный, неуклюжий праотец припускается что есть духу вдоль берега следом за ними. И глаза его горят, словно он уже успел разгадать хитрость этих зверюшек, приспособивших ствол для путешествия по райской реке в приятной вечерней прохладе.








