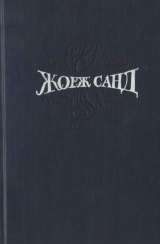
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 5. Странствующий подмастерье. Маркиз де Вильмер"
Автор книги: Жорж Санд
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 48 страниц)
А за это время Амори успел пробить в стене отверстие, расширить его и пробраться к дверце, ведущей в спальню маркизы. Она оказалась запертой изнутри. Амори дернул ее и, убедившись, что не привлек ничьего внимания, открыл ее отмычкой; затем он запер дверцу на два поворота и, положив ключ в карман, тем же путем отправился обратно, не сомневаясь теперь в своей победе.
Вернувшись в мастерскую, он поспешил исправить панель и поставил на место дверцу, секретное назначение которой знал теперь он один. Все это он совершил сам, чтобы не делать никого соучастником своей тайны. Съемный кусок панели он пристроил таким образом, чтобы легко снимать его, когда ему это вздумается. Он уже предвкушал испуг маркизы при его появлении. Кончив свою работу, он отправился разыскивать Пьера, заранее торжествуя победу над Ашилем или хотя бы над его надеждами. Пьера он застал дома выслушивающим в сотый уж раз совет отца не слишком доверять аристократам со всеми их благодеяниями.
Так начались для Коринфца блаженные дни любовного упоения, решившие будущую его судьбу. Потайной ход открыл ему возможность бесстрашно предаваться безумству любовных наслаждений; он познал все тонкости сладострастия. Впервые Жозефина была столь страстно любима, в первый и последний раз любила и она так самозабвенно. Да, разумеется, в их взаимной страсти не было того идеального, ангельски-чистого начала, которым проникнуты были отношения Изольды и Пьера. В то время как у тех взаимное тяготение и сама мысль о любовном влечении заглушалась горением разума и суровой верою в идеал, Коринфец и маркиза, порабощенные неистовством своих желаний и сжигавшим их пламенем чувственности, безудержно упивались молодостью и красотою друг друга. Но, во всяком случае, они были искренни, страсть их была по-своему чиста, ибо они верили друг другу и верили самим себе. Они клялись один другому в верности, и клятвы их были непритворны. Бывали даже минуты, когда Жозефина достигала в своих мечтах высокой степени мужества, представляя себе, как она объявит Амори своим возлюбленным, своим супругом в тот день, когда маркиз Дефрене падет наконец жертвой своих преждевременных недугов и даст ей возможность связать себя новыми брачными узами. Коринфцу будущее рисовалось совсем иначе. Будет ли господин Дефрене жив или нет, получит ли Жозефина возможность примириться с обществом и церковью – все это мало его заботило. Он и не помнил о том, что она богата, и с презрением отверг бы мысль о богатстве, которым был бы обязан ей, а не собственному таланту. Для него она была только женщиной – блистающей юностью, обольстительной, страстной, такой он боготворил ее и умолял, чтобы она любила его вечно, клялся стать достойным блаженства, которым она его дарила, оправдать ее веру в его счастливую звезду. Благодарная любовь к Жозефине нераздельно сливалась в его душе с честолюбивыми помыслами – он весь был во власти самонадеянной мечты о славе.
В честолюбивых этих помыслах не было ничего безнравственного или безрассудного, но с ними вскоре случилось то, что неизменно происходит в тех случаях, когда жажда преуспеяния не связана с моральным или религиозным идеалом. Каждый из нас имеет право быть счастливым, стремиться создавать великие творения, мечтать о всеобщем признании. Никому не возбраняется быть гордым своей любовью, возлагать надежды на свой разум и волю. Но одного этого мало, чтобы заполнить жизнь человека. И если честолюбие не связано с любовью к ближним, если им движет один лишь эгоизм, стремление к славе (которое способно преодолеть любые преграды и препятствия, когда думаешь не только о себе!) постепенно слабеет, чахнет и с каждой минутой готово угаснуть. Любовь, ограничивающаяся слиянием двух существ в одно (тот же эгоизм!), не властна долго питать его. Любовь – прекрасное, божественное чувство, когда она движущая сила, когда она служит щитом и поддержкой; будучи единственной целью, средоточием всех желаний, она жалка и ничтожна.
Коринфец отнюдь не был эгоистом в том скверном, жалком значении, которое вкладывается обычно в это понятие. Другом он был нежным и преданным. Он был внимательным, великодушным товарищем, благодарным и скромным любовником. Он хранил в своем сердце почтительную память о Савиньене, его мучила совесть при мысли о ней, но в душе его было больше пылкости, нежели твердости, и жажда жизни преобладала в ней над всем. Опасное любопытство, неутолимые желания юности теснили его грудь. Потому-то столь пагубной оказалась для него встреча с Жозефиной, происшедшая в пору расцвета всего его существа, в том возрасте, когда мы, будучи еще не способны ни разобраться в обстоятельствах, ни управлять ими, ни противостоять им, подпадаем под их власть. Кто знает, выдержал ли бы подобный искус даже добродетельный и стойкий Пьер Гюгенен. Кто знает, была ли бы столь возвышенной его любовь, не встреть он Изольду с ее апостольской душой и окажись он перед лицом тех же соблазнов, жертвой которых стал его друг. Как бы то ни было, счастье разделенной любви быстро развращало душу Коринфца. Бедняжке Жозефине с ее бесхарактерной, мягкой натурой, столь безудержно отдавшейся своей страсти, суждено было стать для него тем роковым яблоком, из-за которого ему предстояло быть изгнанным из райского сада молодости в пустыню суровой действительности.
Ашиль на некоторое время исчез из замка. Нашлось где-то вблизи Пуату местечко, где было легче организовать новую венту, и он отправился туда, спеша на призыв одного из своих собратьев, столь же ревностно, как и он, пытавшегося вдохнуть жизнь в совсем уже готовое угаснуть движение карбонариев. Впрочем, он собирался еще вернуться в Вильпрё, чтобы завершить наконец организацию здешней венты, которую, желая угодить мадемуазель де Вильпрё, намеревался назвать вентой «Жан-Жак Руссо».
Внезапный отъезд Ашиля вызвал в сердце Пьера глубокую тревогу. Он испугался, что у него не будет теперь поводов встречаться в парке с мадемуазель де Вильпрё. Но благосклонная судьба, а вернее сказать – любовь, эта робкая сводня, весьма кстати подарила Изольде новый предлог для их встреч.
Во время сильной грозы ветер опрокинул и сломал вольер в заповеднике. Изольда, как видно, крайне дорожившая своими птицами, обратилась к Пьеру с просьбой построить им новое жилище, и Пьер тотчас же сделал эскиз прелестного птичьего дворца из дерева и медной Проволоки. Здесь был и окруженный газоном бассейн с фонтаном, и мхи, и тростники для водяных птиц, и даже довольно высокий кустарник. Стены этой гигантской клетки покрывала сплошная сеть вьющихся растений, и увенчивалась она огромным куполом из цинка, призванным служить защитой от дождя или слишком яркого солнца для птиц, привезенных из иных широт.
Изольда так загорелась желанием поскорее увидеть сей орнитологический храм в натуре, что папаша Гюгенен вынужден был отпустить на некоторое время из мастерской своего сына и беррийца. По расчетам старого мастера, на это должно было потребоваться от силы две недели. Однако постройка вольера продлилась гораздо дольше.
Прежде всего оказалось вдруг, что берриец решительно ни на что не годен. Он-то, правда, уверял, будто Пьер стал к нему донельзя придирчив и что он просто несправедлив, заставляя его по многу раз переделывать работу, выполненную со всей тщательностью, но ничто ему не помогало: Пьер то и дело ласково, но твердо давал ему понять, что работа эта слишком тонка для него, и то посылал обтесывать доски в мастерскую, то заставлял целый день бегать в разные концы, давая ему по сто поручений зараз. Три раза гонял он его в соседний городок за проволокой. В первый раз она, видите ли, оказалась слишком тонкой, во второй – слишком толстой, а в третий – и недостаточно толстой и недостаточно тонкой. Так, во всяком случае, рассказывал об этом раздосадованный Сердцеед Коринфцу, к великой его потехе. А дело было в том, что в те дни, когда Пьер работал вместе с беррийцем, мадемуазель де Вильпрё приходила взглянуть на их работу всего раз или два; когда же Пьер работал в заповеднике один, она заходила раза три-четыре на дню и оставалась подольше. Вначале ее всегда сопровождали Жозефина или граф, к тому же в цветнике обычно работал садовник. Но постепенно она стала являться одна и оставалась даже после того, как становилось темно и садовник уходил домой. Пьер видел, как мало-помалу, сама того не замечая, она перестает быть рабой тех светских приличий, которых до этого строго придерживалась, причем Пьер был ей за это только благодарен, ибо видел в этом доказательство того, что он для нее не какой-то неодушевленный предмет, а мужчина, и понимал, что эта ее целомудренная осторожность вовсе не говорит о недоверии к нему, а напротив, подчеркивает уважение к его сословию, – этим она словно бы искупала всякий день оскорбительную фразу, сказанную тогда, в башенке. Но когда она перестала помнить об этом и безбоязненно стала оставаться с ним наедине, он почувствовал к ней еще большую благодарность – эта спокойная, ровная благожелательность была для него знаком святого доверия к нему, доверия сестры. Пьера не только не тяготили эти отношения – спокойные и чистые, напротив, он благословлял их, он бесконечно дорожил ими, ему не нужно было никаких других, он был далек от пагубных страстей, которые сжигали Коринфца. Слишком он любил, чтобы вожделеть. Изольда была для него небесным созданием, он побоялся бы осквернить ее даже прикосновением к складке ее платья. Правда, всякий раз как в глубине аллеи появлялась ее легкая фигура, какой-то трепет охватывал все его существо и рука его слабела, с трудом удерживая молоток или резец. Когда при нем произносилось ее имя, краска бросалась ему в лицо. Порой ее образ являлся ему в сновидениях, сквозь безотчетный любовный бред, и тогда наутро он в смятении низко склонял свою голову, не смея взглянуть ей в лицо. Но стоило Изольде заговорить с ним, и вся душа его трепетала, возвращаясь к тем высоким сферам, где не было для него ни стыда, ни страха перед ней, потому что он чувствовал себя связанным с ней духовными узами – бесспорными и нерасторжимыми.
Никому и в голову не приходило заподозрить в этих встречах что-либо дурное, вернее – их никто не замечал. Всем известно было, что граф с детства внушал своей внучке понятия о равенстве всех людей и что в соответствии с этим она держится просто с каждым. К тому же вся ее повадка, независимость, спокойная, естественная манера держаться, результат того данного ей дедом воспитания, которое одни называли английским, а другие – «по Эмилю», как-то отстраняли от ее имени всякие дурные предположения. Слуги, так же как и соседи, относились к ней кто с инстинктивным уважением, а кто просто с безразличием, но ее серьезность, ее любовь к уединению были им непонятны, и они охотно приписывали это некоему врожденному недугу. Свойственная ей бледность заставляла говорить о ней с первых дней ее жизни: «Эта девочка не жилица на белом свете», хотя она никогда не болела. Оттого, что в младенчестве она лишена была обычной ребяческой живости, никому теперь не приходило в голову, что в ней могут пробудиться страсти. Считалось, что, поскольку она никогда не была настоящим ребенком, она не сможет стать и настоящей женщиной. Так рассуждали люди, знавшие ее с самого детства. Что касается тех, кто видел в ней предполагаемую дочь императора, то они охотно сочинили бы на ее счет какую-нибудь более увлекательную историю, нежели роман с каким-то подмастерьем-столяром.
И вот случилось так, что Пьер во время одного деревенского праздника, нечаянно услышав на ее счет довольно нескромные предположения, не смог заставить себя промолчать.
Назавтра он, как обычно, работал у вольера, когда явилась Изольда. Поиграв с ручной косулей, жившей у нее в заповеднике, и покормив птенцов, которых она держала здесь в особой клетке, она взяла книгу и несколько раз прошлась вдоль цветника; только после этого она подошла к Пьеру, с которым в этот раз поздоровалась только издали, и решилась заговорить с ним. Пьер с самого начала заметил, что она держится как-то странно – обычно она подходила к нему сразу, осведомлялась о здоровье его отца и, пока он помогал ей отвязать косулю или запереть клетку, рассказывала новости из последних газет.
– Мастер Пьер, – сказала она, лукаво улыбаясь, – мне сегодня пришла одна фантазия. Я хотела бы узнать, что говорят обо мне в округе.
– Как же я могу сказать вам это, мадемуазель? – ответил Пьер, испуганный и удивленный этим требованием.
– Очень даже можете, – продолжала она веселым тоном, – ведь вам это хорошо известно. Оказывается, вы даже так добры, что иногда вступаетесь за мою честь. Жюли рассказала кузине, что вчера во время праздника вы заставили замолчать двух молодых людей, которые, как мне передавали, говорили обо мне довольно странные вещи. Но она так рассказывала, что госпожа Дефрене ровно ничего не поняла. Не можете ли вы рассказать мне толком, что такое обо мне говорили и почему это вам вдруг вздумалось защищать меня?
– Мне, вероятно, следует попросить у вас прощения за это, – смущенно сказал Пьер. – Есть особы, которые настолько выше всяких глупых разговоров, что защищать их – почти оскорбление для них.
– Неважно, – заметила на это мадемуазель де Вильпрё. – Я знаю, вы усердно заступались за меня, и благодарна вам за это. Но я хочу знать, в чем меня обвиняли. Пожалуйста, не отнекивайтесь и удовлетворите мое любопытство!
С каждым ее словом смущение Пьера все возрастало; он решительно не знал, как ему рассказать о том, что произошло накануне. А Изольда между тем настаивала со свойственным ей шутливым хладнокровием и, приготовившись слушать, степенно уселась на садовую скамейку; удивительное у нее было умение решительно во всех случаях жизни держаться и просто и величественно – добрая сестра и в то же время королева.
Все пути к отступлению были отрезаны. Почувствовав, что дальше молчать нельзя, что ему необходимо оправдаться во вчерашнем своем поведении и рассказать об обстоятельствах, в которых было произнесено ее имя, Пьер наконец решился и, стараясь говорить как можно более веселым тоном, хотя все дрожало в нем от волнения и внутренней боли, начал свой рассказ:
– Так вот, мы сидели за столиком – я, Коринфец и еще несколько товарищей. Какие-то молодые люди – не знаю, кто они, не то какие-то писцы, не то сынки соседних фермеров – уселись рядом с нами и стали пить пиво. Они с нами заговорили первыми и начали задавать всякие глупые вопросы, а потом спросили, правда ли, будто молодые дамы из замка танцуют на деревенских балах и можно ли их пригласить потанцевать. Как раз в это время вы вместе с графом и госпожой маркизой прошли мимо. Коринфец ответил им на это, что ни вы, ни маркиза не танцуете. Не знаю, правильно ли он поступил и не лучше ли было сказать, что он ничего не знает; я, во всяком случае, на его месте ответил бы так. Тогда один из этих парней сказал, что это неправда, потому что маркиза каждое воскресенье танцует с крестьянами под дубами, что ему это доподлинно известно и что танцует она, как говорят, на славу. Коринфцу не понравилась физиономия этого господина, и в самом деле, тон у него был пренаглый, и он все наваливался на наш стол локтями и сдергивал при этом скатерть, так что со стола все время что-нибудь валилось. Берриец три раза поднимал с полу свой ножик и выходил из себя не меньше Коринфца. А этот господин – кажется, это был какой-то маклер – все требовал ответа и все твердил, что Амори ему соврал, и тут же берриец вмешался в разговор и заявил, что если маркиза даже и танцует с нашими, деревенскими, это вовсе не значит, что она станет танцевать с первыми встречными… Но, право же, мадемуазель, не знаю, почему эта история так вас интересует.
– Очень даже интересует. Продолжайте же, очень прошу вас, – сказала Изольда и, так как Пьер все еще колебался, начала ему подсказывать. – И тогда эти франты сказали, что если мы не танцуем с чужими, значит, мы бесстыжие ломаки… Да говорите же! Вы ведь видите, это просто забавляет меня и я ни капли не сержусь.
– Ну да, так оно и было, они действительно так сказали, раз уж вы непременно хотите это знать.
– А что они сказали еще?
– Не помню уж.
– Ах, так вы меня обманываете, мастер Пьер! Они сказали, в частности, обо мне, что напрасно я строю из себя такую недотрогу, потому что все великолепно знают мою историю.
– Да, сказали, – покраснев, подтвердил Пьер.
– Но я ведь хочу услышать ее, «мою историю»! Она-то больше всего меня интересует. А эта глупая Жюли так и не захотела рассказать ее кузине!
Пьер испытывал нестерпимые муки. «История» эта интересовала его еще больше, чем Изольду. Чего бы ни дал он, чтобы знать правду! Наконец-то ему представлялся случай узнать ее из ответов мадемуазель де Вильпрё или догадаться о ней по ее поведению. Но ему все казалось: начни он повторять ее, его глаза и губы невольно выдадут тайну сердца и Изольда обо всем догадается. Наконец со смелостью отчаяния он решился:
– Хорошо, раз вы требуете, чтобы я повторил то, что они сказали, извольте. Они сказали, будто вы собирались замуж за одного молодого ученого, – наставника вашего брата, но его будто бы с позором выгнали, а вы после этого чуть не умерли с горя.
– И что не будь этой истории, – подхватила Изольда, слушавшая его с пугавшим его хладнокровием, – лилии и розы играли бы на моих ланитах не хуже, чем на щечках кузины?
– Да, что-то в этом роде.
– А вы? Пытались вы опровергнуть эту последнюю улику?
– Я мог бы это сделать, сказав, что видел вас в детстве и что вы в пять-шесть лет были такая же бледная, как и теперь, но мне было не до улик, я старался отвергнуть главный пункт обвинения.
– А что, вы в самом деле помните меня ребенком, мастер Пьер?
– Когда вы в первый раз приехали сюда, у вас были короткие волосы, как у мальчика, и такие же черные, как теперь. И вы всегда были в белом платье с черным поясом, потому что носили траур по своему отцу. Как видите, у меня хорошая память.
– А я тоже хорошо помню, как вы принесли мне двух диких голубков в клетке, которую сами сделали. А я вам подарила книжку с картинками, «Естественную историю для детей».
– Она цела у меня до сих пор.
– Нет, в самом деле? Однако мы отклонились в сторону, но не думайте, я вовсе не забыла, о чем спрашивала вас. И что же вы ответили этим господам?
– Что все, что они говорят, вздор и что во всей этой истории нет ни складу, ни ладу.
– И тогда они рассердились?
– Да, немножко. Но когда они поняли, что мы их не боимся, они вскочили из-за стола и сказали, что, они, мол, сами виноваты, нечего было садиться рядом с нами, что всегда так бывает, когда свяжешься с деревенщиной. Не удержи я беррийца, пожалуй, пришлось бы с ними драться. А я был бы в отчаянии, если бы это случилось из-за разговора, к которому было приплетено ваше имя.
Изольда ответила ему благодарной улыбкой и несколько минут молчала. Трудно передать, какую муку пережил Пьер, ожидая, что она скажет. Наконец она снова заговорила.
– Скажите, мастер Пьер, – серьезным тоном спросила она, – почему вас так возмутило то, что они сказали обо мне? Или желание выйти замуж за скромного учителя кажется вам настолько позорным и преступным, что вы готовы были даже пойти на ложь, лишь бы опровергнуть эту возможность?
Пьер побледнел и ничего не ответил. Он и не слышал последнего ее вопроса, он понимал одно: она кого-то любит, ведь она только что призналась ему в этом, и это сразу низвергло его с небес на землю.
– Ну же, – продолжала мадемуазель де Вильпрё отрывистым и немного властным тоном, напоминавшим, как уверяли некоторые, тон императора, – извольте отвечать мне, мастер Пьер. Я, знаете ли, дорожу своим добрым именем, особенно в глазах тех, к кому отношусь с уважением. Почему вы вздумали отрицать, что я была влюблена в учителя латыни?
– Ничего я не отрицал. Я сказал только, что подобного рода предположение просто наглость и не таким, как они, судить о такой особе, как вы…
– Сказано весьма аристократично, господин Пьер, но я меньше аристократка, чем вы. Я, как вы знаете, стою за свободу слова, свободу печати, совести, словом – за всякую свободу. Было бы непоследовательно с моей стороны требовать для себя каких-то особых привилегий.
– Должно быть, я был неправ, высказываясь таким образом, но если бы все это повторилось, я ответил бы им точно так же. Я просто слышать не мог, как эти дерзкие болтуны произносят ваше имя.
– Ну хорошо, вы оправданы, только с одним условием – ответьте на вопрос, который я давеча вам задала: что вы видите дурного в том…
– Боже мой, да ничего я в этом дурного не вижу! – воскликнул Пьер, у которого сердце обливалось кровью от этой игры. – Если вы собираетесь выйти замуж за ученого, это ведь не менее почетно, чем выйти за банкира, генерала или герцога…
– Значит, будь это правда, вы не стали бы вступаться за меня, а напротив, осуждали бы?
– Осуждать? Вас? Я? Да никогда! В вас так много возвышенного… Вам простительна небольшая причуда…
– Ну что ж, я удовлетворена вашим ответом, и мне нравится ваше суждение относительно «моей истории» с учителем. Никто из моих знакомых не способен был бы, пожалуй, возвыситься до подобного отношения к этим вещам. Как удивительно, мастер Пьер, вот вы никогда не видали так называемого света, а разбираетесь в нем лучше, чем те, кто его составляет. Опираясь на одну только логику и житейскую мудрость, вы верно уловили то, в чем заблуждаются большинство мужчин и женщин нашего времени.
– Что же это такое, позвольте спросить? Выходит, я заговорил прозой, сам того не ведая[121]121
Выходит, я заговорил прозой, сам того не ведая? – Намек на реплику Журдена, героя комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (д. II, явл. VI).(Примеч. коммент.).
[Закрыть]?
– А вот слушайте. Нынче в моде романы. Светские дамы зачитываются ими, а затем, как могут, разыгрывают их в жизни; только в жизни все не так, как в книгах. На тысячу любовных историй, притязающих на пылкую страсть, вряд ли найдется хоть одна, где речь действительно шла бы о любви. Во всех этих скандальных историях – похищениях, дуэлях, браках, заключенных против воли родителей, – подлинной любви не больше, чем было у меня по отношению к наставнику моего брата. Тщеславие надевает всевозможные личины; люди губят свою карьеру, женятся, стреляются только для того, чтобы о них говорили. Поверьте мне, истинная любовь скрыта от всех, настоящие романы – это те, о которых никто не подозревает, истинные страдания переносятся молча и не нуждаются в сочувствии или утешениях.
– Так, значит, эта история с учителем… все это неправда? – вырвалось у Пьера, и в голосе его прозвучало такое мучительное беспокойство, что мадемуазель де Вильпрё улыбнулась.
– Если бы все обстояло в ней так, как рассказывают, – отвечала она, – поверьте, никто бы и не знал о ней. Потому что, если бы в самом деле я любила этого молодого человека, то одно из двух – либо он был бы достоин меня, и тогда дедушка не стал бы противиться моему выбору, либо мое чувство было бы заблуждением, и тогда дедушка открыл бы мне глаза. А уж в этом случае, я полагаю, у меня достало бы сил не выказывать ни ложного стыда, ни отчаяния, и никто не имел бы удовольствия наблюдать, как я бледнею и чахну. Но во всяком вымысле всегда есть частица правды, есть она и в этой истории, и об этом я вам сейчас расскажу. У моего брата действительно был учитель латыни и греческого, который, как уверяют, не был силен ни в латыни, ни в греческом, но это было неважно, поскольку мой брат не желал учить ни того, ни другого. Мне в ту пору было лет четырнадцать, не больше, и время от времени я просто из сострадания к этому несчастному учителю, зря терявшему у нас свое время, брала уроки вместо Рауля. Через год я знала немногим больше своего наставника, то есть не слишком много.
В один прекрасный день за обедом я заметила, что учитель, хоть и не страдает отсутствием аппетита, как-то странно вздыхает всякий раз, как я предлагаю ему какого-нибудь кушанья. Я спросила, что с ним, на что он ответил, что тяжко страдает; тогда я стала расспрашивать, что у него болит, не подозревая, что это было любовное объяснение. Назавтра я обнаружила в своей латинской грамматике странную записку, сплошь состоявшую из восклицательных знаков, и отнесла ее дедушке, который очень над ней смеялся и посоветовал мне сделать вид, будто я ее не читала. В тот же день он имел с учителем продолжительную беседу, после которой тот уехал. Уж не знаю, кто, то ли в свете, то ли в людской, сочинил по этому поводу целый роман, где речь шла о семейном скандале, жестоком и унизительном изгнании учителя и моем отчаянии. А дело объяснялось просто: дедушка дал этому молодому человеку небольшое политическое поручение в Испании; тот выполнил его, как выполнил бы всякий другой; по возвращении он был принят в нашем доме так же доброжелательно, как и прежде, словно и не сделал ничего такого, за что его не следовало принимать. Между нами никогда не было речи о той записке, а других он мне не писал. Я даже думаю, он просто забыл об этой истории, потому что не раз слышала, как он безжалостно высмеивает тех, кто отваживается ухаживать за женщинами. Впрочем, это очень славный молодой человек, я весьма уважаю его, хотя у него есть слабости, которые меня смешат, и, сдается мне, вы относитесь к нему совершенно так же.
– Да разве я его знаю? – спросил пораженный Пьер.
Тогда Изольда с лукавым видом провела пальцем по своим щекам, как бы рисуя на них густые бакенбарды Ашиля Лефора. Она не добавила к этому ни слова и только с хитрой, шаловливой улыбкой приложила палец к губам. В эту минуту искреннего веселья она предстала Пьеру в новом, неизвестном ему дотоле очаровании. Ему сразу стало тепло на сердце от дружеского доверия, которым она только что его одарила.








