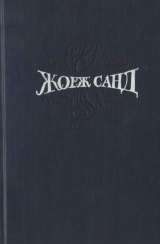
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 5. Странствующий подмастерье. Маркиз де Вильмер"
Автор книги: Жорж Санд
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 48 страниц)
– Ну, что ж вы? Ответьте же ему, дедушка!.. – воскликнула Изольда, устремляя на старого графа горящие влажные глаза, полные нетерпеливого ожидания.
Но напрасно ждала она, чтобы умудренный опытом старец веским своим суждением поддержал проповеднический пафос молодого рабочего. Граф улыбнулся, поднял глаза к небу и нежно привлек внучку к себе, протягивая свободную руку Пьеру.
– Ах вы, мои юные, благородные сердца, – проговорил он после минуты молчания, – не раз еще будете вы предаваться подобным мечтам, прежде чем поймете, что все они – лишь нескончаемая игра ума, высокие проблемы, не имеющие реального разрешения в сем грешном мире. Желаю вам как можно позже познать разочарование и пресыщение, кои суть удел лишь седовласой старости. А пока мечтайте, выдумывайте новые системы, придумывайте их, сколько вашей душе угодно, и постарайтесь как можно дольше сохранить способность верить в них. Мастер Пьер, – добавил он, вставая и снимая перед изумленным юношей свою черную бархатную шапочку, – склоняю перед вами свою седую голову. Я уважаю вас, я восхищаюсь вами, я вас люблю. Приходите почаще беседовать со мной. Ваш юный пыл, быть может, согреет и меня, старика. Будем с вами мечтать, и кто знает, не станет ли от этого гора, тяжко давящая на наш идеал, легче на целую песчинку?
С этими словами он взял под руку Изольду и удалился, унося с собой свои брошюры, свои газеты и очки со спокойной уверенностью человека, для которого любая самая высокая идея и самое святое чувство – не более как забава.
Сначала Пьер был ошеломлен, затем ему стало горько, смешно, и им овладело чувство негодования, смешанное с презрительным сожалением. И как же смешон он был, открывая самые заветные свои мысли этому старцу, поседевшему в своем исконном безверии, позволяя ему осквернять их своим леденящим дыханием! Он с трудом подавил в себе чувство презрения к нему.
«Как же так? – говорил он себе. – Знать все эти идеи (он ведь не может, да и не хочет отрицать, что в каждой из них есть правда) – и хранить их в себе, как хранят в каком-нибудь ларце совсем ненужные тебе дорогие вещи, не понимая ни их назначения, ни ценности. Этот вельможа богат, влиятелен, он дожил до старости среди социальных битв, пережил республику, монархов – и у него нет никакого идеала, никаких убеждений, нет воли к борьбе или хотя бы каких-либо надежд! Лицемерный совет образумиться, пустые сетования, насмешливое сострадание – и это все, на что способен этот старец, стоящий уже на краю могилы? Но если таков один из самых умных и просвещенных людей их касты, каковы же другие? И чего же, спрашивается, можно ждать от таких живых трупов, облеченных властью и славой – высшими отличиями жизни?»
В праведном своем гневе Пьер был не совсем справедлив. Он недостаточно отдавал себе отчет в том, как велико влияние, оказываемое на человека первоначальным его воспитанием, и как живучи предрассудки, впитанные с молоком матери. Нет ничего труднее, чем становиться на точку зрения, противоположную той, с которой взираешь на мир ты сам. Если бы Пьер представлял себе общество таким, каково оно в действительности, а не таким только, каким оно должно быть, он, несмотря на свой страстный порыв добродетельного негодования, все же сумел бы сохранить какую-то долю уважения и симпатии к старому графу, который, несомненно, стоял выше своей среды, обладал добрым сердцем и непосредственностью чувств. Но Пьер шел к нему, уповая на помощь, обещанную Изольдой, и была минута, когда, обманутый сочувствием, с каким ему внимали, он поверил, что решение, которого он ищет, будет ему немедленно подсказано. И велика была его душевная боль, когда он понял, что в этом сочувствии была также и жалость к нему и что, хваля его проповеднический пыл, граф вместе с тем относился к нему словно к какому-то юродивому.
И одно только еще придавало ему силы вернуться к работе, то есть вновь взвалить на себя тяжкое бремя жизни – это воспоминание о выражении лица Изольды в ту минуту, как она, уходя, обернулась к нему. Во взгляде этой благородной девушки он прочел удивление, разочарование, растерянность – все то, что испытывал сам. Что-то торжественное почудилось ему в этом взгляде – был ли это молчаливый обет или прощание навек? И при воспоминании об этом мимолетном тайном общении с ней вся душа его содрогалась от какой-то сладкой боли. Теперь он знал, что любит, любит страстно; но он не мог бы сказать, отчего так трепещет душа его – от счастья или отчаяния.
ГЛАВА XXVПьер уже подходил к мастерской, когда его догнал старый слуга: нужно было починить стол, за которым только что завтракал граф. Это был красивый столик наборной работы с выдвижной доской для письма и вместительным ящиком. Пьер вернулся с полпути и с философическим спокойствием принялся за дело. С помощью слуги он перевернул стол и нашел место поломки. Вместе они опорожнили ящик. Затем слуга сложил в корзину вынутые оттуда газеты и бумаги, после чего Пьер поднял стол на плечо и отнес его в мастерскую.
Закончив починку, он, прежде чем вставлять ящик на место, стал вытряхивать из него пыль и вдруг заметил какой-то кусочек картона, наполовину высовывающийся из его щели. Он вытащил его и уже собрался было отшвырнуть прочь, когда ему бросилась в глаза его необычная форма. Это было нечто вроде визитной карточки, вернее – половинка карточки, в нескольких местах изрезанная по краям какими-то зубцами, в расположении которых угадывалась определенная симметрия. Пьер, знавший, что граф силен в математике, стал внимательно рассматривать карточку со всех сторон, заподозрив было, что это итог решения какой-нибудь хитроумной геометрической задачи, но так ничего и не разобрав, сунул карточку в карман. «Не Изольда ли, – подумалось ему, – в минуту раздумья машинально изрезала ее таким образом? Кто знает, какие мысли волновали ее, когда она предавалась этому занятию? В конце концов, на свете нет ничего случайного – и не скрывает ли форма этих зубцов какой-нибудь символ ее сердечных тайн?»
Ашиль Лефор накануне предупредил его, что собирается провести в замке еще несколько дней – ему якобы необходимо проверить с управляющим счета за прежние доставки вина для графского погреба. Они условились с Пьером назавтра вновь встретиться в парке. Было еще светло, когда Пьер пришел в условленное место. В ожидании Ашиля он снова стал внимательно разглядывать карточку, и вдруг у него мелькнула смутная догадка. В прошлом году он с интересом следил по газетам за судебным процессом сержантов Ларошели. Он читал и фанатичные речи прокурора Белляра и напыщенные речи обвинителя Маршанжи; его тогда поразили некоторые подробности, связанные с тайной деятельностью карбонариев. И теперь, увидев подходившего к нему Ашиля Лефора, он вдруг, словно по наитию, протянул ему карточку и уверенным тоном спросил:
– Знакомо вам это?
– Как! Что я вижу! – воскликнул коммивояжер. – Так мы с вами кузены, оказывается, и вы до сих пор скрывали это? Ну, ну, нечего сказать, разыграли вы меня. Но кто бы мог подумать? Так, значит, вы проверяли меня? Вам было поручено наблюдать за мной, прощупать меня? Что же, выходит, мне не доверяют? Нет, мне решительно кажется, что это сон… Да говорите же, отвечайте!
– Если мы еще с вами и не кузены, то находимся на пути к этому, – отвечал Пьер, который едва удерживался от смеха при виде искреннего изумления Ашиля. – Этот знак вручил мне граф де Вильпрё, чтобы нам скорей сговориться с вами.
– Но если вы не посвященный, – проговорил Ашиль, все больше изумляясь, – это против всех правил.
– Как видно, – сказал Пьер, – он имеет право так поступать.
– Да ничего подобного! – воскликнул Ашиль Лефор. – То, что он член Верховной венты[109]109
Вента – первичная организация карбонариев (по типу масонской ложи).(Примеч. коммент.).
[Закрыть], вовсе не дает ему право разглашать наши тайны и открывать наши условные знаки. Ах, понимаю: старый трус решил выйти из игры; а может, он со страху совсем рехнулся и уже сам не знает, что творит? Впрочем, после всего того, что он наговорил мне вчера вечером, ничто меня уже не удивляет. Известие о Трокадеро[110]110
Трокадеро – испанский форт в Кадисском заливе, один из последних оплотов революционной армии, взятый французскими войсками 31 августа 1823 г.(Примеч. коммент.).
[Закрыть] окончательно его доконало, и он, видно, вообразил, что теперь всему конец. С самого начала войны он сам не свой. Он ведь и в этот старинный замок запрятался, чтобы в случае чего остаться в стороне от событий, а теперь небось рад бы забраться, как филин, в какую-нибудь расщелину своих аристократических стен. Ох, уж эти мне люди! Даже если и случится им когда-нибудь проявить мужество, то в следующую же минуту они становятся еще трусливее. Не понимаю я, ей-богу, руководящий комитет; это же чистое безрассудство – надеяться на всех этих старых аристократов! Как будто они могут забыть эпоху террора, как будто они способны на что-нибудь путное. Срывать наши планы да тормозить все дело, только на это они и способны. Простите меня, мастер Пьер, все это я говорю не потому, что не доверяю лично вам. Я знаю, что вы не менее осторожны и честны, чем лучшие люди из наших. Но все же никто из нас не имеет права нарушать обет и раскрывать наши тайны.
– Успокойтесь, господин Лефор! – ответил Пьер. – И вообще не надо волноваться. Никто этой карточки мне не давал, я сам нашел ее давеча на дне ящика. А если кто и раскрыл мне тайны организации, то это вы сами. Вы рассказали мне гораздо больше, чем я хотел узнать.
– Что?! Так, значит, вы просто дурачили меня? – проговорил Ашиль тоном, в котором чувствовалось подчеркнутое высокомерие, и глаза его сердито сверкнули.
– Потише, потише, сударь мой, – ответил на это Пьер. – Возьмите эту карточку, мне она ни к чему, а что до ваших тайн, не думаю, чтобы им грозила такая уж большая' опасность оттого, что я обнаружил эту детскую игрушку. Забавляйтесь и дальше подобными пустяками, я не имею права смеяться над ними, поскольку и сам связан такими же ребяческими условностями с другой организацией, члены которой больше верят в свое дело и лучше хранят свои тайны, чем вы.
– Вы, кажется, позволяете себе читать мне мораль, мастер Пьер? – сказал Ашиль, окончательно рассердившись. – Я отношусь к вам с уважением, но этого права вам не давал. Будь вы человеком невежественным и грубым, как большинство вам подобных, я мог бы из снисходительности не обращать внимания на ваши скверные шутки. Но я считаю вас равным себе и по уму, и по знаниям, а потому, имейте в виду, не стану терпеть такие шутки, как не стал бы терпеть от любого из моих товарищей.
– Господин Лефор, – совершенно невозмутимо отвечал ему Пьер, – благодарю вас за комплименты, которыми сопровождаете вы свои угрозы, но в них чувствуется высокомерие человека, надевающего перчатки, прежде чем дать пощечину. Ну, а я проявлю еще большую гордость – я протяну вам руку и попрошу прощения за то, что вас обидел.
– Пьер, – сказал Ашиль, растроганно пожимая рабочему руку, – я искренно люблю вас, но прошу, постарайтесь, чтобы наша дружба не расстроилась из-за гордыни одного из нас.
– Я прошу вас о том же, – улыбаясь, ответил Пьер.
– Но мне труднее, чем вам, мой друг, – продолжал Ашиль. – Ведь вы – это народ, то есть аристократ, властелин, которого мы, заговорщики из третьего сословия, пришли умолять принять участие в нашей борьбе за дело справедливости и истины. Вы говорите с нами свысока, недоверчиво, устраиваете нам чуть ли не допрос, требуете ответа, кто мы – безумцы или интриганы. Вы заставляете нас вытерпеть тысячу оскорблений. А когда мы, потеряв наконец терпение, оказываемся уже не в силах даже во имя дела проявлять христианское смирение, и кровь закипает от гнева в наших жилах, и мы требуем, чтобы вы относились к нам как к равным, – вы заявляете, что мы-де раньше притворялись, что это мы относимся к вам свысока и затаили против вас злобу, одним словом, что все мы самозванцы и подлецы и, моля вас о помощи, лишь хотим использовать в собственных интересах. А ведь именно такого рода клевету поддерживает правительство, чтобы разлучить нас с народом – нас, его единственных истинных друзей. И вы клюете на эту приманку, попадаете на эту удочку. Не умно и не великодушно.
– То, что вы говорите, безусловно верно, если смотреть на все это с вашей колокольни, – ответил на это Пьер. – Я многое мог бы сказать в наше оправдание. Я мог бы сказать, что даже те из вас, кто искренно сочувствует нам, как вы, например, никогда не задумывались всерьез о нашем положении и хотя сожалеют о нем, не знают, как его изменить. Да и не господь же бог поручил вам вести среди нас агитацию и поднимать восстание! Я мог бы добавить к этому, что в вашем ремесле (а это ремесло, уж простите мне это слово!) вы пользуетесь такими же иезуитскими приемами, как и вводящее нас в заблуждение правительство, которое вы обвиняете в этом. Вы с легкостью даете нам обещания, заранее зная, что не в состоянии их выполнить, вы наблюдаете нас, проникаете в нашу среду, узнаете наши недостатки, наши ошибки, пороки и, выдержав некоторое время это тяжкое для вас испытание – общение с народом (ибо нет у вас ни желания просветить его, ни истинного духа милосердия и озабочены вы идеями политическими, а не нравственными), бежите прочь от нас, говоря: «Теперь я знаю народ, он дик, он груб, и пройдут еще многие века, прежде чем он будет способен управлять собой сам. Остерегайтесь народа, друзья мои, не будем торопиться. Народ у нас за спиной, готовый поглотить нас, и горе нам, если мы спустим это взбесившееся животное с цепи».
– Этого мы не говорим! – закричал Ашиль.
– Неправда, говорите. Вы это пишете и печатаете. Ваши газеты полны речами ваших адвокатов и ораторов, они отрекаются от нас, они презирают нас. Вы что ж думаете, мы не читаем ваших газет? «Народ, – заявляете вы, – это не та презренная чернь, не та воющая толпа, что жаждет крови и грабежей, которая требует милостыни, угрожая вам палкой, и готова убить того, кто не отдаст ей своего кошелька. Народ – это здоровая часть населения, это те, кто честно зарабатывает свой хлеб, кто с уважением относится к нашим правам, стараясь добиться таких же прав для себя, но не насилием, не анархией, а усердным трудом, стремлением к просвещению и уважением к законам своей страны». Вот каким изображаете вы народ. Вы рядите его в воскресное платье и в таком виде выводите перед судами, перед парламентом, перед теми, у кого есть средства подписываться на ваши газеты. А то грубое платье, что он носит в будни, а ужасающие его язвы, а постыдные болезни; а взрывы негодования, когда он доведен до крайности; а его угрожающие вопли, когда он видит себя угнетенным и обойденным; а эти приступы исступленного безумия, когда воспоминание о вчерашних горестях и страх перед будущим заставляет его «искать в вине забвения всех печалей»[111]111
«Оберман» господина де Сенанкура[164]164
Сенанкур Этьен (1770–1846) – французский писатель.(Примеч. коммент.).
[Закрыть]. (Примеч. автора.)
[Закрыть], по выражению одного вашего пиита; а постепенное падение, обнищание, потеря человеческого облика, рождаемые нищетой, – все это вас не касается, здесь вы умываете руки, вы устыдились бы одной мысли о том, что их можно оправдать, и говорите: «Эти тоже наши враги, они позор общества, они его бесчестье». А между тем и эти тоже народ! Смойте с них грязь, излечите их от недугов, и вы увидите, что это презренное стадо – такое же творение божье, как и вы. Напрасно хотите вы разделить народ на разные группы и категории – двух народов не существует, есть лишь один. Те, которые работают в ваших домах, все эти улыбающиеся, степенные, чисто одетые люди – такой же народ, как и те, что в жалких рубищах, в злобном исступлении кричат, толпясь у ваших дверей. Разница только в том, что одним вы дали работу и хлеб, а для этих у вас ее не нашлось. Почему, например, вы, господин Лефор, расточая мне свои похвалы, всякий раз выделяете меня из народа? Вы полагаете, что это так лестно для меня? Отнюдь, я не хочу подобной чести. Последний нищий – такой же, как и я. Я не стыжусь его, как многие из наших, которые, переняв у вас привычки благополучной жизни, усвоили вместе с ними и ваше чванство и неблагодарность. Нет, нет, этот нищий, этот несчастный принадлежит к той же касте, что и я. Он брат мой, и его уничижение заставляет меня стыдиться своего благополучия. Запомните же, господин Лефор; до тех пор, пока есть на свете человеческие существа, пораженные язвой нищеты, до тех пор я буду твердить: грош цена всем вашим заговорам, буржуазным хартиям и сменам убеждений.
– Дорогой мой Гюгенен, – с волнением сказал Ашиль, – чувства ваши благородны, но все же вы слишком торопитесь обвинять нас. Вы думаете, легко быть лекарем нравственных недугов человечества? Вы полагаете, это так просто сразу найти верное средство от такого их множества?
– Но можно ли найти это средство, если лекарь, с ужасом отворачиваясь от больного и зажимая себе нос, кричит, что в больнице одна лишь зараза и гниение? Что сказали бы вы о лекарском ученике, который при виде пораженного гангреной больного падал бы в обморок от отвращения? Уместно ли говорить в этом случае о его преданности делу? Или хотя бы о любви к науке? Или об истинном призвании? Так имейте же мужество спуститься в этот лепрозорий человеческой нравственности, как вы говорите, отважьтесь погрузить руки свои в наши гнойные раны и не тратьте время на разговоры о том, что невозможно смотреть на это без отвращения. Ищите средства излечить нас, ибо никогда еще не приходилось мне видеть лекаря, даже самого нерадивого и недалекого, который отказывается пользовать больного на том основании, будто он так гадок, что его и лечить не стоит.
Но оставим таких республиканцев, как вы, – искренних, хотя и поверхностных. Поговорим теперь о тех, кого не назовешь ни тем, ни другим, – где найти слова, чтобы заклеймить их? Я, знаете ли, встречался с некоторыми из них, хотя всегда более всего держался общества рабочих. Например, тот врач, с которым вы свели меня тогда на ужине у Швейцарца, – ведь этот господин небось уже приберег на случай революции какую-нибудь влиятельную особу, может быть и принца крови, чтобы поскорее посадить его на место того, кого свалят с трона. Да зачем далеко ходить, возьмите хотя бы вашего карбонария-депутата, члена Верховной венты, старого графа де Вильпрё, с которым у вас дела скорее политические, нежели коммерческие, в этом я не сомневаюсь, – разве не вы сами давеча нарисовали точный его портрет?
– Может быть, я здесь и пересолил: ведь в сердцах я обвинил его в том, в чем, оказывается, он вовсе не был виноват.
– Не пытайтесь оправдывать его, я разговаривал с ним нынче утром целый час, он раскрыл мне всю сущность свою и уважения мне больше не внушает. Поверьте, этот человек не пропадет, он всегда сумеет без забот и опасности плыть по течению.
И Пьер рассказал о своем разговоре с графом, умолчав, однако, о тех романтических обстоятельствах, которые вызвали это свидание. Его рассказ заставил доброго Ашиля задуматься; мысленно он спрашивал себя, способен ли он сам ответить на вопрос, который рабочий задал старому вельможе, но не мог, однако, не признать права этого рабочего ставить таким образом вопрос о собственности.
– Да, конечно, – сказал он, – вопрос этот очень серьезный, и разрешение его потребует от людей еще немало времени и усилий ума.
– Оно потребует еще сердца, – добавил Пьер, – одним разумом решения не найти.
– Но без разума, без знаний какой толк в самоотвержении? Ведь для того чтобы народ мог понять, в чем его подлинные интересы, ему нужно помочь, и это могут сделать люди, которые благодаря своим знаниям, своим размышлениям стоят выше его.
– Не произносите вы этих слов, господин Ашиль! Наши подлинные интересы! Господи! Будто мы не знаем, что понимают под этим те, кто будет писать законы!
– Но в конце концов, Пьер, вы что же, не доверяете мне?
– Нет, почему же, доверяю. Только я в вас не верю. Ибо знаете вы не больше моего, я же ничего не знаю.
– Значит, надо довериться тому, кто знает больше, – людям, которые стоят над нами.
– Но где они, эти люди? Что они сделали? Кого и чему научили? Как же так? Они разговаривали с вами, вы действуете по их указке, вы работаете на них, и вам нечего сказать мне от их имени? У них есть тайна, и они не открывают ее даже вам, своим сторонникам? А уж о народе и говорить нечего. Да что это, индийские брахманы, что ли?
– В ваших словах есть жестокая логика, мастер Пьер, и бодрости духа они не внушают. Но что же делать, если приходится действовать вслепую? Прикажете сложить руки и ждать, пока народ сам себя освободит? Вы полагаете, он сумеет добиться чего-либо своими силами, без советчиков, без вождей, без знания законов борьбы?
– Сумеет. Все это у него будет. Законы эти он создаст себе сам. Вожди выйдут из собственных его недр. Что до советов, то их он почерпнет в духе божьем. Надо же надеяться немного и на провидение.
– Итак, вы готовы отринуть истину, если только услышите ее из уст вождей либерализма? Выходит, если человек знаменит, одарен талантами и пользуется влиянием среди средних классов, народ отнесется к нему с недоверием?
– Пусть такой человек придет к нам и скажет: «Да, меня превозносят, моими знаниями восхищаются, все подчиняются мне, а я вам вот что скажу, дорогие мои: никогда не употребляю я свои знания, свои силы, свой талант во зло вам. Самый незаметный из вас имеет такое же право на благосостояние, на свободу, на образование, как и люди моей среды. И самый слабый из вас будет иметь право обуздать меня, если я стану злоупотреблять своей властью, и самый невежественный – не соглашаться с моим мнением, если оно противно законам нравственности. Словом, чтобы иметь право называться великим деятелем, великим ученым, великим поэтом, я хочу на деле доказать и себе и вам свою добродетель и свое милосердие». О, пусть те, кого называют великими людьми, придут к нам и скажут это. И мы пойдем за ними, мы предадимся им, как предались бы богу. Ибо бог творит с помощью не только силы и знаний, но еще и любви. Но до тех пор, пока эти люди, презирая нас за грубость наших умов, станут по-прежнему держать народ в загоне, словно скот, которому негде даже пощипать травку, там, где теснота заставляет нас давить и душить друг друга и откуда мы не в силах выбраться, потому что кругом понаставлены солдаты, дабы оберегать от народа прекрасные плоды земли, – до тех пор мы будем отвечать им: «Оставьте нас в покое и дайте нам выбраться отсюда собственными средствами. Все советы ваши – предательство, а ваши успехи оскорбляют нас. Не переступайте с высокомерным видом через сковывающие нас цепи, не ходите меж наших растерявшихся рядов со словами фальшивой жалости на устах. Мы ничего не хотим делать для вас, даже преклоняться перед вашими талантами, ибо вы-то, хоть и низенько нам кланяетесь, когда боитесь нас или нуждаетесь в нас, не испытываете ни малейшего желания отдать нам в руки ваши богатства, вашу власть, вашу славу». Вот что скажем мы им, вашим умникам.
– Но ведь именно эти слова, которые вы вложили только что в уста человеку, ищущему у народа и свою силу и славу, выражают то, что я чувствую. А если такие чувства испытываю я, смиренный слуга дела освобождения, почему вы не допускаете, что люди более высокого ума испытывают их в еще большей степени?..
– Потому что пока я этого что-то не наблюдал; потому что я прочел все, что только мог, и нигде даже намека на это не нашел, потому что все решения социального вопроса, выдвинутые вашими великими умами прошлого и настоящего, полны высокомерия, жестоки и бесчеловечны.
– Но дело еще и в том, что вы слишком многого от них хотите; вы требуете от людей невозможного. Вы хотели бы таких вождей и советчиков, которые соединили бы в себе отвагу Наполеона со смирением Иисуса Христа. Нельзя требовать всего этого сразу от человеческой натуры. Впрочем, даже если бы такой человек вдруг и явился, его никто бы не понял. Вы-то рассуждать умеете, а народ не умеет.
– Умеет лучше, чем вы думаете, и тому доказательство – что вам не удается поднять его на восстание. Он понимает, что час его еще не пробил. И предпочитает потерпеть еще немного, ибо знает, что, разогнись он сейчас, он рискует удариться своим и без того израненным телом о нависший над ним свод. Он ждет, чтобы свод этот приподнялся и он мог бы встать во весь свой рост. А знаете, что это за свод? Он состоит из двух слоев. Нижний – это буржуа, верхний – аристократы. Если вам невтерпеж, буржуа, столкните-ка их с себя, этих давящих на вас аристократов. Это уж ваша забота. А мы – мы поможем вам, если будет доказано, что от этого станет легче и нам. Но если груз, давящий на наши плечи, не станет от этого легче – берегитесь: мы стряхнем, в свою очередь, и вас.
– А что же будете вы делать до тех пор?
– То, что вы нам советуете. Будем работать изо всех сил, чтобы не умереть с голоду, да еще при этом поддерживать друг друга. Мы, рабочие, сохраним наш компаньонаж, ибо, несмотря на все его заблуждения, на все крайности, принципы, которыми он руководствуется, все же достойнее тех, на которых зиждется ваша организация карбонариев. Наша цель – возродить равенство между нами, в то время как вы стремитесь сохранить в мире неравенство.








