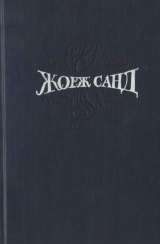
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 5. Странствующий подмастерье. Маркиз де Вильмер"
Автор книги: Жорж Санд
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 48 страниц)
Следствие по делу зачинщиков кровопролитной драки подмастерьев было закончено. Все гаво были признаны невиновными и полностью оправданы. Пьер и Романе, выступавшие в суде в качестве главных свидетелей, обратили на себя всеобщее внимание своими уверенными показаниями и мужественным поведением. Красивое лицо Пьера, весь его благородный облик, простая, но полная достоинства манера говорить привлекли к нему особый интерес либералов Блуа, которые вместе с сотрудниками своих газет присутствовали на заседании суда. Но он не успел стать предметом их новых заигрываний, ибо покинул город, как только увидел, что обойдутся и без него.
А что поделывал папаша Гюгенен в отсутствие сына? Старик негодовал, просто из себя выходил, но еще больше того – беспокоился, не случилось ли чего. «Пьер всегда так аккуратен, так исполнителен во всем, что делает, – думал он, – не иначе как случилось что-нибудь недоброе!» И от этих мыслей он впадал в полное отчаяние, ибо и сам не подозревал до этой последней разлуки, как любит и уважает сына.
Как и опасался Пьер, от волнения у старого мастера вновь сделался жар, и в тот счастливый для него день, когда Амори с беррийцем прибыли в Вильпрё, папаша Гюгенен с утра вынужден был оставаться в постели. По пути Коринфец еще раз напомнил Сердцееду о просьбе Пьера считаться с предубеждением старого столяра против всего, что связано с компаньонажем, и так как самому ему немного претило начинать знакомство с новым хозяином со лжи, он заодно подговорил беррийца первым войти в дом и представиться. Сойдя с дилижанса, они осведомились, где живет старый столяр, и направились к его дому. Но вошли туда каждый по-своему – один с развязностью дурачка, другой с осторожностью умного человека.
– Эй, вы! – заорал берриец и заколотил своей палкой по створке незапертой двери. – Есть тут кто в доме? Здравствуйте! Добрый вам день! Здесь, что ли, живет папаша Гюгенен, столярных дел мастер?
Папаша Гюгенен лежал между тем в постели и был в таком скверном расположении духа, что даже никого не пускал к себе в комнату. Услышав голос, столь внезапно нарушивший его покой, он подскочил на своем ложе и, раздвинув желтый саржевый полог, увидел перед собой нелепо ухмыляющуюся физиономию Сердцееда.
– Ступай-ка своей дорогой, любезный! – резко сказал он ему. – Постоялый двор дальше.
– А если нам здесь больше нравится? – ответил ему Сердцеед, которому доставляло удовольствие дразнить старика в преддверии радости, которую, как он считал, тот должен будет проявить, узнав, зачем они пришли.
– Ну погоди ж ты у меня! – проворчал папаша Гюгенен, начиная натягивать на себя куртку. – Сейчас ты у меня узнаешь, как врываться к больному человеку! Вылетишь у меня отсюда за милую душу!..
– Покорно прошу прощения за моего товарища, хозяин, – вмешался тут Амори, входя, в свою очередь, в комнату и почтительно кланяясь отцу своего друга. – Мы пришли предложить вам свои услуги, а послал нас сюда ваш сын.
– Мой сын! – вскричал старый мастер. – А где же он сам?
– Он остался в Блуа самое большее еще денька на два-три, его задержало там одно дело, о котором он вам сам расскажет; а нас он нанял на работу. Вот вам и записка от него, там все про нас сказано.
Прочитав записку, папаша Гюгенен успокоился и сразу же почувствовал себя наполовину выздоровевшим.
– Ну, в добрый час! – сказал он, глядя на Амори. – Ты, сынок, обычаи, как видно, знаешь, а вот у товарища твоего престранные повадки. Ну-ка, любезный, – добавил он, строгим взглядом окидывая беррийца с ног до головы, – может, в работе ты больше смыслишь, чем в приличиях? А ведь картуз-то тебе не больно к лицу, мой милый!
– Картуз? – удивленно переспросил берриец, снимая свою шапчонку и простодушно разглядывая ее. – Что верно, то верно, не больно он хорош, да ведь какой есть…
– Но его все равно полагается снимать перед хозяином, особенно когда у того седая голова, – мягко заметил ему Коринфец, который сразу понял, что имеет в виду папаша Гюгенен.
– Что верно, то верно, в коллежах мы не обучены, – сказал берриец, сунув свой картуз под мышку. – А вот насчет работы, это вы, хозяин, не сомневайтесь, это мы умеем.
– Ладно, дети мои, поживем – увидим, – смягчаясь, сказал папаша Гюгенен. – Вы пришли в самый раз, потому что время идет, работа стоит, а я тут валяюсь в постели, что старый конь на соломе. Ну, пропустите-ка по стаканчику вина, а потом я отведу вас в замок, потому что живой я или мертвый, а заказчика должен поскорее успокоить и ублаготворить.
Пока подмастерья угощались, папаша Гюгенен, кликнув служанку, попытался встать с постели. Однако ему сразу стало плохо. Заметивший это Коринфец начал уговаривать старика не ходить с ними, утверждая, что он, мол, и без того знает уже все от Пьера, который подробно все ему растолковал, и что он имеет теперь обо всем столь же ясное представление, как если бы работал здесь с самого начала, и в доказательство Коринфец принялся подробнейшим образом наизусть перечислять формы и размеры всех сводов, карнизов, тетивы лестницы, соединительных клинышков и всего прочего, обнаруживая при этом такую прекрасную память и так свободно разбираясь во всем этом, что старый столяр снова внимательно посмотрел на него и еще раз подумал о пользе теории, которая делает ясными самые сложные операции и так хорошо запечатлевает их в уме. Он почесал в затылке, натянул поглубже свой ночной колпак и, вновь улегшись в постель, сказал:
– Ну ладно, помоги вам бог!
– Положитесь на нас, – сказал Амори, – нынче уж мы обойдемся без ваших советов и только будем стараться угодить вам, а завтра, дай бог, вы и сами сможете прийти поглядеть.
– Да, да, положитесь на нас, – повторил за ним Сердцеед, поспешно допивая последний стакан. – Увидите, хозяин, вы еще пожалеете, что так нелюбезно встретили двух молодцов подмастерьев…
– Подмастерьев? – прошептал папаша Гюгенен и сразу нахмурился.
– Да нет, это я просто так сказал, чтобы поддразнить вас маленько, – спохватился берриец. – Ведь вы, как я слышал, не больно жалуете их, подмастерьев-то?
– Ах вот что! Значит, вы из этого самого Союза долга? – проворчал папаша Гюгенен, в душе которого давняя ненависть к компаньонажу успела уже вступить в борьбу с неизвестно откуда взявшейся вдруг симпатией к обоим пришельцам.
– А то как же! – подхватил берриец, обладавший счастливой способностью вовремя подтрунить над собственной внешностью. – Мы с ним оба из Союза красивых парней, а я там хожу в знаменосцах.
– И долг у нас один, – ввернул Коринфец, искусно играя этим словом, – постараться быть вам полезными.
– Ваши слова да богу в уши, – проворчал папаша Гю-генен, совсем расстроившись, и полез под одеяло.
Однако ночь он проспал спокойно, а на следующий день почувствовал себя лучше и отправился поглядеть, что поделывают подмастерья. Он застал их в разгаре работ – все ученики были заняты, дело так и кипело, не хуже, чем это бывало при Пьере. Окончательно уверившись, что с подрядом все теперь будет в порядке, и весьма довольный тем, что господин Лербур больше на него не дуется, вернулся он домой в свою постель. Назавтра он почти совсем уже поправился, и когда на третий день к вечеру Пьер явился домой, отец был уже на ногах.
Лицо Пьера выражало самое безмятежное спокойствие. Совесть больше не мучила его; радостное чувство исполненного долга пробивалось даже сквозь обычную его сдержанность, и отец сразу же почувствовал это. Однако, когда он вздумал расспрашивать сына, почему тот так задержался, Пьер ответил:
– Позвольте мне, дорогой отец, ничего не говорить вам в свое оправдание, это заняло бы слишком много времени. Немного позже, если вы будете очень настаивать на этом, я расскажу вам, что делал в Блуа. А пока, с вашего позволения, я немедля отправлюсь в часовню; и поверьте моему честному слову – я выполнял свой долг. Окажись вы там рядом со мной, вы, я уверен в этом, благословили бы меня и остались бы мной довольны.
– Да уж ладно, – отвечал старый мастер, – неволить не буду. Ты ведь всегда говоришь мне только то, что считаешь нужным. Право, мне иногда сдается, что не ты мне сын, а я – тебе. Чудно, но уж так оно получается.
Он так хорошо себя чувствовал в этот вечер, что даже сел поужинать вместе с сыном, обоими подмастерьями и учениками. Ему все больше нравился Амори, привлекавший его своей мягкой почтительностью. Ему не хотелось заговаривать с ним на известную тему, но мысленно он не раз спрашивал себя: «Да неужто и вправду он один из тех окаянных подмастерьев? Выходит, и лицо его и его обходительность – все это один обман?» Менялось понемногу и его мнение о беррийце – под непривлекательной его внешностью все чаще обнаруживал он превосходные душевные качества. Простодушные выходки Сердцееда забавляли его, и он доволен был, что есть теперь над кем подтрунивать, ибо, как мы знаем, папаша Гюгенен, как и все люди с живым характером, был малость задирист, а степенная сдержанность, с которой неизменно держались и его сын и Амори, всегда немного стесняла его.
В этот вечер, утолив свой первый голод (как всегда неуемный), Сердцеед положил оба локтя на стол и с еще полным ртом обратился к Коринфцу.
– Товарищ, – сказал он ему, – почему ты не позволяешь мне рассказать мастеру Пьеру про то, что у тебя давеча вышло из-за него с тем дуралеем Полидором… Теодором… как его там?.. ну, с этим толстым сынком управляющего?
Амори, недовольный болтливостью беррийца, пожал плечами и ничего не ответил. Но папаше Гюгенену вовсе не хотелось, чтобы тот замолчал.
– Вот уж не советовал бы я тебе, дорогой Амори, поверять свои тайны этому малому, – сказал он. – Он ведь у нас осторожен и деликатен, совсем как бревно, которое с размаху стукнет тебя по ноге!
– Ладно, – сказал Пьер Гюгенен, – раз начал, пусть говорит. Речь, как видно, идет о господине Изидоре Лербуре. Неужели ты думаешь, Амори, что я буду огорчен, если он сказал что-нибудь дурное обо мне? Нужно быть просто глупцом, чтобы бояться его суждений.
– Ну если так, я все сейчас расскажу. Ей-богу, все как есть расскажу вам, мастер Пьер, – завопил берриец, умоляюще подмигивая Амори, чтобы тот не мешал ему продолжать. Амори сделал знак, что он может говорить, и берриец начал свой рассказ:
– Сначала, значит, приходит в мастерскую знатная дама, пухленькая такая, клянусь богом, и маленькая-премаленькая, с этаким румяным личиком. И вот, проходит она, значит, мимо нас. Сначала туда, потом сюда, потом еще раз туда и еще раз обратно, будто бы работу нашу посмотреть, а на самом деле, ну не сойти мне с этого места, прямо глаз не спускает с земляка Коринфца…
– Что это он такое болтает? Что это значит – «земляк Коринфец»? – прервал его папаша Гюгенен, в присутствии которого, как было условлено, прозвища компаньонажа никогда не произносились. Пьер под столом что было силы наступил на ногу неосторожному беррийцу, и тот, скривившись от боли, попытался поскорее исправить свою оплошность.
– Понимаете, хозяин, когда я говорю «земляк» – это все равно что «товарищ», «друг». Мы с ним земляки, понимаете, – он, значит, из Нанта, что в Бретани, а я из Ноана-Вик, что в Берри.
– Чего уж понятнее? – проговорил папаша Гюгенен, корчась от смеха.
– А когда я говорю «Коринфец», – продолжал свои объяснения Сердцеед, нога которого все еще находилась под каблуком Пьера, – так это я прозвал его так просто в шутку…
– Да ладно, хватит об этом… Так дама смотрела на Амори? Ну, а дальше-то что? – нетерпеливо прервал его папаша Гюгенен.
– Какая дама? – спросил Пьер, который, бог знает почему, при этом слове вдруг насторожился.
– Ведь сказано же тебе: знатная дама, маленькая-премаленькая, – смеясь, сказал Амори, – только я не знаю, кто она.
– Если лицо у нее румяное, – заметил старый мастер, – значит, это не мадемуазель Вильпрё – та бледная как смерть. Может, это была ее горничная?
– А что ж, может быть, – ответил берриец, – потому что ее как раз называли мадам.
– Значит, она не одна приходила на вас смотреть? – спросил Пьер.
– Нет, сначала одна, – отвечал Сердцеед, – а только потом явился этот самый господин Колидор и…
– Изидор! – притворно сердитым голосом поправил его старик Гюгенен, думая смутить его.
– Ну да, Теодор, – продолжал, ничуть не смешавшись, берриец, который любил иной раз повалять дурака. – Ну и этот самый господин Молидор, значит, и говорит ей: «Чем могу быть полезен вам, мадам маркиза?»
– Ах, так это графская племянница, маленькая госпожа Дефрене, – заметил папаша Гюгенен. – Ну, эта не гордая, будет смотреть на кого угодно. Так, говоришь, она смотрела на Амори? В самом деле?
– Смотрела вот точь-в-точь так, как я сейчас на вас смотрю! – вскричал берриец.
– Ну, уж должно быть, не совсем так, а? Должно быть, как-нибудь иначе, – сказал старый столяр, от души смеясь при виде Сердцееда, который изо всех сил старался пошире вытаращить свои подслеповатые глазки. – Ну ладно, а дальше-то что? Заговорила она с вами?
– Нет, говорить она с нами не говорила, а только она, значит, сказала: «Я ищу собачку. Не пробегала ли тут собачка, не видали вы ее, господа столяры?» И тут как взглянет на земляка… Амори то есть. Ну прямо так и уставилась, словно съест его сейчас.
– Да перестань же, дуралей, это она на тебя смотрела, – улыбаясь, сказал Амори. – Признавайся лучше… ты же не виноват, что женщины на тебя заглядываются.
– Ну, насчет этого вы, конечно, шутите… Никогда еще ни одна женщина – ни богатая, ни бедная, ни молодая, ни старая – ласково не взглянула на меня, кроме разве Матери… то бишь Савиньены, еще в те времена, когда она не убивалась так по мужу.
– Она ласково смотрела на тебя? На тебя? – покраснев, спросил Амори.
– Да, потому что жалела меня, – отвечал берриец, у которого было достаточно здравого смысла, когда дело касалось его самого. – Бывало, скажет мне: «Бедный, бедный ты мой берриец, да какой же смешной у тебя нос, а какой забавный рот! В кого это ты такой уродился? У кого был такой нос – у матушки или у отца?»
– Ну, да ладно с этим, что же было дальше с дамой? – перебил его папаша Гюгенен.
– А с дамой ничего больше не было, – ответил берриец. – Она как вошла, так и вышла, и тут господин Ипполит…
– Господин Изидор, – снова поправил его упрямый папаша Гюгенен.
– Ладно, Изидор, будь по-вашему. А только, по мне, это имя ничуть не красивее моего носа! Так вот, значит, стоит он около нас, руки скрестил на груди, точь-в-точь как император Наполеон на той картинке, где он с подзорной трубой, и как начнет: работа, дескать, никудышная, никуда-де она не годится, ну и всякое такое. А земляк… то бишь, простите, Амори, возьми да ничего ему и не ответь, а я тоже, значит, строгаю себе доску, да и помалкиваю. Ну и распалился же он тут! Небось ждал, что мы спросим его, почему, мол, работа никудышная… Как схватит он тут одну доску, и пошел опять: и дерево, дескать, плохое, и оно уже все растрескалось, и если бросить доску наземь, она расколется, как стекло. А Коринфец… ну, хоть режьте меня, хозяин, не отвыкнуть мне, да и только… а Коринфец-то ему и говорит: «А вы попробуйте, милый барин, бросьте, ежели вам охота». И тогда он как бросит эту самую доску что есть силы об пол, а она-то и не раскололась. Его счастье, а не то я бы ему башку расколол своим молотком.
– И это все? – спросил Пьер.
– А вам мало этого, мастер Пьер? Ну, вам, видать, не угодишь.
– А мне так вполне достаточно, – помрачнев, заметил папаша Гюгенен. – Видишь, Пьер, говорил я тебе, что сынок господина Лербура зуб на тебя имеет… он тебе еще покажет. Ты от него еще наплачешься!
– Посмотрим! – сказал Пьер.
Старик был прав. Узнав, как раскритиковал его чертеж молодой столяр, Изидор Лербур воспылал к Пьеру глубокой ненавистью. Как раз накануне он обедал в замке. Граф имел обыкновение по воскресеньям приглашать к обеду кюре, мэра, сборщика налогов, а заодно и управляющего с его отпрыском. Он придерживался того мнения, что в деревне всегда есть пять-шесть человек, которых следует держать в узде, и что радушное застолье – наилучший способ воздействия на должностных лиц. Спесивый Изидор был весьма горд этой привилегией. Он являлся к столу в самых ярких из своих нелепейших костюмов, немилосердно бил за столом тарелки и графины, с видом знатока смаковал тонкие вина, всякий раз выслушивал от графа какой-нибудь выговор, который не шел ему на пользу, и нагло пялил глаза на хорошенькую маркизу Дефрене.
В воскресенье злопамятному Изидору представился удобный случай отомстить обидчику. Во время обычной послеобеденной партии в пикет, которую граф в этот день предложил кюре, разговор зашел о старой часовне, и граф осведомился у своего управляющего, возобновились ли там наконец прерванные работы.
– Как же, как же, ваше сиятельство, – отвечал господин Лербур, – работают там четверо рабочих, и даже сегодня.
– Но сегодня воскресенье, – заметил кюре.
– Вы отпустите им этот грех, кюре, – сказал граф.
– Боюсь, однако, – вмешался Изидор, только и поджидавший удобного момента, чтобы вставить свое слово, – боюсь, что господину графу их работа вряд ли придется по вкусу. У них скверное дерево, и вообще они ничего во всем этом не смыслят. Старик Гюгенен мастер неплохой, но он сейчас болен, ну а сынок его – отъявленный невежда, деревенский краснобай, словом, настоящий осел…
– Сделай милость, дай нам отдохнуть от ослов, – сказал граф, спокойно тасуя карты, – хотелось бы хоть на некоторое время забыть об их существовании.
– Позвольте все же сказать, ваше сиятельство, этот олух совершенно не способен выполнить работу, за которую взялся. Самое большее, что можно ему доверить, – это обтесать какое-нибудь бревно…
– Берегись в таком случае, как бы это не оказалось опасным для тебя, – отвечал ему граф, который в своем роде был шутник не хуже старого Гюгенена. – Однако позвольте, кто же, собственно, нанял этого мастерового, не твой ли батюшка?
Господин Лербур в эту минуту находился в другом конце комнаты, где рассыпался в восторженных восклицаниях по поводу коврика, который вышивала госпожа Дефрене, и не мог слышать, как его сын честит Пьера Гюгенена.
– Мой отец ошибся, взяв этого рабочего, – сказал Изидор, понизив голос. – Ему его очень расхваливали, и он понадеялся, что это выйдет дешевле, чем выписывать настоящего работника откуда-нибудь издалека. Но он просчитается, потому что все, что сделано в часовне и еще будет сделано, придется потом переделывать заново. Я собственным именем готов ручаться, что это так.
– Собственным именем? – переспросил старый граф, не прерывая игры и явно издеваясь, хотя Изидор и делал вид, что не замечает этого. – Вот была бы потеря! Если бы я имел счастье называться господином Изидором Лербуром, не стал бы я так рисковать!
– Очень уж вы строги, господин Изидор, – со свойственным ей ребяческим кокетством сказала маркиза Дефрене, которой успели уже наскучить комплименты господина Лербура-старшего. – А я, – продолжала она своим нежным и певучим голоском, – случайно проходила через часовню, и мне показалось, что новая резьба прелестна, ничуть не хуже, чем старая. Чудо что за резьба! Вы правильно сделали, милый дядя, что решили восстановить часовню. Она будет такая изящная, совсем в нынешнем вкусе!
– Как это в нынешнем вкусе? – воскликнул Изидор с рассудительным видом. – Ей уже более трехсот лет.
– Ты как, сам додумался до этого? – насмешливо спросил его граф.
– Но ведь… – начал было Изидор.
– А теперь это опять модно, – с раздражением прервал его кюре, которому болтовня Изидора мешала обдумывать ходы. – Моды время от времени возвращаются… Да не мешайте же нам играть, господин Изидор.
Господин Лербур бросил на сына испепеляющий взгляд, но тот, весьма довольный, что ему удалось все же нанести Пьеру первый удар, подсел к дамам. Мадемуазель Изольда, питавшая к нему непреодолимое отвращение, немедленно встала и перешла на другой конец комнаты, госпожа Дефрене, более снисходительная, поддержала разговор с младшим чиновником управления шоссейных дорог Она начала задавать ему вопросы сначала о часовне, затем о Пьере Гюгенене, о котором он так дурно отзывался, и, наконец, поинтересовалась, кто из рабочих, встреченных ею давеча в мастерской, и есть этот самый Пьер Гюгенен.
Один из них показался мне очень приятным, – простодушно заметила она.
– Пьера Гюгенена там вовсе и не было, – отвечал Изидор, – а тот, о ком вы говорите, – это его товарищ. Не знаю, как его настоящее имя, но прозвище у него пресмешное.
– Правда? Ах, скажите, что за прозвище, я так люблю все смешное.
– Товарищ называет его Коринфцем.
– О, да это прелестно – Коринфец! Но почему он так его называет? Что это означает?
– У этих людей вообще всякие странные прозвища. Второго, например, они называют Сердцеедом.
– Да что вы? Это в насмешку, да? Ведь он же просто урод! В жизни не видела никого безобразнее!
Будь на месте Изидора кто-нибудь понаблюдательнее, ему пришло бы, пожалуй, в голову, что госпожа Дефрене проявляет к мастеровым, работающим в часовне, куда больший интерес, чем это полагалось бы маркизе, опровергая тем самым утверждение Лабрюйера[75]75
Лабрюйер Жан (1645–1696) – французский писатель-моралист. Жорж Санд не точно цитирует отрывок из главы III «О женщинах» его книги «Характеры, или Нравы нашего века».(Примеч. коммент.).
[Закрыть], будто «только монахиня способна увидеть в садовнике мужчину». Но, зная кокетливый нрав маркизы, Изидор, считавший себя неотразимым, не придал этому значения, полагая, что с ее стороны это лишь предлог подольше удержать его подле себя, чтобы насладиться беседой с ним.
Маркиза Жозефина Дефрене, урожденная Клико, была дочерью местного разбогатевшего суконщика. Совсем юной ее выдали замуж за маркиза Дефрене, приходившегося графу племянником. Маркиз сей был туренский дворянин, весьма благородный, если судить по родословной, но вообще препустой малый. В годы Империи он служил, но, не отличаясь ни особыми талантами, ни безупречным поведением, никак не продвинулся, а только успел промотать свое состояние. Во время «Ста дней»[76]76
«Сто дней» – вторичное правление Наполеона I после возвращения его с острова Эльбы (1815).(Примеч. коммент.).
[Закрыть] он не проявил ни достаточной ловкости, ни достаточной смелости: слишком поздно предав императора, он не сумел извлечь выгоду ни из своей измены, ни из своей верности. Тогда он вновь сел на шею графу де Вильпрё, который, не зная, как избавиться от несносного племянника и его вечных долгов, задумал переложить свою ношу на семью Клико, женив его на их богатой наследнице Жозефине.
Родителям Жозефины достаточно хорошо было известно, что будущий зять нехорош собой, немолод, не слишком любезен с людьми, что в нравственном отношении он столь же небезупречен, как и в денежном, словом, что брак этот вряд ли принесет их дочери семейное счастье и достойное положение. Однако возможность породниться с «самым сиятельным семейством», пользуясь выражением господина Лербура, кружила им голову. Что же до девицы Клико, то за титул маркизы она готова была примириться решительно со всем.
Ей понадобилось всего несколько лет, чтобы убедиться, как горько она ошиблась. Маркиз очень быстро самым пошлым образом промотал приданое жены, и тогда господа Клико, желая обеспечить дочь хоть каким-то капиталом на будущее, предложили зятю полюбовную сделку: дочь они забирают к себе, ему же назначают пенсию в шесть тысяч франков в год, с тем что он будет транжирить ее в Париже или за границей. В самый разгар переговоров мамаша Клико неожиданно скончалась, а отставной суконный фабрикант вновь вернулся к делам, дабы возместить ущерб, нанесенный его состоянию, и Жозефина вместе с отцом и двумя тетками поселилась в огромном, безвкусно обставленном доме рядом с фабрикой, на берегу Луары, в нескольких лье от Вильпрё.
Среди шума и суеты фабричной жизни, будничной и однообразной, окруженная самыми заурядными людьми, вынужденная жить чуть ли не монашкой (ибо за ее нравственностью следили так же бдительно, как если бы она была девочкой), бедняжка Жозефина умирала от скуки. Лишь мельком довелось ей увидеть кусочек большого света, но это недолгое соприкосновение с ним зажгло в ней страстную жажду красивой жизни и светской суеты. За два года, что она провела в Париже, в ее распоряжении были экипаж, роскошно обставленная квартира, ложа в опере, сонм молодых бездельников, модисток, портних и парфюмеров. Попав внезапно, словно в ссылку, на эту смрадную, дымную фабрику, где она никого не видела, кроме рабочих да начальников мастерских, имевших порой хорошие намерения, но плохие манеры, и с утра до вечера только и слыша, что разговоры о шерсти, станках, заработной плате, красках, прейскурантах и поставках, она совсем затосковала и спасалась только тем, что целыми ночами читала романы, после чего спала большую часть дня. В то время все ее нарядные платья, перья, ленты и кружева – эти остатки былой роскоши – желтели в картонках, тщетно ожидая случая вновь появиться на свет божий. Воспитание Жозефина получила самое жалкое. Мать ее была женщиной ограниченной, только и умевшей, что кичиться своими деньгами; у отца была одна забота и одно занятие – наживать деньги; у дочери оказалась одна страсть и одна способность – тратить их. Лишившись возможности заказывать себе новые туалеты и придумывать новые развлечения, она решительно не знала, что ей теперь с собой делать. Ей было всего двадцать лет, она была очень хороша собой, но красота эта более тешила глаза, нежели душу. И вот, совершенно растерявшись, не находя никакого применения своей молодости, красоте, нарядам, она дала волю своей фантазии, столь же резвой и легкомысленной, как и она сама, и с головой погрузилась в воображаемый мир, навеянный чтением романов, в котором выступала героиней удивительных любовных историй и неизменной победительницей мужских сердец. Вынужденная, однако, то и дело возвращаться из этого мира в мир прозаической действительности, она чувствовала себя от этого еще несчастнее. Томная ее меланхолия внушила тетушкам пагубную мысль усилить свой неусыпный надзор, и кто знает, что стало бы с бедной головкой Жозефины, готовой взорваться внутри этого фабричного котла, если бы неожиданные события внезапно не изменили ее судьбу.
Старик Клико тяжко занемог. Во время болезни, умиленный нежными заботами дочери и в то же время раздосадованный алчностью престарелых своих сестер, которую те не в силах были скрыть, он на прощание, решив досадить старым девам, составил за их спиной заговор: он обеспечил их существование, но лишил их наследственных прав. Призвав к своему смертному одру графа де Вильпрё, он просил его взять опеку над дочерью и ее состоянием. И граф понял, что, поскольку брак этой несчастной маленькой буржуазки с его непутевым племянником – дело его рук, он теперь обязан нести какую-то ответственность за ее судьбу. И, закрыв вместе с ней глаза папаше Клико, он объявил себя опекуном Жозефины вплоть до ее совершеннолетия[77]77
…вплоть до ее совершеннолетия… – то есть до двадцати одного года.(Примеч. коммент.).
[Закрыть], ждать которого оставалось уже недолго. Он позаботился, чтобы все пункты завещания были выполнены в соответствии с волей покойного: был собран семейный совет, на котором тетушки от управления фабрикой были отстранены, а ведение дел поручили честному и знающему свое дело управляющему. Затем граф забрал маркизу Дефрене в свой дом и окружил подлинно отеческой заботой, первым проявлением которой было уведомление маркиза Дефрене, что условия фактического его развода остаются в силе и что граф и впредь в случае необходимости сумеет защитить от него интересы его супруги.
Это достойное похвалы поведение графа вызвало бурю негодования среди его родственников – той ветви семьи, к которой принадлежал маркиз Дефрене. Эта часть семьи, ультрароялистская, разоренная революцией, завистливая, всячески честила графа, называя его грабителем, скупердяем и якобинцем.
Избавленная наконец от докучливых своих мучительниц, Жозефина свободно вздохнула. Ровное, дружеское обхождение дяди, нежная дружба Изольды, неизменная их благожелательность, их спокойные манеры и привычки – вначале все это казалось ей каким-то раем после ада. Но этой горячей головке нужна была хоть какая-то смена впечатлений – все равно, игра ли страстей или светские забавы, а этого размеренно текущая жизнь графского дома ей предоставить не могла. Изольда была слишком серьезна, чтобы стать настоящей подругой романтической Жозефине, и та, уже приучившись в отцовском доме тайно убегать мыслью от того, что ее окружает, вернулась к прежним привычкам и, искусно притворяясь, будто живет той же жизнью, что и другие, возвратилась в свой прежний мир сентиментальных грез, никогда никому не поверяя их.







