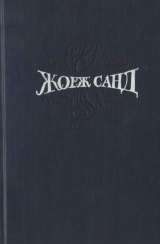
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 5. Странствующий подмастерье. Маркиз де Вильмер"
Автор книги: Жорж Санд
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 48 страниц)
– Не такой это простой вопрос, – отвечал Пьер, которого рассказ друга поверг в изрядное волнение. – Предположим, что женщина этого круга серьезно полюбила простолюдина… Разве такая женщина не благородна, не мужественна? Сколько придется ей преодолеть преград! И разве не вынуждена она в подобных обстоятельствах сделать сама, так сказать, первый шаг? Ибо какой же простолюдин посмеет первым сказать ей о своем чувстве, не испытывая того же недоверия, которое испытываешь ты? Так что, видишь ли, если бы в самом деле она тебя полюбила, я не мог бы осуждать ее. Но не знаю почему, мне не очень верится, что тут настоящая любовь. Эта маркиза – дочь буржуа и, однако, не вышла за кого-нибудь из равных себе, а позволила выдать себя за шалопая только потому, что у того титул. Она надеялась этим браком еще больше отдалиться от народа, из которого вышла, и только унизила себя…
– Но ведь ее поступок можно объяснить тем, что она тогда была еще совсем девочкой, не понимала, что делает? – сказал Амори. – Может быть, это родители плохо ей посоветовали?.. И кто знает, теперь, возможно, она задумалась над этим, раскаялась в своем заблуждении и, получив столь жестокий урок от судьбы, обрела чувства более благородные?
– Что ж, возможно, – отвечал Пьер. – Я готов согласиться со всем, что может оправдать такую несчастную женщину, и рад поверить в это. Но не все ли нам равно, искренно ли это чувство или это кокетство? Разве смеешь ты даже подумать о том, чтобы ответить на ее чувство? О друг мой, поверь – любовь к женщине, не равной тебе, – это любовь безнадежная! И если подобное чувство вдруг овладеет тобой, ты сломаешь свою жизнь, загубишь свою душу. Берегись же опасных этих мечтаний, не поддавайся обману воображения. Ты не знаешь, какую муку испытывает тот, кто хоть раз позволил промелькнуть в чистом зеркале своего разума обманчивым призракам, которым нет и не может быть места в несчастной нашей, обездоленной жизни.
– Ты говоришь об этом так, словно и тебя, столь благоразумного и сильного духом, когда-нибудь манили подобные призраки, – сказал Амори, пораженный скорбной нотой, прозвучавшей в последних словах друга. – Тебе уже приходилось встречать примеры подобной любви?
– Да, я знаю такой пример, – с горечью ответил ему Пьер. – Быть может, когда-нибудь я расскажу тебе об этом, пока же мне это трудно. Еще свежа рана в сердце того честного человека, которому нанесен был жестокий удар. Он не заслуживал его, конечно; но в ране этой – его спасение, и он благодарен за нее богу.
Амори смутно почувствовал, что Пьер говорит о самом себе, и не посмел его более расспрашивать. Однако, помолчав немного, он все же не удержался и спросил, не маркизу ли он имеет в виду.
– Нет, мой друг, – отвечал Пьер, – и маркиза, я полагаю, лучше той, о которой ты невольно заставил меня вспомнить. Но какова бы ни была она, Амори, разве может эта маркиза, живущая в разводе с мужем, легкомысленная, не способная владеть своими чувствами, – разве может она быть столь прекрасной, столь чистой перед господом, как благородная Савиньена, такая мужественная, безропотная, стойкая, столь свято блюдущая свою честь, столь преданная мать? Да, конечно, шелковое платье, маленькая ножка, нежные ручки, волосы, убранные как у греческих богинь, – все это, признаться, пленительно, тем более для нашего брата, которому прекрасные эти дамы предстают как бы стоящими на возвышении, подобно тем богато убранным статуям святой девы, какие мы видим в наших церквах. А их ласковые речи, их снисходительно-добрый вид, их ум, более тонкий и развитой, чем у нас, – ведь это тоже невольно ослепляет, и нам начинает казаться, будто женщины эти из другого теста, чем матери наши или сестры – эти слабее нас, эти требуют нашей защиты, а те – перед теми мы сами чувствуем себя детьми. И все же поверь, Амори, наши женщины добрее, они более достойны уважения, чем все эти важные дамы, которые хвалят тебя, но в душе презирают, которые протягивают тебе руку, но при этом попирают ногами. Они живут среди золота, они одеты в шелка. И мужчины им нужны такие же разряженные и надушенные, как и они сами, иначе они их и за мужчин-то не считают. А мы, в грубой нашей одежде, с обветренными руками, с всклокоченными волосами, мы для этих женщин – только машины, вьючные животные, домашний скот. И та из них, кто хоть на мгновение могла бы позабыть об этом, минутой спустя уже устыдилась бы своего избранника и покраснела бы от стыда за себя…
Пьер говорил это со все большей горечью, и невольно голос его зазвучал громче. Вдруг он замолк – ему почудилось, будто сзади, в кустах, кто-то шевелится. Коринфец тоже обратил внимание на странное шуршание и задрожал от ужаса при мысли, что маркиза или кто-нибудь из служанок замка слышали его признания. Пьер подумал о другом, но тут же отогнал от себя мелькнувшее у него подозрение и не высказал его. Он удержал Коринфца, который готов был уже броситься в кусты вслед за этой неизвестной любопытной ланью, и посмеялся над его безрассудством. Однако подозрения их усилились, когда, пройдя несколько шагов, они заметили вдруг какую-то легкую, стройную фигурку, которая тенью скользнула в крытую аллею и словно растворилась в темноте.
Друзья поспешили к лужайке, чтобы посмотреть, кто из обитателей замка опередил их. Маркиза только что появилась в сопровождении своей горничной Жюли, молодой, смазливой и довольно кокетливой девицы, о которой дядюшка Лакрет насмешливо говорил: «Со скотного двора да в барские покои». Графа под дубом не было, его внучки – тоже. И, однако, вполне возможно, что именно она была в кустах в ту минуту, когда Пьер, не называя ее имени, выносил ей столь жестокий приговор. Он знал, что Изольда занимается ботаникой, и не раз видел ее в чаще парка, где она собирала мхи и лишайники для своей коллекции. Впрочем, это могла быть и маркиза, прокравшаяся сюда, чтобы подслушать их разговор. Каждый из них втайне был весьма сконфужен. И вдруг Коринфец резким движением выпустил руку Пьера и, то ли надеясь раскрыть эту тайну, то ли увлекаемый непреодолимым порывом, бросился к Жозефине и пригласил ее танцевать. У Пьера невольно сжалось сердце, когда он своими глазами увидел, как властно тянет их друг к другу. Он стал в стороне, чтобы наблюдать за ними, и еще раз убедился, как велика опасность, угрожающая Коринфцу, его покою и разуму. Впрочем, и маркиза вызывала у него не меньшее сострадание. Она была упоена – и в то же время растеряна. Танцуя с Амори, она никого, кроме него, не видела, но стоило ему отойти от нее, как она начинала бросать вокруг себя испуганные и смущенные взгляды. «Должно быть, она действительно очень любит его, – говорил себе Пьер, – если приходит сюда почти одна и танцует с этими крестьянами, которые для нее, конечно, не более чем „мужичье“». Впрочем, насчет этого Пьер ошибался: у «мужичья» были глаза, и глаза эти восхищенно смотрели на беленькую, свеженькую Жозефину Клико, любуясь легкими, изящными ее движениями. И своими наблюдениями танцоры делились друг с другом. Коринфец слышал эти простодушные восторги, и Жозефина прекрасно видела, что слушает он их отнюдь не хладнокровно. Так что она была полна желанием пленить всех своих кавалеров, дабы еще больше пленить того, кого она предпочитала всем.
ГЛАВА XXIНапрасны были все попытки Пьера увести Коринфца с лужайки.
– Позволь мне еще немного побезумствовать, – отвечал юноша на все его уговоры, – не бойся, я не совсем еще потерял голову. И потом, это в последний раз; в последний раз хожу я вот так, по краю пропасти. Ты видишь сам: она здесь совсем одна, среди всех этих крестьян, а ведь среди них есть и пьяные. Эта малютка Жюли для нее не защита. И что, если она в самом деле ради меня пришла сюда, в эту грубую толпу, разве не обязан я охранять и защищать ее? Что ни говори. Пьер, женщина остается женщиной, ей всегда необходима защита мужчины, кто бы он ни был.
И Чертежник вынужден был прекратить свои уговоры. Ему становилось все грустнее при виде этого столь чреватого опасностью, но такого пьянящего счастья, зрелище которого невольно будило в его сердце жившую в нем мучительную, от самого себя скрываемую боль. И он подумал, что не вправе осуждать слабость друга, когда и сам в тайных мыслях своих еще так недавно готов был поддаться такому же точно недугу – недугу, от которого и сегодня еще, если смотреть правде в глаза, он не может считать себя излеченным окончательно. И, охваченный странной тревогой, он пошел прочь от лужайки, все более и более углубляясь в парк.
Некоторое время он шел куда глаза глядят, как вдруг, повернув в одну из аллей, заметил впереди какую-то пару, идущую на некотором расстоянии от него. Он сразу узнал темное платье мадемуазель де Вильпрё и ее какой-то особенный голос, гармонировавший со всем ее внешним обликом – голос красивый, чистый, но без модуляций и слишком уж ровный. Но кто же был человек, на руку которого она опиралась? Он был в черном плаще, из тех, которые назывались в те времена кирогой[88]88
Упоминаемый плащ назывался так по имени Антонио Кироги (1784–1841), испанского генерала, одного из руководителей революции 1820–1823 гг.(Примеч. коммент.).
[Закрыть], и широкополой шляпе а-ля Морильо[89]89
Морильо Пабло (1777–1837) – испанский генерал, участник революции 1820–1823 гг.(Примеч. коммент.).
[Закрыть]. И этот костюм и уверенная походка не могли принадлежать графу. Но это не мог быть и его внук: Пьер только что встретил его – в охотничьей куртке, фуражке и с ружьем юный Рауль отправился охотиться на кроликов. Может быть, это какой-нибудь родственник, недавно прибывший в замок? Пьер продолжал следовать за ними на некотором расстоянии. В аллеях было темно, и он плохо видел их, но, когда они вышли на полянку, обратил внимание на оживленные жесты незнакомца. Тот горячо что-то доказывал; время от времени до Пьера доносился его голос, почему-то вдруг показавшийся ему знакомым.
Заинтригованный и обеспокоенный, Пьер не смог побороть любопытства и ускорил шаг, чтобы услышать, о чем они говорят. Идя вслед за ними по тенистой аллее, где было так темно, что он их не видел, он вдруг услышал, что голос незнакомца приближается, и понял, что они повернули обратно. Не считая нужным прятаться от них, Пьер продолжал идти к ним навстречу, мучительно вспоминая, где и когда доводилось ему уже слышать этот голос, и вдруг вспомнил: то были голос, походка и отрывистая речь господина Лефора, вербовщика патриотов.
Пара поравнялась с Пьером в ту самую минуту, когда Ашиль говорил:
– Само собой разумеется, я не теряю надежды и убежден, что господин граф… – Тут он увидел Пьера Гюгенена и замолчал.
Мадемуазель де Вильпрё остановилась и, вся подавшись вперед и немного вытянув шею, как это обычно делают, когда пытаются что-то разглядеть в темноте, сказала:
– А вот вам как раз тот самый человек, с которым вы хотели увидеться. Оставляю вас вдвоем.
Она высвободила свою руку и, кивнув в ответ на молчаливый поклон Пьера, сделала шаг, чтобы уйти.
– Как ни счастлив я видеть мастера Пьера, – сказал коммивояжер, собираясь следовать за ней, – я все же не могу допустить, чтобы вы возвращались в замок одна.
– Вы забываете, что я деревенская жительница, – отвечала Изольда, – и привыкла обходиться без провожатых. Пойду к дедушке! Должно быть, он уже отдохнул после обеда. До свидания.
И, словно намеренно избегая Пьера, она стремительно повернула в противоположную сторону и побежала прочь, но затем сдержала шаг и дальше пошла уже своей обычной легкой, но спокойной и ровной походкой.
Пьер, до крайности взволнованный этой неожиданной встречей, стоял, прислушиваясь к легкому хрусту песка под ее ногами, и до его сознания не сразу дошли учтивые фразы, с которых обходительный Ашиль Лефор начал свой разговор с ним. Затем он услышал их и понял, что тот говорит с ним в высшей степени любезно, и в душе упрекнул себя, что не может ответить ему тем же. Но он ничего не мог поделать с собой: этот человек, снова выросший перед ним как из-под земли, да еще в разгар своей оживленной беседы наедине с Изольдой, был ему более неприятен, чем когда-либо.
– Ну как, любезнейший, – говорил ему между тем Ашиль, – надеюсь, вы еще не забыли нашу веселую встречу в «Колыбели мудрости»? Достойнейший человек этот самый Швейцарец – умный, мужественный. Вот уж кто истинный патриот! А как здоровье слесаря, этого старого якобинца, который привел в такое негодование вашего бывшего ученика – капитана? Ну, а как живет и здравствует ваш старейшина? Вот уж к кому я отношусь с истинно сыновним почтением. И вообще расскажите-ка мне о всех своих друзьях. Я не спрашиваю о Коринфце – мне столько давеча наговорили о нем в замке, что я не удивлюсь, если в самом скором времени он сделает блестящую карьеру. Все семейство Вильпрё от него просто без ума. Мне показывали его работу, и я в восторге от нее, хотя ничего неожиданного для меня в этом не было. Еще только увидев его, я уже понял, что это большой художник, человек гениальный…
– Вы так усердствуете в своих похвалах, – сказал Пьер, – что можно подумать, что смеетесь надо мной, хотя какой, собственно, вам в этом толк? Бросьте-ка лучше все эти комплименты и скажите попросту, чем я могу быть полезен лично вам здесь, в этих краях. Вряд ли вы прервали свою прогулку только для того, чтобы болтать со мной о всяких пустяках. А что до политики, вы же знаете, я ничего в этом не смыслю.
– Вы, я вижу, мастер пошутить, дорогой мой Пьер, и будь я несмышленым ребенком, вы бы, пожалуй, поставили меня в тупик. Но я привык читать в человеческих душах; ведь я в своем роде духовник, и, разрешите сказать вам, мне случалось исповедовать людей и более недоверчивых, чем вы. Так вы утверждаете, будто ничего не смыслите в политике? Разумеется, если судить о нас по тем нелепым разглагольствованиям, которые мы слышали с вами не так давно за ужином у Швейцарца, вы должны относиться к нам с презрением. И, однако, мне хочется надеяться, что вы все же видите разницу между мной и всеми остальными.
– Эти «все остальные» – ваши друзья, ваши товарищи, я сказал бы – «сообщники», будь я роялистом. Как же можете вы так отзываться о них, да еще в разговоре со мной, человеком, которого вы совершенно не знаете?
– Ошибаетесь, я превосходно вас знаю. Прежде чем познакомиться с вами, я разузнал все о вас, о вашем характере, ваших взглядах. Я знаю, и во всех подробностях, какое положение вы занимали в Блуа, среди ваших собратьев гаво. Мне известно, что, выступая на ваших собраниях, вы выказали себя превосходным оратором, философом, даже политиком. Я мог бы пересказать вам отдельные части той речи, которую вы произнесли, когда пытались отговорить своих товарищей от проведения состязания. Так вот, мастер Пьер, на этом собрании с вами случилось именно то, что могло бы случиться и со мной, будь я, как вы полагаете, причастен к какому-нибудь политическому Союзу долга. Вас не поддержали, вы оказались в одиночестве; несмотря на ваш здравый смысл и лучшие намерения, вы остались один среди людей, разумеется, достойных и вашего уважения и дружбы, но полных предрассудков, заблуждений и пагубных страстей. Вот что могу я ответить вам на то, что вы сказали мне по поводу моих так называемых сообщников.
– Послушайте, сударь, – сказал Пьер, немного помолчав. – Возможно, что то, что вы сказали мне, и правда. Но если вы хотите, чтобы я разговаривал с вами, будьте же и вы со мной откровенны. Я не настолько прост, чтобы поверить, будто вы искали со мной встречи из чистой симпатии ко мне. Вашими комплиментами вы мне голову не вскружите. Я не прошу, чтобы вы открыли мне имена ваших сообщников, ибо полагаю, вы, как и мы в наших товариществах, связаны данным обетом. Я готов поверить, что люди, с которыми вы свели меня тогда, чужды какому-либо заговору. Но я хочу, чтобы вы прямо сказали мне, что делаете вы – именно вы. Потому что одно из двух – либо вы принимаете меня за простофилю, которого можно вести за собой с завязанными глазами (и в этом случае, должен предупредить вас, вы ошибаетесь), либо верите, что я не способен на презренное ремесло доносчика, а если так – перестаньте говорить со мной загадками. У меня нет времени разгадывать их.
– Ладно, дорогой мой, спрашивайте, я отвечу откровенно на все ваши вопросы. А вот я не считаю даже нужным предупреждать вас, чтобы вы – по легкомыслию или забывчивости, которые могут стоить мне свободы, а то и жизни, – не проболтались кому-нибудь о нашем разговоре. Я заранее уверен в вас, ибо знаю, что Другого такого серьезного и честного человека, может быть, и на свете нет. К тому же я рискую здесь лишь собственной головой, а в этих случаях я не имею привычки пренебрегать долгом ради осторожности. Так что же угодно вам знать?
– Я хочу знать истинные ваши убеждения, сударь, ваши принципы и политические взгляды. Я не прошу вас открывать мне, какими средствами собираетесь вы достигнуть своей цели; этого, я знаю, вы мне сказать не можете. Но я хочу знать вашу конечную цель. Потому что иначе вам никогда не сдвинуть меня с места, как не сдвинуть с места гору.
– Ну, вера, как известно, горами движет, достойный мой друг. Вот почему я уверен, что мне все же удастся сдвинуть вас, ибо вера у нас с вами одна: я республиканец.
– А что вы разумеете под республикой?
– Странный вопрос! То же, что разумеете вы.
– А что, по-вашему, разумею под этим я? Вам это известно?
– Полагаю, что да, к тому же, очевидно, вы это мне скажете.
– Ну нет! Сначала я хочу услышать от вас, о какой республике идет речь, – ведь вы-то, без сомнения, это знаете, иначе не начинали бы действовать. Ну, а я с утра до поздней ночи пилю да обстругиваю доски, так что мне, может, и недосуг было подумать о путях переустройства общества.
– Позвольте вам заметить, любезный друг, что вы задаете довольно коварные вопросы. Хорошо, если наши понятия республики совпадают. А если нет? Тогда ничто не помешает вам воспрепятствовать осуществлению моих идей, в то время как я, не зная ваших, буду лишен этой возможности.
– Совершенно верно, потому что я-то не знаю, как их осуществлять. Ведь если я скажу вам, какой представляю себе республику, а вы собрались воспользоваться мной для собственных своих целей, вы можете сказать, что думаете точно так же.
– На это я отвечу вам вашими же словами: или вы доверяете мне, или…
– А почему, собственно, должен я вам доверять? Ведь не я же вас искал, а вы меня. Я и понятия о вас не имел, когда вы заговорили со мной на берегу Луары. Вы, может быть, воображаете, что я размышлял о формах республики, когда вы давеча подошли ко мне в этой аллее? Разве я требую от вас, чтобы вы приобщили меня к своим тайнам? Если я нужен вам – говорите, а не то прекратим разговор.
– Поистине, у вас беспощадная логика, я вижу, что имею дело с достойным противником. Что же, извольте, отвечу на ваш вопрос, иначе спор наш становится просто смешным, и если я вам не уступлю, нам придется говорить обоим одновременно, а таким способом не договориться. Итак, мы произнесли слово «республика», и тут же вынуждены остановиться, ибо какая именно республика? Республика Платона? Или республика Иисуса Христа? Древнеримская ли республика или республика древней Спарты? Или же Республика тринадцати кантонов? А может быть, республика Соединенных Штатов или, наконец, республика Французской революции, в которой можно было бы насчитать от пятнадцати до двадцати различных форм, одна за другой испробованных, изжитых, а затем отброшенных?
Здесь Ашиль Лефор остановился и перевел дух. Милейший юноша находился в некотором затруднении. Ему нужно было дать определение республики, и он надеялся избежать этого, ошеломив собеседника потоком своей эрудиции. Однако Пьер слушал его с большим вниманием, и было очевидно, что все, что говорит Ашиль, ему совершенно понятно.
– Разумеется, республика, которую вы имеете в виду, не может походить ни на одну из тех, которые вы только что упомянули, – сказал он, – вы достаточно сведущий человек и не можете не понимать, что республика Платона, так же, как и римская республика, и так же, как республика Спарты, немыслима без илотов, что Республика тринадцати кантонов[90]90
Швейцария, представлявшая собою с начала XVI в. до 1798 г. конфедерацию тринадцати кантонов.(Примеч. коммент.).
[Закрыть] может существовать только в горах, что республика Соединенных Штатов зиждется на рабстве негров, а все разновидности республики времен нашей революции невозможны без тюрем и палачей. Следовательно, остается только одна – республика Иисуса Христа, и мне хотелось бы знать, как вы к ней относитесь.
– Она могла бы иметь более всего сторонников, если бы люди правильно понимали Евангелие, – ответил Лефор, – но ведь и она немыслима без священников. Так что в каждой из этих республик есть нечто неприемлемое для нас, и нам необходимо найти новые формы.
– Ну, вот мы и дошли до сути дела, – произнес Пьер, усаживаясь на склоне оврага и скрещивая руки на груди. «Теперь-то я узнаю, кто ты такой – мудрец или дурак», – мысленно прибавил он.
Ашиль Лефор не был ни тем, ни другим. Это был молодой человек своей эпохи, один из тех юношей – предприимчивых, отважных, самоотверженных, но невежественных и безрассудных, – которых в великом множестве извергала тогда из своих недр распростертая в родовых муках Франция. Обуреваемая одной лишь патриотической идеей – изгнать Бурбонов из Франции и добиться более либеральных законов, эта мужественная молодежь жила сегодняшним днем, нимало не заботясь о том, чтобы подкрепить свои действия какой-либо теорией. Ничего не видя кругом, кроме этой непосредственной цели, которую в ту пору они прикрывали словом идеал (не слишком понимая, говоря по правде, что это такое), эти молодые люди волей-неволей подчинялись закону прогресса, властно увлекавшему за собой каждого из них вместе с собственным его небогатым скарбом, состоявшим из начатков школьной философии и личных политических симпатий: Вольтер, Адам Смит, Бентам[91]91
Бентам Иеремия (1748–1832) – английский юрист и политический мыслитель, сторонник утилитаризма.(Примеч. коммент.).
[Закрыть], учредительное собрание, конвент, Хартия; Бриссо[92]92
Бриссо Жак-Пьер (1754–1793) – деятель французской революции, один из руководителей жирондистов.(Примеч. коммент.).
[Закрыть], Лафайет, герцог Орлеанский и tutti quanti[93]93
Все прочие (ит.).
[Закрыть]. Чтобы пополнить свои тайные общества, эти юноши вынуждены были вовлекать в них недовольных из лагеря приверженцев императора, сих воинов с героическим сердцем и недалеким умом, заставляя их играть в некотором роде роль Бертрана[94]94
Бертран – обезьяна из басни Лафонтена «Обезьяна и Кот», заставляющая кота Ратона вытаскивать для нее из огня жареные каштаны. Жорж Санд, по-видимому, путает Бертрана с Ратоном.(Примеч. коммент.).
[Закрыть] из басни о каштанах, за что те ныне и мстят им, обращая пушки и ружья своих карательных отрядов против мятежной республики. В своих взаимоотношениях друг с другом все эти заговорщики различных толков и оттенков вынуждены были прибегать к разного рода хитростям, лживым обещаниям и всяческим уловкам, несколько смахивающим на практику иезуитов. Все это делалось из лучших побуждений; и если мы и позволяем себе ныне говорить обо всем этом в несколько шутливом тоне, то не следует забывать об исконной насмешливости французского ума[95]95
Каждая историческая эпоха двулика; один ее лик, довольно неказистый, довольно жалкий или горестный, повернут к современности, другой, величественный, серьезный, полный значения, обращен к вечности. Трудно лучше развить эту мысль применительно к событиям, о которых идет здесь речь, чем это сделал господин Жан Рено[161]161
Рено Жан (1806–1863) – французский философ и политический деятель. Цитируемая статья Рено «Карбонаризм» была помещена в третьем томе издаваемой им совместно с П. Леру «Новой энциклопедии» (1837).(Примеч. коммент.).
[Закрыть], говоря о карбонариях. Если бы кто-нибудь вздумал обвинить нас в том, будто мы с недостаточным почтением изображаем их движение, которое пережило и трагические дни и имеет своих мучеников, мы ответили бы на это следующими его строками, как нельзя лучше выражающими наше мнение о них и наше сочувствие им: «Увы! Заговоры эти стоили нам крови, и какой чистой крови! Перестали биться великодушные сердца обрекших себя на преждевременную смерть, гордые головы, принесенные в жертву, скорбно легли под нож палача. Но не напрасны были эти жертвы Потомство не раз помянет их, мир не забудет их имена. Не напрасно, нет, пролили вы вашу кровь, о несчастные патриоты! Она взывает ко всем друзьям человечества, рождая в сердцах их желание так же гордо отдать свою жизнь за дело, за которое отдали ее вы. Она – словно вызов, брошенный в лицо монархам в ту пору, когда те были на верху могущества, а люди, считавшиеся представителями Франции, раболепствовали перед ними. Она несмываемыми буквами отмечает в анналах нашей истории начало революции, вновь зародившейся в недрах народных с той минуты, как скипетр вновь очутился в руках королей. Кровь ваша, эта дань нашего поколения, вливается в потоки священной крови наших отцов, которые во времена первой республики омывали французскую землю, опоясывая ее границей, через которую никто не властен был перешагнуть; и если есть в карбонаризме что-либо достойное славы, то это вы, вы, о Бори, Рауль, Губен, Помье, Валле[162]162
Валле – капитан императорской гвардии, казнен в 1822 г. за попытку организации карбонарского заговора в Тулоне.(Примеч. коммент.).
[Закрыть], Карон, Бертон, Каффе[163]163
Каффе, Соже, Жаглен – участники заговора генерала Бертона в Сомюре, приговоренные к смертной казни. Соже и Жаглен были гильотинированы, Каффе перед казнью покончил с собой.(Примеч. коммент.).
[Закрыть], Соже, Жаклен, – одиночки, явившиеся на рассвете дня, чтобы пасть под секирой королей». (Примеч. автора.).
[Закрыть].
Припертый к стене этим простолюдином, требовавшим от него, чтобы он приоткрыл пред ним завесу, скрывающую завтрашний день, загнанный в тупик его несгибаемой логикой, чистотой нравственных понятий и страстной жаждой истины, Ашиль Лефор все же с грехом пополам выпутался из своего трудного положения. И хотя Пьер Гюгенен обладал беспощадным здравым смыслом и не так легко было его провести, Ашилю удалось всё же сделать это, не слишком уронив свое достоинство. Искусно притворясь, будто он вслух размышляет над поставленными перед ним вопросами (и, поскольку случай стоил того, Ашиль разыграл все это всерьез), он незаметно заставил своего собеседника выложить все, что было у того на сердце – его симпатии, антипатии, мечты, – и открыть перед ним весь тот заветный мир вопросов, на которые Пьер тщетно искал ответа; то были великие вопросы бытия, которые одни только и достойны подлинно жаждущего сердца и ищущего истины ума. Молнии, неожиданно вырвавшиеся из глубины этой души, озарили своим светом и душу нашего карбонария. Этот мальчишка, полный недостатков – самонадеянный, высокомерный, дурно воспитанный, – обладал при всем этом редкостной чистотой души. Восторженный и легко возбудимый ум его сразу же воспламенился, соприкоснувшись с этим мастеровым, который в течение часа успел поставить перед ним больше вопросов, чем ему, Ашилю, приходило в голову за всю его жизнь. Он понял, что перед ним человек незаурядный, и снисходительное отношение вербовщика к будущему новообращенному сменилось истинно дружеским расположением и безграничным доверием.
А Пьер со своей стороны тоже понял, что, хотя собеседник его отнюдь не тот мудрец, который может разрешить его сомнения, это, во всяком случае, натура добрая и самоотверженная. Он увидел и дурные его черты, не постеснялся тут же сказать ему о них, и Ашиль не посмел оскорбиться. Он не мог не чувствовать превосходства этого рабочего, хотя сознаться в этом даже самому себе ему не позволяло самолюбие. Правда, он заявил Пьеру, что считает себя отныне его учеником, и в глубине души понимал, что в некоторых отношениях это действительно так, но все еще изо всех сил старался поразить его, всячески выставляя напоказ свою моральную силу и гражданскую доблесть.
Беседа их затянулась далеко за полночь. Ушли из парка скрипачи, в деревне все затихло, в замке постепенно погасли все огни. Пробило уже два часа, когда они вспомнили, что пора разойтись. Договорились назавтра встретиться снова. Ашиль направился к замку, и Пьер проводил его до самой двери башни, где гостю была приготовлена комната. Только теперь решился он спросить своего собеседника, в качестве кого он бывает у Вильпрё и вообще каковы его отношения с этим семейством.
– Я давненько уже знаком с ними, – отвечал Ашиль с тем оттенком фамильярности, которая была ему весьма свойственна, – веду дела со стариком.
– И знакомство это началось с того, что он покупал у вас вина? Вы что, в самом деле их продаете?
– Разумеется, как мог бы я иначе повсюду бывать и путешествовать по всей Франции, не подвергаясь преследованиям полиции? Да, я продаю вина, и притом разных сортов. С помощью хереса и мальвазии я проникаю в замки, водка и ром открывают мне двери кофеен и даже деревенских кабачков. Знаете, как я познакомился со Швейцарцем?
– Об этом я вас не спрашиваю. И давно вы бываете здесь, в замке?
– Уж лет пять-шесть. Я поставляю им вина.
– А в Париже? Там вы тоже поддерживаете отношения с семейством де Вильпрё?
– Да, конечно. А что, вам это кажется странным?
– Нет, почему же, упаси бог, – ответил Пьер с легким оттенком иронии. – Это хороший предлог. Зачем вам придумывать новый?
– Что значит «придумывать»? Что вы хотите этим сказать? Уж не вообразили ли вы, будто я связан с хозяином замка какими-нибудь политическими делами? Это было бы просто неправдоподобно. Впрочем, вряд ли вы стали бы расспрашивать меня о вещах, касающихся не только меня!
– Нет, это мне и в голову не приходило. Но вы так запросто ведете себя с барышней из замка, что я думал…
– Ну-ка, ну-ка, что ж вы замолчали? Что вы думали? Неглупа, совсем неглупа эта самая Изольда, как на ваш взгляд? Она мне сказала, что беседовала с вами, и очень вас расхваливала… Впрочем, как всегда, в двух-трех словах, коротко, но ясно. Странная девица! Как, по-вашему, хорошенькая она?
Такой способ говорить и судить о той, о ком Пьер даже думать не мог без трепета, привел его в такое смятение, что несколько минут он не в состоянии был произнести ни слова. Но так как Ашиль почему-то настаивал на ответе, он в конце концов пробормотал, что не очень разглядывал ее.
– Ну, так поглядите на нее хорошенько, – сказал Ашиль, – а потом я вам о ней кое-что расскажу.
– Лучше расскажите сейчас, чтобы мне не забыть посмотреть на нее, – ответил Пьер, стараясь не обнаружить внезапно овладевшего им острого и томительного любопытства.
В ответ Ашиль взял Пьера под руку с шутливо-таинственным видом, вызвавшим у того мучительное чувство, и повел прочь от башни.
– Так вы ничего о ней не слышали? – шепотом спросил он, когда они отошли на порядочное расстояние.
– Нет, ничего, – отвечал тот, но так как больше всего он боялся, как бы Ашиль не прекратил своей болтовни, тотчас добавил, чтобы заставить его продолжать: – Впрочем, как же, слыхал, будто она влюблена в какого-то молодого человека, за которого ее не хотят выдать…
– Да ну, в самом деле? Первый раз слышу! А что, может быть… Почему бы и нет? Но вот этого-то я как раз и не знал.
– А что же вы собирались рассказать мне?
– Нечто совершенно невероятное. Знаете, кого считают ее отцом?
– Нет.
– Императора Наполеона, ни более ни менее!
– Каким же это образом?
– А очень просто: ее отец, сын старого графа, был женат на молодой даме из свиты императрицы Жозефины, и вот говорят, будто первый ребенок от этого брака родился несколько раньше, чем следовало, а еще говорят, будто, если взглянуть на нее в профиль, можно обнаружить сходство с корсиканским орлом. Вам не кажется?
– Да нет, никогда не замечал этого. Впрочем, она так высокомерна, что можно, пожалуй, поверить, будто и в самом деле в ее жилах течет кровь какого-нибудь деспота.
– Высокомерна? Ведет себя презрительно или же насмешливо?
– Об этом надо спросить вас – ведь вы-то хорошо с ней знакомы, а я ее совсем не знаю. В моем положении…
– Но ее, что, считают здесь надменной?
– Пожалуй, да.
– А вы сами? Какой она кажется вам?
– Странной.
– Да, да, престранная особа, не правда ли? Серьезная – и в то же время какая-то взбалмошная; умная – и вместе с тем что-то есть в ней загадочное; холодная, гордячка… Словом, вылитая принцесса.
– О, вы, как я вижу, долго изучали ее!..
– Я? И не думал! Мне, знаете ли, милейший, некогда долго терять время возле одной женщины. Я веду такой образ жизни, что не могу уделять внимание еще и тем, которые не стараются привлечь меня. Я за дочку Наполеона и гроша ломаного не дам, если вместо того, чтобы привлекать меня женскими прелестями, она будет пытаться поражать меня своим умом. Зато есть здесь одна красотка… Вот она, дай я себе только волю, пожалуй, могла бы вскружить мне голову. Я имею в виду прелестнейшую маркизу. Но, черт побери, ведь я все равно вынужден был бы через неделю бросить ее. Так уж лучше оставить ее в покое, не правда ли? Вы такой добродетельный…
– А вы… Вы пошляк! – решительно прервал его Пьер с таким искренним негодованием, что коммивояжер расхохотался.
Подобные легкомысленные разговоры претили этому рабочему, его страстной, серьезной натуре. Окончательно распрощавшись с новым приятелем, он медленно побрел через парк по направлению к деревне.
Однако все калитки оказались запертыми. Пьеру не представило бы никакого труда перелезть через ограду, но какая-то странная вялость внезапно овладела им, и ему стало решительно все равно, провести ли ночь в парке или в своей постели. В случае грозы (погода явно хмурилась) он мог укрыться в мастерской, ключ от которой был всегда при нем. Овладевшее им странное томление более располагало к раздумью, чем ко сну. Он углубился в самую чащу парка и медленно побрел вперед. Время от времени он присаживался на мох, чтобы дать отдохнуть ногам, и снова шел дальше, гонимый каким-то странным беспокойством.








