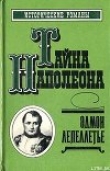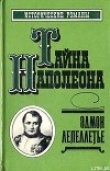Текст книги "Горе мертвого короля"
Автор книги: Жан-Клод Мурлева
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
– А что значит «Лия»?
– Lia diemst: bourtyé…
– Что-что?
– Bourtyé, meuh… – пояснила она, приставив пальцы ко лбу в виде рожек.
– Корова? То есть ты – корова?
– Та. Bor ni bourtyé soek… но не дойная, которая в хлеву… bourtyé ekletiyen… – и она руками изобразила галоп, – takata… takata… – и повторила: – Ekletiyen…
Последнее слово она выговаривала с ударением на втором слоге: eklétiyen.
– Я понял. Ты вольная маленькая телочка.
– Та, телотька… – повторила она, как сумела.
– Не «телотька»… «телочка»… – поправил он.
– Телотька…
– Ладно, пускай «телотька». А ekletiyen – это на твоем языке значит «вольная»?
– Та, ekletiyen…
4
Третье рождение Бриско Йоханссона

В эту же ночь очень далеко от театра военных действий те же звезды сияли над Большой Землей.
Фенрир зашел в сбруйную, развесил по местам уздечку, седло, потник и вернулся к своему коню, привязанному за недоуздок в деннике. Южный Ветер, не привыкший щадить себя, был весь в мыле. Фенрир и сам обливался потом. Два с лишним часа они носились галопом по лесам, то под гору, то в гору, одолевали кручи, спускались в овраги, и только темнота положила конец этой скачке.
Молодой наездник давно уже, в сущности, не нуждался в узде и шпорах. Конь отзывался на негромкий оклик, щелканье языком, перемену дыхания. Он поворачивал, куда надо, менял аллюр, останавливался, срывался с места, повинуясь легкому движению ноги, едва заметному толчку коленом. Южный Ветер угадывал, даже, пожалуй, предугадывал желания хозяина. Они словно составляли единый организм, один был продолжением другого. Страстью обоих была бешеная скачка, оба с одинаковой ненасытностью пожирали пространство.
Фенрир обтер коня пучком свежей соломы, потом заботливо вычистил с головы до ног – бока, холку, круп, белые чулки. Огненная масть лошадки с годами немного потемнела, но сохранила свою удивительную яркость.
– Вот так, мой хороший… – приговаривал Фенрир, оглаживая коня.
Он был теперь восемнадцатилетним юношей, высоким, хорошо сложенным, сильным и ловким. Что-то прямое, нетерпеливое чувствовалось в нем. Он закалился телом и душой. В лице, когда-то круглом и обрамленном кудрями, четко обозначился костяк. Твердый подбородок, немного крупноватый нос. Только в глазах еще оставалось что-то прежнее, какой-то чуть теплящийся отсвет нежности, идущей из детства, которую ничто не смогло угасить.
– А, ты вернулся! – послышался голос у него за спиной.
Волчица улыбалась. Она прекрасно понимала, да и сама разделяла страсть к такой бешеной скачке, когда остановиться невозможно. И не сердилась на Фенрира за то, что он так припозднился.
– Я еще не ужинала, тебя ждала. Оттилия сейчас сделает омлет с грибами, и выпьем немножко белого вина. Идет?
– Сейчас иду, матушка. Я ужасно голодный. Задам только корма Южному Ветру и присоединюсь к вам.
Не прошло и четверти часа, как они уже сидели за столом, одни в просторном пиршественном зале. Жарко пылал камин. Десятки свечей в канделябрах освещали зал. Оттилия подала им омлет и налила вина в хрустальные бокалы.
– Приятного аппетита, сын мой, – сказала Волчица.
– Спасибо, матушка, и вам приятного аппетита.
Теперь он называл ее «матушка». Но до этого много воды утекло. Первые три года у него не поворачивался язык назвать ее ни «Волчица», как Герольф, ни «мадам», ни «матушка» и уж тем более «мама». Он приладился жить с ней под одной крышей, не называя ее вообще никак. Месяцы, годы уклончивости и молчания. Это сводило ее с ума. Когда он в первый раз назвал ее «матушка», ему подумалось, что это можно считать его третьим рождением.
О первом он не знал ничего. Оно было тайной, недосягаемой, как дно океанской впадины. Откуда ему было знать, что в нем участвовали четыре женщины: красавица Унн, которая произвела его на свет и умерла; болтушка Нанна, которая заботилась о нем первые сутки его жизни; колдунья Брит, которая отнесла его, согревая «своим огнем», к четвертой – Сельме, той, кого он называл мамой следующие десять лет. Десять лет, когда он носил другое имя, не Фенрир, и рядом с ним был мальчик, которого звали…
Зато о втором своем рождении он сохранил смутные и мучительные воспоминания: длинный низкий темный тоннель, по которому едет тележка, постепенно нарастающий страх, потом какое-то грубое насилие, крики, разлука с мальчиком, которого звали… И, наконец, ослепительное сверкание снега, бешеная гонка, побои Хрога и дикие выкрики Волчицы.
Его третье и последнее рождение произошло в один из весенних дней четырнадцатого года его жизни.
Погода в это утро мягкая – оттепель. Фенрир завтракает в кухне, расположенной в полуподвале. Он макает в молоко хлеб с вареньем – с тем густым, липким вареньем, которое он так любит. Оно делается из разных лесных ягод, смешанных в определенной пропорции. Оттилия тем временем уже готовит обед. Угрюмая, грузная, она стоя чистит морковь на другом конце стола. Как всегда, молча. Это замкнутая женщина с ничего не выражающим лицом. Похоже, она не испытывает к Фенриру никакой симпатии. Как, впрочем, и антипатии. Это сын ее хозяев, а ее дело – сторона. Однако он предпочитает есть здесь, в кухне, в ее обществе, потому что ей ничего от него не надо. Она от него ничего не ожидает. Он может класть локти на стол, сопеть, рыгать, есть руками, выплевывать рыбьи кости себе в тарелку – ей все равно. Она не обращает на него внимания. Если он чего-нибудь хочет из еды или питья, он просит, не утруждая себя вежливостью, она готовит, подает и возвращается к своим делам. У нее не бывает ни дурного настроения, ни хорошего. Он не знает, где она живет, есть ли у нее семья. Она для него загадка, но загадка эта его не интересует.
По лестнице спускается Волчица и входит в кухню. На ней платье в крупную складку, бледно-желтое, светлее ее волос.
– Будьте любезны, Оттилия, оставьте нас.
Кухарка не выражает ни малейшего удивления. В ту же секунду она кладет нож на кучку очисток, вытирает руки тряпкой, бросает ее на стол и выходит. Волчица садится напротив Фенрира. Лицо у нее помятое, как будто она плохо спала, глаза красные. Плакала, что ли?
– Фенрир. Знаю, не я носила тебя во чреве…
Она начинает с места в карьер, без предисловий, и он понимает, что это итог долгой внутренней борьбы, что она уже на пределе, что она не может не высказаться. Губы у нее дрожат. Она очень бледна, и тем заметнее, несмотря на пудру, розовые рубцы, уродующие левую половину лица – от угла глаза до самой шеи. Левая рука тоже в страшных следах ожога. Обычно Волчица носит перчатки и шелковый шарфик, который все время поправляет, прикрывая свои шрамы, но в это утро шея и руки у нее обнажены. Она идет в открытую.
– Но та, что тебя вырастила, та, кого ты называешь мамой – не отпирайся, я часто слышу, как ты произносишь это слово, когда говоришь во сне, – та женщина тоже не носила тебя во чреве, и ты это знаешь.
Она говорит, стискивая и ломая пальцы. Он никогда еще не видел, чтоб она так нервничала, настолько не владела собой. Он весь подбирается. Это правда, Сельма не его мать. Он это знает с того вечера, как Волчица пришла к нему в комнату и сказала… а он прокусил ей руку. Он защищался, сколько мог, от этой невыносимой правды. Он не принимал ее, отгонял прочь, но она проникала и проникла в его сознание, словно яд, словно сверло. И он признал очевидное: Сельма не его мать.
Но одно дело признать, а променять ее на эту женщину, которая его похитила, – нет уж! Тысячу раз она делала попытки приручить его, подозвать к себе, приласкать, обнять. Он упрямо не давался. Да уж, ему понадобилось все его упрямство, чтоб отвергать предлагаемую ему нежность, когда он так в ней нуждался. Потом была та странная ночь, когда ему почудилось, что отец зовет его, а наутро он увидел Волчицу обезображенной. И изменившейся. Ибо изменилось и ее поведение. В ней появилась какая-то страдальческая глубина, которой прежде не было. Она стала сумрачной и еще более не похожей на других.
Нетронутая половина ее лица – словно память о том времени, когда она была прекрасна и счастлива. Посмотреть с той стороны – от ее прелести захватывает дух, а стоит ей повернуться – всякий содрогнется: Господи, вот ужас!
– Ей повезло, той женщине, что растила тебя до меня, Фенрир, – продолжает она. – Она не растила тебя, не рожала. Она получила тебя готового, даром, и все-таки ты говорил ей «мама». Это ведь, наверное, первое слово, которое ты научился произносить, правда?
От сдерживаемого волнения слышнее странные модуляции в ее голосе. Фенрир сидит потупившись. Бутерброд свой он уже съел. Он чувствует, что сейчас намазывать себе другой было бы неуместно. Он выскребает ложкой несуществующие остатки из своей пустой кружки.
– Между тем, как я… вот посмотри… ради того, чтобы тебя у меня не отняли, я пожертвовала самым драгоценным, что у меня было… моим лицом… моей…
Она хочет сказать «красотой», но голос изменяет ей. Она беззвучно плачет. Он знает, что, если поднимет глаза, увидит, как текут слезы.
– Раньше мужчины оборачивались посмотреть на меня, потому что я была для них живым соблазном; теперь они пялятся на меня, как на диковинную зверушку, как на уродца. Я чувствую их взгляды, изучающие мои увечья – поврежденный глаз, перепаханную щеку, изуродованную шею, руку, ногу, и они гадают, что же такое со мной случилось… Герольф уверяет, что это не имеет для него значения, что он и такую любит меня не меньше, но я-то вижу, что я для него уже не та, что прежде… Чтобы не потерять тебя, я потеряла любовь моего мужа, понимаешь ты это? Скажи, Фенрир… какая женщина выстрадала больше, чем я, ради того, чтобы стать матерью? Через какие еще муки я должна пройти? Чем еще пожертвовать, чтобы заслужить право услышать от тебя «мама»? скажи, Фенрир, ну скажи мне…
Голосу нее срывается. Она берет руку Фенрира в свои, горячие, как огонь. Он не противится. Ложка падает на пол из его разжавшихся пальцев.
– Я… я не могу… – запинаясь, бормочет он, – у меня не получается…
– Я знаю… – говорит она с замиранием сердца, потому что впервые он не вырывается, не отталкивает ее.
– Я знаю, мой мальчик… – повторяет она, – я много об этом думала и понимаю, что ты не можешь… ну тогда… знаешь, если бы ты согласился… мне хотелось бы, чтобы ты называл меня «матушка»… может быть, так ты бы смог?.. хотя бы это, мне было бы достаточно… но слишком долго ждать я не в силах… я терпела, сколько могла, но есть предел терпению… и муке должен быть предел… понимаешь…
Это униженная мольба. Она не просит, она выпрашивает милостыню. Куда девалась прекрасная фурия, которая стоя правила упряжкой, погоняя ее дикими криками и ударами кнута в день похищения?
– Я попробую… – говорит он чуть слышно.
– Спасибо… – шепчет она. – Я не буду тебя торопить… сейчас уйду… доедай свой завтрак… Герольф, наверно, тебя уже ждет.
Она еще раз стискивает его руку, встает и направляется к лестнице. В дверях оборачивается:
– До вечера, сын мой…
Он колеблется, но вот поднимает глаза, смотрит ей в лицо, и с губ его срываются слова, которых она так ждет:
– До вечера, матушка.
Но этот день приберегает для него еще одно, не менее сильное переживание, о чем он и не подозревает, торопливо седлая Южного Ветра. Герольф уже во дворе, а ждать он не любит. Ему всегда не терпится действовать. Он ненавидит политические сборища, где говорят, чтобы ничего не сказать, светские приемы, всякие правила этикета. Больше всего он любит бывать в тренировочном лагере, среди подростков – будущих солдат, и жестоко дрессировать их.
– Шевелись! – кричит он, и слышно, как бьет копытом его вороной жеребец.
И вот они едут вдвоем к полю, где будут проходить состязания. Весеннее солнце пробивается сквозь деревья, небо все в белую крапинку. Герольф едет впереди.
– Смотри, лунь – как низко летит! Кролика увидел, сейчас спикирует!
Фенрир даже головы не поворачивает. Его не интересует то, что привлекло внимание Герольфа. «Посмотри же на меня, не на птиц! – думает он. – Ослепнуть, что ли, боишься, если хоть раз поглядишь мне в глаза? Я хоть существую для тебя или нет?»
В самом деле, все эти три года Герольф его игнорирует. Он тут, рядом, бывает, он что-то говорит, но тут же отворачивается. Как будто между ними игра, вроде как в кошки-мышки, только это не игра, и хочется не смеяться, а плакать. Или заорать: «Да посмотри же на меня, чтоб тебе пусто было! Разве я не стою других мальчишек, которых ты учишь военному делу? Разве я не делаю тебе чести? Я же тебе как сын, разве не так? Мы вместе приезжаем на тренировки и вместе уезжаем. Мы живем под одной крышей, разве не так?»
Что касается того, стоит ли он других, то еще как стоит! В тринадцать лет он скачет верхом быстрее пятнадцатилетних, лучше владеет мечом, он ловок, неутомим и неустрашим. Но Герольф, присутствуя при его подвигах, в упор их не видит. В своей изощренной жестокости он доходит до того, что нарочно отворачивается в самый важный момент. Фенрир может один победить десятерых и, чуть живой от усталости, чувствуя, как все болит от макушки до пяток, не услышать от него ни единого слова; а на обратном пути тот лишь небрежно бросит: «Похоже, завтра пойдет снег…» А когда Волчица спросит: «Ну, как сегодня показал себя наш мальчик?» – он словно не услышит вопроса.
Фенрир ненавидит его и восхищается им. Ненавидит его холодность, самодовольство, жестокость. Восхищается его силой, уверенностью, всей его статью прирожденного вождя. Ему не много надо – всего-то знак одобрения, всего-то кивок, означающий: «Я вижу тебя, сын, ты хорошо справился с задачей». Только и всего. Но Герольф упорно отказывает ему в таком знаке. Хуже того: он не отказывает в одобрении другим, которые ему никто. Он хвалит их, обнимает за плечи. Фенрир часто плачет в подушку от бешенства, от ревности, от унижения. Плачет и колотит кулаками по постели. Такая несправедливость мучит его, доводит до исступления. В следующий раз он удваивает усердие, лезет на рожон. Случается, по-настоящему ранит партнеров.
Сегодня предстоит состязание в ловкости и выносливости, в обиходе называемое «красная тряпка». Это трудное испытание, одно из труднейших. Проводится оно всего раз в год, весной, на широком поле, обрамленном лесом. Это скачка на дистанцию около одного лье. Соперничают двое. Отставший выбывает, победивший пытает счастья в следующем туре. Фенрир еще ни разу не прошел дистанцию до конца. Не дорос. Большинство его соперников на два, на три года старше, однако в прошлом году он обогнал троих прежде, чем выбыл. Под равнодушным, разумеется, взглядом Герольфа.
Первый этап – скачка по прямой вдоль кромки леса с саблей наголо. Никто не поставит вам в вину, если ваш конь толкнет неприятельского в кусты и сшибет его с ног. Имеете право. Имеете право на что угодно, кроме права жаловаться и вести себя «как девчонка» (это самое страшное оскорбление). Дальше надо спуститься в ров с раскисшей грязью на дне. Горе тому, кто там упадет или увязнет: пока он выберется, соперника уже не догнать. Потом резко влево и через поле, взять два барьера, потом, стоя в стременах, пропороть бурдюк с водой, подвешенный к верхушке шеста. Кто недостаточно точно ударит или замешкается, того с ног до головы окатит ледяной водой. Потом надо, не останавливаясь, обезглавить выстроенные в ряд соломенные манекены, причем головы должны слетать начисто и с одного удара.
Уже после первого круга дыхание учащается, начинает сводить ноги, а проскакать надо три таких круга без остановки. Если начать скачку в слишком быстром темпе, соперник обгонит вас под конец, если чересчур медлить – он уйдет вперед, и только вы его и видели.
В завершение третьего круга, на финишной прямой тот, кто вырвался вперед, должен на скаку ухватить лежащую на земле красную тряпку. Ему надо свеситься с коня, чудом удерживаясь за луку седла, за гриву, за что придется, потом снова сесть в седло и гнать вовсю до черты под вопли болельщиков, размахивая над головой своим трофеем и оглушительно улюлюкая, если на это еще хватает дыхания…
Первых соперников Фенрир побеждает без труда. Он старается беречь силы, потому что самое трудное еще впереди. Можно подумать, Южный Ветер понимает его. Он тоже умеряет свою прыть, чтоб не выдохнуться раньше времени. К тому времени, когда солнце достигает зенита, соревнующихся остается только четверо. Остальные выбыли и, сидя на откосе, отдыхают и заключают пари, уплетая хлеб с салом и сыром и запивая все это водой.
– Ставлю на Фенрира! – говорит один.
– А я на Андерса! – отвечает другой. – Он их всех сделает.
– И я на Андерса!
– И я!
– И я!
Почти все признают фаворитом Андерса. Ему семнадцать лет – он на четыре года старше Фенрира. Он высокий, сильный и в случае чего щадить малолетку не станет. Вид у него совсем взрослый, на щеках уже темнеет пушок, его легко представить себе среди настоящих солдат, настоящих мужчин.
Герольф, отлучавшийся во время перерыва, возвращается галопом на своем вороном и объявляет, кто с кем соревнуется. У него, разумеется, свои соображения на этот счет, он уже решил, как распределить финалистов по парам.
– Первый заезд – Андерс против Гренджада, – говорит он, – потом Фенрир против Лейфа. И наконец – победитель против победителя. Тот, кто выиграет этот последний заезд, будет носить звание чемпиона до будущей весны. По коням!
Гренджад оказывается для Андерса более серьезным соперником, чем предполагалось. К финишу они идут бок о бок, и только благодаря силе и росту своего коня Андерс все-таки оттесняет его и первым дотягивается до тряпки. Фенрир – тот на первом же круге отрывается вперед, и ему остается только удерживать это преимущество до конца.
– Хорошо тебе… Ты-то не так уж и вымотался, – бросает ему Андерс, пока они отдыхают перед решающим заездом.
– На что это ты намекаешь? – спрашивает Фенрир. – Что я – любимчик?
– Не намекаю, а правду говорю, – отвечает Андерс, отпивая глоток воды. – Твой отец выбрал тебе противника послабее. Ну, со мной-то все будет по-другому, это я тебе обещаю.
Фенрир сперва прямо-таки теряет дар речи от этого столь же несправедливого, сколь ядовитого выпада.
– Ну, допустим, – говорит он, стараясь сохранять спокойствие. – А кто из нас двоих дольше отдыхает, а? Я только что окончил скачку. Подумай-ка об этом.
Андерс пожимает плечами.
– А что мне отдых, я тебя и так побью!
Фенрир почитает за лучшее смолчать и отойти в сторону, чтоб не дать прорваться бешенству. Его отец скорее бы предоставил льготы кому угодно другому, лишь бы не ему, и его же в лицо обзывают любимчиком! Он подтягивает потуже подпругу и подъезжает к линии старта. Усталости от предыдущих заездов как не бывало, ему не терпится разделаться со всем этим. Все, кто уже выбыл, уселись повыше на откосе, откуда удобно наблюдать за скачкой.
– Ан-дерс! Ан-дерс! – выкрикивают некоторые.
– Фенрир! Фенрир! – скандируют другие (этих гораздо меньше).
Он намного младше своего соперника, и это должно было бы вызывать сочувствие. Но чего нет, того нет, и его это нисколько не удивляет. Его недолюбливают, и он прекрасно знает, почему: он жесткий, замкнутый, а главное – он сын своего отца.
– Я им всем покажу, – шепчет он себе под нос. – Покажем им, а, Южный Ветер?
Конек кивает, словно в знак согласия.
Герольф дает отмашку, и скачка начинается.
Фенрир обычно не набирает скорость сразу, а перегоняет соперника на последнем круге, но на этот раз он избирает другую тактику. С самого старта он возглавляет скачку, чтобы Андерс, боясь отстать, гнался за ним изо всех сил и сбивался с собственного ритма. Он гонит Южного Ветра так, словно они уже у финиша.
– Хей! Хей! – кричит он, пришпоривая коня.
Грязь во рву разлетается из-под копыт метров на пять, головы манекенов отскакивают как мячики, вода хлещет из пробитого бурдюка, не замочив всадника. Так, во весь опор, он описывает два первых круга, но всякий раз, оглядываясь, видит Андерса, скачущего за ним по пятам, – а тот как будто усмехается и дразнит его: «Порезвись, пока дают, я тебя обойду, когда мне вздумается…»
Вот пошли по третьему кругу – Фенрир по-прежнему на три метра впереди. Он чувствует, что Южный Ветер начинает сдавать. Как ни отважен, как ни вынослив арабский конек, силы его почти на исходе, он вытягивает шею, словно воля его опережает тело, дыхание у него учащается. Но Фенрир не дает ему перевести дух.
– Хей! Хей! – орет он.
Он и сам уже больше не может, спина болит, ноги сводит, в висках стучит.
Когда Андерс на финишной прямой выкладывает свой козырь и почти догоняет его – уже поздно. Фенрир успел подхватить красную тряпку и размахивает ею над головой. Кричать он не в силах, он почти теряет сознание, но он выиграл! Теперь он чемпион.
Звучат довольно жидкие аплодисменты. Герольф, едва удостоив его поздравлением, начинает командовать: убрать обезглавленные манекены и вспоротые бурдюки, разобрать барьеры. Потом вдруг все отменяет и отсылает всех восвояси, кроме одного паренька, которому велит подождать в сторонке. Фенрир не понимает, в чем дело.
Скоро на поле остаются только они трое: Фенрир, его отец и ожидающий неизвестно чего мальчик. Слышно, как в лесу гомонят птицы. Налетает теплый ветер, шумит ветвями.
– Как насчет еще одной скачки? – спрашивает Герольф со своего вороного.
– Еще одна скачка? – удивляется Фенрир. – Против того мальчика?
– Нет, – говорит Герольф. – Против меня.
Фенрир разевает рот.
– Против вас?
– Да. Если ты, конечно, не слишком устал. Ты не слишком устал?
Он не просто устал, он вымотан до предела. В голове у него шумит. Ноги все еще дрожат от нечеловеческих усилий, которых стоила ему победа.
– Я не устал, – слышит он собственный ответ и проклинает себя за гордость.
– Вот и хорошо, значит, скачем, – говорит Герольф и подзывает мальчика: – Будешь менять манекены и бурдюки по мере надобности.
От усталости или от чего другого Фенриру кажется, что все это – сон. Дурной сон, в котором отец вызывает его на состязание. Ему снится, что они на поле, сам он еле жив еще до старта, кругом никого, кроме них, и он должен показать себя достойным соперником отца. Все так, за исключением того, что это не сон. Это происходит на самом деле.
Мальчик дает отмашку. Фенрир решает избрать ту же тактику, что с Андерсом, и пришпоривает Южного Ветра: Хей! Хей! но могучий вороной Герольфа уже далеко впереди. Он пролетает прямой участок вдоль леса и одолевает ров, крутой берег которого для него словно ничтожная кочка. Фенрир понимает, что уже проиграл, что надеяться не на что, однако не отступается. Он научился этому от человека, который скачет впереди, это врезано в него, как в твердый камень: никогда не сдаваться! Борьба не прекращается, когда больно и тяжко, наоборот, тут-то она и начинается! Надо бороться до последнего, никогда не мириться с поражением! И он продолжает скачку. Все идет вкривь и вкось. Все у него болит. Бурдюк он протыкает только со второй попытки, манекен обезглавливает с третьей, сабля в руке весит целую тонну, он вязнет в грязи так, что не может двинуться с места, слезы ярости застилают глаза…
Когда, завершив, наконец, третий круг, он пересекает финишную черту, Герольф давно уже там. Он небрежно, двумя пальцами держит красную тряпку.
И тут происходит нечто невообразимое.
Герольф соскакивает с коня, отдает какие-то распоряжения мальчику – несомненно, чтобы удалить его, – и направляется к Фенриру, который тоже спешился, весь в грязи и чуть живой от усталости.
– Поди ко мне. Поди, – говорит он.
И раскрывает ему объятия.
«Это все еще сон», – думает Фенрир, однако шаг, который он делает навстречу отцу, – это настоящий шаг, и руки, которые его обхватывают, настоящие, как и грудь, к которой он прижимается.
– Очень хорошо, сын, – только и говорит Герольф. – Очень хорошо.
И крепче прижимает его к груди.
Обратно они едут бок о бок. Время от времени Герольф искоса поглядывает на сына и улыбается ему.
– Андерс дурак, – говорит он. – Должен был знать, что такого парня, как ты, нельзя пропускать вперед, верно? Уж если ты ушел вперед, только тебя и видели!
Фенрир не отвечает. Гордость и торжество распирают ему грудь. «Да, отец, Андерс дурак. Все дураки! Ни один из них нам в подметки не годится – вам и мне, правда, отец?»
В этот вечер, улегшись в постель, он чувствует, как его закруживает, закруживает… Отец… Матушка… – повторяет он и впервые подразумевает Герольфа и Волчицу. Издалека, из самой глубины его души другие зовут его, тянут к нему руки. Высокий спокойный мужчина и тихая светловолосая женщина. «Не забывай нас, – говорят они. – Не предавай нас…» Он плачет и умоляет их: «Оставьте меня теперь в покое! Отпустите, позвольте мне жить! Я не могу больше хранить вам верность. Все это так далеко… Ваши лица удаляются, расплываются. Я уже не знаю, какие вы. Я уже не помню, какие у вас глаза… Я хочу жить, просто жить…»
Он встает с постели и подходит к окошку в задней стене. Однажды кто-то позвал его оттуда, чей-то голос прокричал его прежнее имя. Этот крик долго отдавался у него в памяти, но сегодня вечером его эхо стихает, изглаживается, подобно кругам на воде от упавшего камня: они так же сглаживаются, сходят на нет, и ничего не остается.
Стоя у окна, Фенрир прислушивается. Ночь безмолвствует. Ни крика, ни даже воспоминания о крике. Он возвращается в постель.
– Спасибо, – говорит он тем, которые наконец отпускают его, перестают цепляться за него руками, сердцем. – Спасибо…
И засыпает. Это его третье рождение.