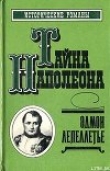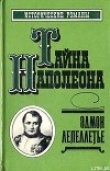Текст книги "Горе мертвого короля"
Автор книги: Жан-Клод Мурлева
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Часть 2
Война
1
Локти и пальцы

Два юноши шли по солнечной стороне улицы – с непокрытой головой, куртки небрежно переброшены через плечо, рукава рубах засучены. В небе, высоко-высоко, парило одно-единственное заблудившееся облачко. На Малой Земле погожие летние деньки держались всего-то один-два месяца, и ими спешили пользоваться: гулять посуху, ощущать на себе ласку теплого воздуха, насыщаться впрок солнечным светом. В эту короткую пору солнце, можно считать, вообще не закатывалось. Вечером оно опускалось за горизонт и сразу опять выскакивало, словно какой-то волшебный мяч, и поднималось в небо.
Юноши поравнялись с одним из плакатов, вот уже несколько дней красовавшихся чуть ли не на каждой стене. Сверху крупным шрифтом было напечатано:
ВАМ ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ.
ВЫ НУЖНЫ НАМ.
Ниже мелкими буквами – длинный список фамилий, а дальше – приказ:
КАЖДОМУ ИЗ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ЯВИТЬСЯ В КАЗАРМЫ.
– Еще бы не нужны! – со смехом сказал тот, который шел впереди. – Если не считать больных, обессилевших, обмороженных, раненых и убитых, не больно-то много народу, должно быть, наберется там, на Континенте! Да-а, не так себе представлял Герольф завоевание! За три недели, говорил, управимся, – а вот уж год как воюем, и конца не видно!
Этот юноша был калекой. Правую ногу, искривленную и негнущуюся, он при каждом шаге выбрасывал вперед круговым движением бедра. Он опирался на трость с Т-образным набалдашником. Другой, державшийся позади, ничего не ответил. Когда его товарищ замедлял шаг, он тоже шел медленнее. Когда тот останавливался передохнуть, он тоже останавливался и ждал. Они свернули, оставив дворец справа, и стали подниматься по мощеной улице, ведущей к казармам.
– Знаешь, за что я тебя так люблю? – прервал молчание хромой.
– Нет, – сказал другой. – Любопытно узнать.
– Я тебя люблю, в числе прочего, за то, что ты всегда держишься на полшага позади, когда мы идем вместе. Ты скажешь – подумаешь, большое дело, но со всеми другими позади плетусь я. Мне все время кажется, что я отстаю, всех задерживаю, и это действует на нервы.
– Правда? А у меня это как-то само собой получается, я даже не задумывался никогда. Это же естественно.
– Не для всех.
– А ты – тебе интересно, за что я тебя так люблю… «в числе прочего»?
– Валяй, говори.
– За то, что произошло однажды вечером восемь лет назад.
– А что такое произошло?
– Мой отец уехал и пропал, месяц его не было. Мы с матерью с ума сходили. А ты предсказал, что он вернется, и через час он был уже дома – помнишь?
– Помню. Я тогда увидел, как он входит в дом и сбрасывает плащ прямо на пол. Я тебе это сказал, и все. Я-то тут ни при чем, ты же знаешь. Это происходит непонятно как. Так что благодарить меня не за что.
– Может быть, но в моем детском умишке отложилось так, что это ты его нам вернул, да так с тех пор и осталось.
Юноша, державшийся позади, был тонкий и легкий в движениях, на голову выше своего увечного товарища. На щеках у него уже пробивался темный пушок. Юноши остановились перед еще одним плакатом. Там стояли и их имена – в алфавитном порядке: Александер Йоханссон и, несколькими строчками ниже, Бальдр Пулккинен.
Бальдр привалился спиной к стене какого-то дома, отставил трость и достал из кармана штанов кисет. Алекс смотрел, как он насыпал щепотку табаку в ямку между большим и указательным пальцами и втянул его ноздрями. Мимо по двое, по трое, целыми компаниями проходили другие призывники. Некоторые с ними здоровались.
– А ты знаешь, – спросил Алекс, – что освобождения от армии продаются? Некоторые, у кого богатые родители, покупают их, чтобы не отправляться за море. Противно. По-моему, это довольно-таки подло.
– Слыхал я про это, – рассеянно отозвался Бальдр. – Слыхал и другое. Один парень из нашего квартала отрубил себе указательный палец на правой руке. Теперь, раз он не может нажимать на курок, его от армии освободят. А на своей рыбачьей лодке он и так управится. Ловко, а? Мне-то, во всяком случае, ловчить не надо. Явлюсь, там на меня поглядят и отправят прямиком домой. Хоть раз в жизни какая-то польза от этого дела.
Бывали случаи и похуже отрубленного пальца. Чтобы избежать ужасов войны, некоторые призывники подвергали себя жестоким истязаниям. Кто на несколько суток туго перетягивал себе ноги веревками, наживая чудовищное расширение вен. Кто-то стравливал зубы кислотой. Кто-то губил себе зрение, пялясь на солнце, и оставался на всю жизнь полуслепым. Алексу была отвратительна сама мысль о том, чтобы искалечить себя тем или иным способом. Он давно уже смирился с неизбежным: он отправится за море.
В глубине души он даже торопил этот день. Он никогда и никому не признался бы в этом, тем более Бьорну и Сельме. Но наедине с собой в ночной тишине прекрасно понимал причину своего нетерпения.
Его комната за восемь лет совсем не изменилась, только кровать у него теперь была большая, как и он сам. Но в углу у окна стояла другая кровать, все еще детская, которую ни у кого не поднялась рука убрать. Она оставалась тут как молчаливое напоминание. Если тот, кто спал на ней когда-то, был еще жив, он должен находиться где-то там, далеко на востоке, дальше даже Большой Земли – где-то на Континенте, там, где завоевание пожирало тысячи жизней, словно великан-людоед. Не проходило дня, чтобы Алекс не вспоминал брата. «Бриско…» – шептал он иногда вслух, когда никто не слышал. Он произносил эти два слога, чтоб они оставались живыми в его устах: Брис-ко… Как если бы, произнося это имя, он уберегал от забвения того, кто его носил. Брис-ко…
– Пошли, что ли? – сказал Бальдр, и они зашагали дальше.
На подходе к казармам и во дворе так и кишела молодежь. По случаю хорошей погоды или ради удовольствия потолкаться среди народа? Во всяком случае, атмосфера была праздничная, и большинство призывников всячески демонстрировали бесшабашную лихость. Один, взобравшись на низенькую стенку, подражал голосам домашней живности – свиней, кур, лошадей; кругом смеялись и аплодировали. Некоторые в ожидании своей очереди играли в карты, сидя на земле по-турецки, с таким азартом, словно ставили на кон собственную жизнь. Другие толкались и дурачились, завязывая дружеские потасовки.
– С ума сойти, – сказал Алекс, – прямо как дети малые! Можно подумать, они забыли, зачем они здесь и что их ждет.
– Да, – кивнул Бальдр, – еще вчера они готовы были в штаны накласть, как вспомнят про призыв, а сегодня на людях строят из себя героев, дураки несчастные.
Один призывник очень маленького роста, почти карлик, выглядевший как-то потерянно, поравнялся с ними.
– С какого минимального роста берут, не знаете? – с беспокойством спросил он.
– Сколько я помню, минимум – четыре локтя шесть пальцев, – сказал Алекс. – По-моему, ты до этого не дотягиваешь.
– Нет, не дотягиваю, даже если на цыпочках. Думаете, меня забракуют?
– Да, твое дело верное. Скажи, Бальдр, его ведь точно…
Он осекся. К ним подошел какой-то молодой человек и обратился прямо к Бальдру:
– Можно тебя на два слова?
Несмотря на жару, он был в широком плаще, накинутом поверх элегантного камзола. Белокурые волосы, уложенные в прическу, манерный голос и щегольские сапоги из мягкой кожи свидетельствовали о богатстве их обладателя.
– А чего тебе от меня надо? – отозвался Бальдр.
– Поговорить, я же сказал. Пойдем?
Не дожидаясь ответа, блондин направился в более уединенный угол двора. Бальдр удивленно поднял брови, потом подмигнул Алексу – мол, поглядим, может, чего забавное, – и заковылял следом. Алекс видел, как он подошел к молодому щеголю и вступил с ним в разговор. Ему сразу это не понравилось.
Не прошло и минуты, как его вызвали. Медосмотр проходил в каком-то большом бараке, изначально вряд ли для этого предназначенном. Десятка два молодых парней раздевались или уже одевались среди беспорядочно загромождавших пыльный пол ширм, стульев, ростомеров и весов. Два офицера медицинской службы вели осмотр. Третий сидел за столом и записывал результаты. У всех троих, казалось, была одна забота – поскорее отделаться. Еще был солдат, который следил за порядком очереди. Он окликнул Алекса:
– Имя, фамилия?
– Александер Йоханссон.
Тот нашел его в списке, поставил галочку и передал информацию офицеру, сидящему за столом.
– Раздевайся! – приказал офицер.
Алекс без излишнего смущения разделся догола, потом его подозвали к ростомеру.
– Пять локтей, шесть пальцев! – объявил офицер громко, чтоб его коллега мог записать. – Повернись!
Алекс повернулся кругом.
– Хорошо. Покажи зубы!
Алекс открыл рот. Офицер прижал ему язык шпателем и наскоро осмотрел зубы.
– Порядок. Зрение хорошее?
– Достаточно, чтобы видеть, что меня ждет.
– Не умничай. Одевайся.
Осмотр был окончен. Он занял не больше сорока секунд. Алекс подумал – с завидной же скоростью здесь отправляют человека на убой, однако оставил свое мнение при себе.
– Держи карточку! – сказал офицер, сидящий за столом. – И ступай с ней вон туда!
Алекс пошел в указанном направлении и оказался перед приоткрытой дверью с табличкой «Начальник призывного пункта». Оттуда как раз выходил толстенький призывник. Судя по багровому цвету лица и припухшим глазам, здоровье у него было неважное.
– Взяли! – сказал он с нескрываемым удовлетворением.
– Ну что ж… – промямлил Алекс. – Поздравляю.
– Спасибо. Твоя очередь, заходи.
Алекс вошел. Начальник в чине капитана, высокий угловатый субъект, сидел за письменным столом. Он что-то жевал – непонятно что, перед ним лежали только бумаги. Без сомнения, еда была припрятана у него в ящике стола. Не поднимая глаз, он протянул руку.
– Карточку!
Алекс вручил ему карточку. Капитан бегло просмотрел ее, переписал слово в слово на другую, так ни разу и не взглянув на того, кто стоял перед ним.
– Ну вот, – сказал он наконец, проштамповав обе карточки и одну вернув Алексу. – Считай, ты уже не призывник. С сегодняшнего дня ты солдат. Через несколько дней придешь за снаряжением, а через две недели отправишься на Большую Землю проходить военную подготовку. А оттуда – прямиком на Континент.
Тут только он поднял голову и уставился на Алекса своим единственным глазом. Другого не было. Вместо него зияла жуткая темная впадина между сморщенными, в красных прожилках остатками век. Можно подумать, что этому человеку доставляет странное удовольствие внезапно демонстрировать свое увечье. Он, должно быть, ошарашивал так каждого посетителя и наслаждался этим. А может, хотел показать, что его ждет теперь, когда его «взяли».
Алекс невольно содрогнулся. Он взял карточку, поблагодарил и вышел.
– Скажи, чтоб заходил следующий! – крикнул ему вслед капитан.
Алекс слышал, как открылся и тут же закрылся выдвижной ящик с припасами. Что же он все-таки жует?
Следующим оказался малорослый призывник, с которым они уже виделись.
– Взяли? – спросил он.
– Да. Взяли, как ты изволил выразиться. Может, хоть тебя не возьмут.
– Да уж, они мне намерили четыре локтя четыре пальца. Офицер еще сказал, что им нужны солдаты, а не недоноски.
– Деликатный человек, – заметил Алекс. – Что ж, желаю удачи!
Выйдя во двор, он огляделся в поисках Бальдра, но того нигде не было видно.
– Ты ищешь своего хромого? – спросил кто-то из призывников.
– Да.
– Его вызвали вон туда, в другое здание.
Алекс нашел себе удобное место в тени стены, но долго дожидаться ему не пришлось. Через несколько минут Бальдр вышел. Несмотря на расстояние, Алекс увидел, как он засовывал в карман тускло-красный кусочек картона, о котором каждый здесь мечтал: освобождение от армии.
– Бальдр! – окликнул он, вставая.
Но калека махнул ему свободной рукой и заковылял в обход здания.
– Ступай, меня не жди! – крикнул он и свернул за угол.
Алекс гадал, что могло понадобиться Бальдру там, в закоулке между казармой и наружной стеной, а главное, почему не надо его ждать. Отвратительное подозрение кольнуло его. «Бальдр, но не станешь же ты…»
Он подождал несколько минут, снедаемый тошнотворным предчувствием, и когда блондин в плаще вышел из-за того же угла, понял, что предчувствие не обмануло его. Блондин широким шагом пересек двор, ни на кого не глядя – скорее прочь из этого места, где ему больше нечего делать, где ему нечего делать отныне и навсегда, поскольку он теперь обладает правом вернуться домой и там остаться.
Когда Бальдр вышел из-за угла, Алекс буквально накинулся на него. Он был вне себя от ярости.
– Бальдр, что ты наделал? Только не говори, что ты продал…
– Отстань! – бросил калека и направился к воротам. – Я же тебе сказал, не жди меня.
– Если ты правда это сделал, клянусь, я…
– Помолчи! – оборвал его Бальдр.
– Почему это я должен молчать? Стыдно, да? Не хочешь, чтоб люди узнали?
– Заткнись! – рявкнул Бальдр.
Алекс не помнил, чтобы он когда-нибудь бывал так груб.
Он сдерживался, пока они не вышли за ворота, но на улице снова взорвался.
– Покажи мне твое освобождение!
– По какому праву ты…
– Покажи! Покажи, если оно еще есть у тебя!
Бальдр помотал головой и свирепо заковылял дальше. Казалось, он даже хромает сильнее от обуревающих его чувств. На этот раз Алекс не держался на полшага позади; он шел бок о бок с Бальдром и, не умолкая, рвал и метал:
– Ты хоть понимаешь, что ты сейчас продал? Ты продал право жить достойно, как человек, следующие пять лет. Потому что кампании конца не видно, ты сам говорил! И что ты за это получил? Право тысячи часов месить снег по морозу с этой твоей изувеченной лапой! Ты ведь не попадешь в кавалерию, ты не можешь ездить верхом, ты, дружочек, попадешь в пехоту и отстанешь на первом же переходе! В худшем случае ты замерзнешь насмерть где-нибудь в канаве. В лучшем – тебя подберут обмороженным и оттяпают оставшуюся ногу! Ты получил право помереть от страха под обстрелом! Право гнить заживо на соломе в полевом госпитале! Тем временем как этот молодчик будет жить-поживать дома, выпивая за твое здоровье! И все это – ради денег! Сколько он тебе дал, этот гаденыш, а? Да и знать не хочу! Деньги – на что ты их там собираешься тратить? Ворон кормить? Не ждал я от тебя, Бальдр! Вот уж не ждал! Никогда бы не подумал, что ты можешь так поступить!
– Хватит! – прервал его Бальдр, когда терпение его истощилось. – Теперь помолчи!
Они уже дошли до Главной площади, где восемь лет назад Алекс смотрел на мертвого короля, покоящегося на каменном ложе. Он вспомнил мороз, горячие камни в карманах, своего брата Бриско, снег, падавший на лицо короля, и его слова: «Берегись огня…» Теперь он понимал, что имелся в виду не только тот огонь, что уничтожил библиотеку. Огонь войны, огонь человеческого безумия, огонь разрушительных страстей – вот о чем говорил мертвый король. Алекс чуть не плакал от горя и злости. Господи, до чего же все изменилось к худшему за несколько лет! Вернется ли мир хоть когда-нибудь?
Бальдр привычно привалился спиной к стене и вытащил из кармана кисет.
– А теперь послушай меня, Александер Йоханссон, – сказал он. – Ты славный парень, и я понимаю твое возмущение. Только ты не все знаешь.
– Чего я не знаю?
– Скажу, когда ты немножко охолонешь.
Алекс вздохнул.
– Я слушаю.
– Ты вообще-то счастливчик, – начал Бальдр. – Ты столярничаешь в мастерской отца, так?
– Ну да, – сказал Алекс, не понимая, к чему клонит его друг.
Когда войска Герольфа захватили Малую Землю, Бьорн, разумеется, лишился места в королевских столярных мастерских, но он завел свою, неподалеку от дома, и как только Алексу исполнилось четырнадцать, взял его в подмастерья.
– И отец доволен твоей работой, так? – продолжал Бальдр.
– Думаю, да. Но ты ведь тоже, насколько мне известно, работаешь с отцом в рыболовной артели, и он, я полагаю, доволен твоей работой.
– Нет, не доволен.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Я хочу сказать, что он пристроил меня в эту артель потому, что больше нигде не хотели брать калеку. Они меня взяли ради отца, чтобы сделать ему приятное. Но от меня там никакого проку. Убиваю время, как могу: где пустой ящик передвину, где веревку сверну, повешу на место чью-нибудь куртку, делаю вид, что работаю, а все делают вид, что так и надо. Все, что от меня требуется, – это чтоб я не путался под ногами и не слишком всем мешал. Я стал виртуозом в искусстве изображать деятельность, ничего не делая. Ты знал, что денег мне не платят? Нет? Не знал? Что ж, теперь знаешь. Мне только поесть дают в полдник. А зачем платить парню, от которого пользы никакой? Мне стыдно, Алекс. Ты знаешь, каково это, когда стыдно? Когда горе – да, это ты знаешь, а когда стыдно? Я как малыш, которого уверяют, что он молодец, потому что помогает папе мастерить: «Спасибо, сыночек! Что бы я без тебя делал!» Только я-то уже не маленький и не могу больше выносить эту комедию. Для родителей я обуза с пяти лет, с тех пор как это треклятое колесо по мне проехалось. Так что вот. Ты не хочешь знать, сколько этот типчик мне отвалил, но я тебе все-таки скажу. Он мне отвалил ровнехонько сорок тысяч крон. Сперва сказал – двадцать. А я сказал – тридцать, и он согласился. Тогда я сказал – сорок! Внаглую. И он заплатил. Вот они, у меня в кармане. Показать?
Алекс разинул рот.
– Сорок тысяч!
– Как одна копеечка. Это вознаградит моих родителей за все огорчения, которые я им причинил за эти годы. А я повидаю мир – все-таки развлечение, я же нигде никогда не был.
– Прости, – пробормотал Алекс. – Я не хотел…
– Да ладно, – оборвал его Бальдр, глаза у которого теперь по-новому блестели. – Я на тебя не в обиде. А за меня не бойся. Я вернусь.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю.
– А, ты это… ты видел? Это было… то?
– То самое. Очень четкая картина. Иногда они бывают расплывчатые, тогда я предпочитаю про них не говорить. Но эта была четкая. Я увидел, как вхожу в дверь, крепко держась на обеих ногах, и смеюсь во всю глотку. И все кругом смеются. А на двери – кованое железное «П», в смысле – «Пулккинен». То есть это наша дверь.
Ярость Алекса уже утихла. Он и хотел бы еще поспорить, но решимость Бальдра казалась непоколебимой.
– Родители тебя ни за что не отпустят, – все-таки сказал он в надежде его переубедить.
– Я их поставлю перед фактом. Однажды утром они проснутся, а хромого дармоеда нет. А вместо него – сорок тысяч крон.
– И у тебя хватает глупости думать, что это их обрадует?
Удар попал в цель. Бальдр потупился и вздохнул.
– Я им оставлю письмо. Все объясню.
– Ты не ответил на мой вопрос. Ты правда думаешь, что твой отъезд доставит им радость и облегчение?
Бальдр поморщился.
– Не утруждайся, Алекс. Я уже все решил. И не будем больше об этом. Только им ничего не говори. Обещаешь?
– Бальдр… – простонал Алекс, горестно помотав головой, – Бальдр… ты делаешь чудовищную глупость…
– Спасибо, – прервал его калека. – А теперь пошли выпьем пивка. И платить буду я, с твоего позволения.
2
Дорогие родители…

В день отъезда Алекс выглядел настоящим красавцем-солдатом в новенькой военной форме, придававшей ему гордую осанку, с мушкетом в руке и ранцем за плечами.
– Береги себя, – сказала Сельма.
Они стояли уже за дверью. Он наклонился и поцеловал мать. Эти несколько лет преждевременно состарили ее, но ей это было к лицу. Тонкие морщинки у глаз и губ придавали законченность и глубину ее природной нежности.
– Да, ты уж береги себя, – повторил за ней Бьорн.
При этих словах и отец, и мать вспомнили про себя все эти годы, когда оберегали его они, потому что он был маленький, потому что он был их дитя. Теперь эти времена остались позади. Мальчик давно уже вытянулся выше их. А вернется он – если вернется – не мальчиком, а мужчиной.
– Пиши нам, – сказал отец. – Письма доходят. С опозданием, но доходят.
Бьорн был теперь совсем седой. Поседел он за несколько недель, после того как вернулся с Большой Земли без Бриско. Из-за того, что ему не удалось вернуть сына, в нем произошла глубокая перемена. Угас какой-то внутренний свет, а на смену ему пришло другое: печаль, которая так и осталась безутешной. Все эти восемь лет он, как прежде, работал, смеялся, в общем, жил – но через силу.
– Ступай, родной, – сказала Сельма, легонько подтолкнув сына. – Не заставляй ждать господина Хольма.
Никто из них не позволил себе заплакать. Может быть, потом, когда каждый останется наедине с собой.
Старик извозчик скромно дожидался на углу. Алекс подошел, кинул ранец на сиденье и уселся сам.
– Мне в порт, господин Хольм…
– Что ж, Алекс, поехали, – отозвался старик и щелкнул кнутом. Конь Буран пошел рысью.
Несколько метров – и дом скрылся из виду, заслоненный другими. Алекс едва успел, оглянувшись, увидеть, как родители машут ему на прощанье. Он помахал в ответ и в этот миг осознал, что вот сейчас оставил за собой и за этими стенами маленького мальчика, которым был прежде. И все свое детство.
Алексу и Бальдру через несколько дней после зачисления выдали полное снаряжение. В него входили:
– пара превосходных кожаных сапог,
– две пары шерстяных носков,
– брюки из плотной ткани,
– две рубахи,
– пара теплых перчаток,
– меховая шапка,
– красный мундир на пуговицах,
– темно-синяя шинель с капюшоном.
К этому прилагался ранец, в котором лежали две укладки. В одной – мыло, бритва, ножницы и щетка для волос. В другой – жестянка с ружейной смазкой, тряпка и обувная щетка. Кроме того, выдали жестяной котелок, кружку, ложку и нож.
Вместе с тысячей других рекрутов их погрузили на суда, которые отплыли, держа курс на Большую Землю. Там новобранцев распределили по родам войск.
Как и предвидел Алекс, в кавалерию Бальдра не взяли. Между тем, раз оказавшись в седле, он был наездником не хуже любого другого. Трудность для него состояла в том, чтобы сесть в седло. Чтобы взобраться на лошадь без посторонней помощи, ему приходилось корячиться самым комическим и трудоемким образом. Он ложился животом поперек седла, извивался, пока не принимал сидячее положение, потом руками перекидывал правую ногу через седло и вставлял в стремя. Офицеры сочли, что зрелище это, конечно, потешное, но в боевых условиях, требующих оперативности, потеха будет плохая; таким образом Бальдр, несмотря на увечье, стал пехотинцем, как и Алекс.
Обучение было недолгим. Провели ускоренный курс строевой подготовки, а уже с третьего дня начались упражнения с мушкетом и штыком. Для Бальдра настали тяжелые времена. Все, что надо делать двумя руками, в частности манипуляции с оружием, представляло для него трудную задачу. Он пробовал схитрить, опираясь локтем на трость, чтоб освободить правую руку, но это было ненадежно и не слишком удобно. Как-то раз под вечер во время учений разыгралась драма.
Дело было во дворе казармы. Три десятка новобранцев проделывали всякие эволюции под командой одного особо придирчивого офицера, в глазах которого увечье Бальдра не являлось поводом для снисходительности. Уже не раз метал он на калеку раздраженный взгляд, словно говоривший: «Ты-то что здесь делаешь?» Но Бальдр пока справлялся. С помощью трости ему удавалось выполнять команды не хуже других. Подкосило его переутомление, оказавшееся сильнее воли.
– На караул! – скомандовал офицер.
По строю прошло движение, слышался шорох одежды, щелканье каблуков. Алекс покосился на Бальдра, чье место в строю было рядом с ним. Он увидел, что друг его держится из последних сил: рот его кривился в мучительной гримасе, пот градом катился по лицу. Алекс слышал, как тот шепотом ругается, проклиная себя и свою ногу: «Будешь ты слушаться, дрянь?»
– Скоро это кончится, – ободрил его Алекс. – Держись!
– Оружие на плечо… смир-рно! – скомандовал офицер.
Тридцать новобранцев лихо вскинули мушкеты, и в наступившей тишине все услышали одинокий тяжелый звук падения. Бальдр лежал на земле, запутавшись в трости, оружии и непослушной ноге. Ему довольно быстро удалось подняться, но, уже стоя и опираясь на трость, он обнаружил, что мушкет остался лежать в двух метрах от него, в то время как его товарищи, вытянувшись в струнку, держат свои дулом вверх, как подобает. Офицер, наблюдавший, как он корячится в пыли, издали окликнул его.
– Ты вот это называешь оружием? – спросил он, движением подбородка указывая на трость.
Бальдр промолчал.
– Ты продал свое освобождение?
– Нет! – солгал калека.
– Значит, к службе годен?
– Да.
– Тогда подбери оружие и встань по стойке смирно, да живо у меня!
Бальдр тяжело дышал. Алекс подумал, что сейчас он сорвется на крик или, того хуже, расплачется.
В обоих случаях его отошлют обратно на Малую Землю, и одному Богу известно, на что он может решиться, чтобы избежать такого унижения. Но Алекс ошибался. Бальдр стиснул зубы и сделал удивительную вещь: удерживая равновесие на единственной здоровой ноге, левой, поднял правую, силой согнул ее и одним движением переломил об колено трость, которую когда-то давно сделал ему отец и на которую он опирался столько лет. Бросил обломки на землю и подковылял к своему мушкету. Наклонился, подобрал его, ухитрившись не упасть, и вернулся в строй. Потом он вскинул мушкет и выпрямился, насколько это было для него возможно, вызывающе глядя на офицера. Тот помедлил еще, вынуждая его держаться навытяжку, потом, наконец, отдал команду, которую все так ждали:
– Вольно.
Всего десять дней подготовки, и их отправили с Большой Земли.
– Вы научились маршировать, стрелять, выполнять команды и помалкивать – вполне достаточно, чтоб идти воевать! – объявили офицеры. – Не зимовать же тут!
За следующие несколько недель Алекс не раз писал родителям, но эти письма до них так и не дошли. Первое, которое они получили, было такое.
Дорогие родители,
не знаю, получаете ли вы мои письма… Очень в этом сомневаюсь, видя, какая тут во всем неразбериха. Иногда мне думается, что, чем сдавать их в полевую почту, можно с тем же успехом написать и порвать, или зарыть в снег, или сжечь. Отправляя письмо, я всегда боюсь, что оно пропадет. Но все-таки отправляю – чем черт не шутит! Извините за почерк – я пишу на коленке и стараюсь беречь карандаш. Бумага тоже того и гляди кончится, а здесь ничего не достанешь. Вот уже месяц, как мы покинули Большую Землю. Нас везли на десяти новехоньких кораблях. Ребята – те, кого не укачало, – распевали песни, словно это увеселительная прогулка. Меня не укачало, но петь я не пел. Плыли три дня и две ночи, и теперь мы на Континенте. Здесь уже выпал снег. Что же это будет зимой? Пока что он лежит тонким слоем, но не тает. Утром на солнце он почти совсем голубой и так и хрустит под ногами. Но самое удивительное здесь – это небо. Я и не знал, что небо может быть таким огромным. На Малой Земле оно и то казалось мне необъятным, когда я был маленький и мы ездили кататься на санях по равнине все четверо – Бриско, вы и я. Это так далеко, и сейчас, как вспомню, сразу становится грустно. Что до Большой Земли, то ее небо показалось мне пустым и белым. Мне не понравилось. А здесь оно опять другое. Что-то в нем есть от бесконечности. От безмолвия. Оно как будто бездонное. Это небо пугает меня и в то же время завораживает. И потом, все здесь такое плоское. Мы шагаем по равнине день за днем, шагаем и шагаем на восток, и чудится, что конца этой равнине вообще нет. На своем пути мы не встречаем ни одного живого существа. Животные прячутся, противник отступает без боя. Говорят, они укрепились у себя в столице, где-то в глубине страны, и поджидают нас там. Еще говорят, что у них в обычае беспокоить и ослаблять противника, налетая в самый неожиданный момент невесть откуда и так же исчезая. Но этого мне пока испытать не довелось. Иногда нам попадаются деревни, покинутые жителями. Всякий раз мы кидаемся обшаривать дома, надеясь найти еду или что-нибудь еще, но не находим ничего.
Бальдр поражает меня. Я вам писал, как он на учениях сам сломал и выбросил свою трость. Так вот, с тех пор он обходится без нее. Похоже, нога у него разрабатывается. Во всяком случае, до сих пор он шагает со всеми наравне, не отстает, хоть это и выматывает его. Вечером он валится замертво. Мне приходится расталкивать его, чтобы встал и получил свою пайку. Выдают нам хлеб и не самую скверную похлебку. Полевой кухней заправляют грубые толстухи, закутанные в серые накидки. Они – пленницы и не говорят на нашем языке. На головах они носят вязаные шапки, у них большие тяжелые руки, красные и растрескавшиеся. Не думаю, чтобы среди них я нашел себе невесту! На этом прерываюсь – сюда идет почтальон. Он меня хорошо знает. Я – один из немногих, кто умеет писать, ну еще мои товарищи с Малой Земли. Большинство остальных неграмотные. Кто бы мог подумать!
До свидания, дорогие родители. Люблю, обнимаю.
Ваш сын Александер Йоханссон
Второе письмо они получили через три месяца:
Дорогие родители,
настала зима, и мы жестоко мерзнем – одеяла не спасают. На привалах ложимся ногами к костру – только так и можно спать. Сперва я пробовал укладываться по-другому, но от ног холод распространяется по всему телу и не дает уснуть. Последние недели нам еще удавалось иногда ночевать в покинутых деревнях, но дальше, по мере приближения к столице, такой возможности больше нет: все дома сожжены! Не нами, а самими жителями, которые, уходя, уничтожают их, чтобы нам негде было найти пристанище. Когда останавливаемся в каком-нибудь месте на несколько дней, мы ставим палатки. А если только на ночь – спим под открытым небом. Хуже всего – ночные набеги. Только-только заснешь, усталый до отупения, и вдруг – тревога. В несколько минут ты уже на ногах, промерзший мушкет леденит руки даже сквозь перчатки. Офицеры орут. Ты пытаешься понять, что это – кошмарный сон или явь. Становишься в оборону со своим взводом, и начинается пальба. Я видел, как падают рядом со мной товарищи, а ни одного врага в лицо так и не видел. То я представляю их себе кровожадными варварами, дикими и косматыми, то обыкновенными парнями вроде меня, которым так же страшно, как мне, и так же хочется домой. Потому что нам страшно. Всем. Тем, кто признается в этом, и тем, кто не признается.
Мы не раздеваемся, не меняем белье, и многие завшивели. Меня пока Бог миловал. Я стараюсь хоть как-нибудь помыться при каждой возможности, но мой кусок мыла за четыре месяца все еще не измылился… От нас от всех плохо пахнет, но, поскольку это общий удел, мы этого не стыдимся.
Простите, что пугаю вас всеми этими подробностями. Я мог бы написать, что все прекрасно, но вы бы не поверили и навоображали еще больших ужасов. Так вы, по крайней мере, знаете правду. Чтобы закончить на более веселой ноте, добавлю, что бывают и светлые моменты, например, когда мы останавливаемся на привал еще до вечера, а день солнечный. Мы поем песни, покуриваем и рассказываем анекдоты. Далеко не все из них, признаться, годятся для приличного общества! Когда очередь доходит до меня, я, поскольку анекдотов не знаю, рассказываю про колдунью Брит, которая ела крыс прямо с головой. Не поручусь, что слушатели мне верят, но смеются до упаду.
На этом прощаюсь – темнеет, и я не вижу, что пишу.
До свиданья, дорогие родители. Люблю, обнимаю.
Ваш сын Александер Йоханссон
И вот третье письмо, которое они получили: