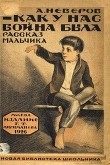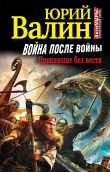Текст книги "Мир и война"
Автор книги: Юрий Хазанов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
(А возможно, Валя и не была никакой женой, а одной из тех, кого называли ППЖ и по поводу кого я своими глазами видел такой опус, называемый «директивой Љ 0176» и сочиненный в недрах политотдела одной армии: «…Некоторые политорганы ослабили руководство воспитательной работой среди девушек, не добились того, чтобы комсомольские работники учитывали особенности правильной организации большевистского воспитания женской молодежи. Ряд мужчин, имея жен и детей, женится на фронте или просто вступает в сожительство с молодыми девушками. Есть и другая категория девушек, которая стремится получить беременность и с трофейными вещами попасть в тыл страны… Все это имеет отрицательное влияние на четкое несение службы женской молодежью…»
Вы, конечно, не сомневаетесь, читатель, что сразу после этой директивы резко сократилось число половых актов на один квадратный метр койки, все трофейные вещи были тут же возвращены владельцам, а девушки стали четко, как никогда, нести свою службу и перестали беременеть.)
Вскоре после того, как Юрия перевели на новую должность, весь полк стронулся с места и отправился, переехав поперек Чехословакии, прямиком в Германию, – нужно было начинать вывозить то, что Советский Союз получал по репарациям.
Местом дислокации их батальона был определен город Майсен на Эльбе в двадцати километрах от совершенно разрушенного Дрездена, в котором, как ни удивительно, ходили трамваи: маленькие желтые вагоны, и что еще удивительней – останавливались в любом месте по первому требованию пассажира. Пассажиры тоже были, но где могли они жить среди сплошных развалин – совершенно непонятно. Юрия тогда участь и людей, и города мало волновала.
В отличие от Дрездена, Майсен целиком сохранился. Этот городок возник в начале X века на скалистом плато над Эльбой. Почти с той поры дожили до наших дней его готический собор, две кирхи и замок Альбрехтсбург. А также старейший в Европе фарфоровый завод, где в начале XVIII века был открыт Бётгером особый способ производства фарфора. Кто не знает (кроме нас с вами) марку этого завода: нанесенные подглазурной росписью синие мечи?..
Рота, которой командовал Юрий, пятьдесят с лишним его любимых темно-зеленых «фордов», расположилась у въезда в Майсен на футбольном поле, у самой реки, по другую сторону которой виднелись корпуса знаменитых заводов «Симменс-Шуккерт». Водители, как обычно, жили в кабинах, ремонтники в своей «летучке», офицеры на сей раз разместились в домах. Хозяевами виллы, где остановились Юрий и помпотех Ивасюк, была пожилая супружеская пара; Юрий и Петро подкармливали их из своего пайка, который становился тем хуже, чем дальше отодвигался день победы.
Когда уже две недели никто в батальоне не видел мяса и солдаты начали роптать, почти как на броненосце «Князь Потемкин Таврический», к Юрию пришел старшина роты Скрынников и, понизив голос, сообщил, что есть способ улучшить довольствие личного состава.
– Ловить рыбку в Эльбе? – с присущим ему остроумием спросил капитан Хазанов.
Старшина юмора не воспринял.
– Тут бауэр один есть… крестьянин, – перевел он с немецкого. – Недалеко. У него коров навалом. Одну возьмем, не обедняет. Зато ребят подкормим. Разрешите ехать?
Если бы Юрий знал не только о директиве политотдела по поводу совокуплений, отвлекающих молодежь от борьбы за правое дело, но и о недавнем строжайшем приказе маршала Жукова насчет «отъема собственности у гражданского населения Германии отдельными военнослужащими», то наверняка запретил бы старшине всякие разговоры о коровах. Но, к несчастью для себя, Юрий не знал об этом приказе.
– Поезжайте, – сказал он, долго не раздумывая. – Возьмите еще одного-двух из взвода лейтенанта Гараля.
– Хорошо, – ответил старшина. Он позволял себе немного отступать от устава и не всегда говорил «есть».
На другое утро старшина уехал. К вечеру он не вернулся. Загуляли ребята, подумал Юрий без особого одобрения, но Скрынников не был выпивохой и вообще твердых правил, а потому Юрий не очень беспокоился. Скорее, с машиной что-нибудь. Починят и с рассветом приедут. Но ни утром, ни днем, ни вечером их не было. Юрий не на шутку встревожился: может, несчастье какое? Авария, или немцы убили? Какие-нибудь эсэсовцы, скрывающиеся в лесах?
Поездка старшины держалась в тайне – о ней кроме Юрия знали только помпотех и лейтенант Гараль. Ему Юрий и велел утром следующего дня отправиться на розыск. Даже дал для этого свою легковую, которая недавно появилась – из трофейных, то есть брошенных немцами: темно-серый шестицилиндровый «вандерер» с брезентовым верхом и кожаными сиденьями. Его где-то откопал Петро Ивасюк, притащил на буксире, отремонтировал, и теперь Юрий разъезжал на нем прямо как какой-нибудь «фон-барон», как сказала бы его покойная бабушка. (Она умерла в Баку, не дождавшись конца войны.) Высшее начальство пока что милостиво взирало на то, что командиры рот баловались легковушками. Потом, после возвращения на родину, их сразу отберут. Только особые счастливчики или «блатные» сумеют довезти свои подержанные трофеи до дома.
Лейтенант Гараль вернулся лишь к вечеру. Юрий представил себе, как тот в поисках пропавших солдат и автомашины беседовал с немцами на своем каменец-подольском «идише» и какое те получали от этого удовольствие. Но вообще-то было совсем не до смеха: все они вляпались в крупную неприятность. Особенно Юрий.
А случилось вот что. Когда старшина Скрынников подъехал к лугу, где мирно паслись «фашистские» коровы, и попытался погрузить одну из них на машину, тот самый «бауэр» не стал вступать в конфликт; он просто поднял трубку телефона, находившегося в его бауэрской «избе», и связался с военным комендантом района. В отличие от Юрия, бауэр знал о строгом приказе маршала Жукова… Что было дальше? Приехал комендантский наряд, арестовал старшину и солдат, а также автомашину. Их всех заперли во дворе комендатуры. Гараль побывал там и выяснил: уже ведется дознание и арестованные сообщили, что действовали по прямому приказанию своего командира капитана Хазанова, которого комендант полковник Сидоренко – между прочим жутко злой – и считает главным виновником, подлежащим суду военного трибунала.
Не скажу, чтобы Юрий сильно тогда перепугался: как-то не верилось, что после четырех с лишним лет войны может из-за такой ерунды произойти что-то серьезное. Тем более он все еще не знал о пресловутом приказе Жукова. Но все равно тут же отправился к командиру батальона и доложил о происшедшем. Капитан Злотник – ну хороший ведь мужик! – не стал нудить и выговаривать, а сказал, что завтра утром они вместе отправятся в комендатуру.
В ту ночь Юрий спал вполне спокойно. Даже перед сном послушал какую-то легкую музыку («Роза мунде» и прочее) по радиоприемнику марки «Принц», стоявшему в его комнате. Куда страшнее стало потом, много лет спустя, когда представил, чем все могло обернуться, если бы не счастливая случайность. Ох, как ему тогда повезло! Что было бы, если бы не капитан Злотник! Каким козлом отпущения его бы сделали и с каким удовольствием! Так обычно бывает, когда издается какое-нибудь новенькое распоряжение и появляются первые нарушители, которых необходимо превратить в показательные жертвы!.. Чуть было он уже не стал таковой пять лет назад, когда опоздал на практические занятия в Ленинграде.
Рано утром Юрий и Злотник поехали в городок Нидерварта, где находилась комендатура. Ехали на «эмке» комбата, чернявой развалине, чудом докатившей до зарубежных столиц. И за все время пути Юрий также не услышал ни слова упрека. Злотник больше молчал – может быть, беззвучно репетировал защитительную речь.
– Оставайтесь тут, не ходите за мной, – сказал он Юрию, когда подъехали к двухэтажной вилле, за одним из широченных окон которой был виден немолодой полковник с наголо бритой головой и непреклонным лицом «отца-командира». (Надо сказать, капитан Злотник, не в пример большинству армейских начальников, а также некоторым генеральным секретарям и президентам, обращался ко всем на «вы».)
Юрий не усидел в машине: взошел на широкую площадку перед входом и встал так, чтобы через окно видеть со спины и немного в профиль сидящего за столом полковника и присевшего напротив Злотника.
Все происходило как в немом кино: голосов не было, только мимика и скупые жесты. Но и этого достаточно, чтобы понять: полковник сильно гневается, а Злотник сдержанно оправдывается. Титры вполне могли быть такими:
Полковник. Нарушен приказ, виновный должен понести строжайшее наказание. Вплоть до…
Рука, сжатая в кулак, опускается на стол, голая голова грозно покачивается.
Капитан. Но, товарищ полковник, этот приказ до нас не дошел, и потом, по правде говоря, неужели солдаты не заслужили мяса одной немецкой коровы?
Робкая улыбка, показывающая, что говорящий шутит и в то же время вполне серьезен.
Полковник. Вы меня удивляете, капитан… Ничего не могу сделать. Дознание уже ведется… Кстати, где вы служили до войны? Часом, не в 18-м стрелковом под Винницей?..
Последние две фразы «титров» наверняка произнес кто-то из собеседников, и, если не дословно, то смысл был определенно таков. Возможно только, речь шла не о 18-м, а о 23-м полке и не под Винницей, а в районе Тульчина… Несомненно одно: оба вспомнили, что были однополчанами.
Юрий увидел лишь, как каменный профиль полковника дрогнул вдруг в улыбке, о лице капитана Злотника и говорить нечего – сплошное ликование. Вот полковник встает из-за стола, вот они пожимают друг другу руки, похлопывают по плечу.
Титры:
– А помнишь, капитан?..
– Как не помнить, товарищ полковник. Это в сороковом было, после тех стрельб, верно?..
И потом экран пустеет: оба действующих лица исчезают с него. Юрию виден только массивный стол у окна, большая пепельница, пресс-папье. Кажется, оно еще покачивается от толчка…
Затем он слышит рокот мотора за железными воротами. И вот они открываются, оттуда показывается родная покатая ряшка «форда», он выезжает на улицу, у его борта шествуют живые и невредимые старшина Скрынников и два молодых солдатика.
С крыльца быстро спускается Злотник.
– Едем, – говорит он весело. – Пока полковник не передумал… Материал дознания он порвал. При мне прямо. Сказал, не хочет доставлять неприятности бывшему однополчанину. Вот так.
– Здурово, – говорит Юрий, не осознавая до конца своего везения. – Где же вы с ним служили?
– Садитесь в машину. По дороге расскажу… Агент по снабжению из вас не получился, капитан…
А настоящая трофейная кампания, начавшаяся немного позднее, и связанный с ней ажиотаж прошли, в основном, мимо Юрия. Многие солдаты и офицеры занялись тогда со страшной силой трофейными делами; попросту говоря, стали изыскивать пути и возможности прибарахлиться перед скорым возвращением на родину. Конечно, способы добывания поживы и размеры были весьма разнообразны: солдаты, в основном, обменивали хлеб или табак на зажигалки и часы. А то и просто снимали их с руки у немцев. (Старшина Скрынников на рынке в Вене выменял для Юрия на его табак «Давид Сасунский» швейцарские ручные часы «Аркадия» с покрытыми фосфором стрелками, водо– и удароустойчивые. Это были первые ручные часы офицера Хазанова. Они сохранились у него до сих пор.) Лейтенант Гараль признался Юрию, что обеспечил себя и весь свой Каменец-Подольск лет эдак на двести вперед швейными иголками. Кто-то разжился красивой ложкой, штукой сукна из брошенного дома, но целых «студебекеров», пятитонных громад, груженных под завязку неизвестно чем, никто, конечно, не вывозил. Это была привилегия высокого начальства, и чем выше оно было и чем дальше от места военных действий, тем тяжелее и многочисленнее бывали их победные «трофеи».
Вот, кстати, данные из тайной, но ставшей явной, справки о вывезенных из Германии трофеях только за 1945 год (за вторую его половину): около 22 тыс. вагонов вещевого и обозно-хозяйственного имущества; почти 73500 вагонов строительных материалов и квартирного имущества.
Что такое «квартирное имущество»? А вот что: больше 60 тысяч роялей и пианино; 460 тысяч радиоприемников; больше 188 тысяч ковров; 940 тысяч предметов мебели; 264 тысячи стенных и настольных часов.
И еще: 588 вагонов фарфоровой посуды; 3 миллиона пар обуви; 2,5 миллиона платьев; больше миллиона шляп и кепок…
Ну, и так далее – всего свыше 400 тысяч железнодорожных вагонов!
Да, чуть не забыл: продовольствия больше чем на 30 миллиардов рублей, спирта – свыше 20 миллионов литров. (И по личному запросу товарища Микояна – 186 вагонов отборных вин. Губа не дура!)
Ничего этого народ, конечно, в глаза не видел: часть сгнила, часть разворовали, большую часть распределили в верхах между собой и своими прихлебателями.
Вот, например, что приобрел генерал Сиднев, начальник оперативного сектора Наркомата внутренних дел (по материалам допроса): около сотни золотых и платиновых изделий; 50 дорогих ковров; много хрусталя, фарфора; пять уникальных гобеленов; 32 меховые шубы; 178 меховых шкур; 406 пар дамских чулок; 78 пар обуви; 296 предметов другой одежды… Все это для себя и любимой супруги…
И далеко не всех любителей поживы, или как их еще назвать, судили. Начальник привлеченного к суду Сиднева, генерал Серов, один из рекордсменов-«трофейщиков», нахапавший не намного меньше (если не больше), остался безнаказанным. О таких, как маршал Жуков или писатель Алексей Толстой, и говорить нечего…
Мне могут сказать, что во все времена победители получали трофеи – имущество, продовольствие, женщин, рабов… Да, но когда это было? И потом, как же насчет морали советского человека? А если без плоских шуток, то насчет морали вообще?..
Хотя, если рассуждать совсем беспристрастно, то нет особой разницы между выщербленной кружкой или старыми ножницами, которые Юрий взял в пустом австрийском доме, и мебельными гарнитурами Ризенера и Шератона, а также старинными гобеленами и картинами, вывозимыми из дворцов и богатых домов для подмосковных генеральских и маршальских дач. И то, и другое имеет одно название. Но все же, все же, все же – как сказал тот же поэт…
Один из водителей сообщил Юрию, что возил какие-то ящики с фарфорового завода, где работали несколько наших девушек, угнанных в Германию. Одна из них, Тоня, была даже секретаршей директора. Они и сейчас там живут, только им кусать почти нечего. Зато, добавил водитель, если капитан хочет, можно организовать пару ящиков посуды. Тоня говорит, очень уж из себя хорошая… чашки, блюдца…
Капитан посудой не заинтересовался, хотя солдат по доброте души долго уговаривал. В большей степени капитан проявил любопытство по поводу девушек, а будучи человеком компанейским, особенно в подобных делах, предложил помпотеху Ивасюку поехать с ним, и тот с удовольствием согласился. С собой они взяли побольше еды и две бутылки с трудом раздобытого спиртного.
Тоня оказалась привлекательной ухоженной блондинкой, хорошо одетой – Юрий уже отвык от таких девушек. Едва поздоровавшись, все уселись за стол и сразу оглоушили себя водкой, так что о чем говорили – откуда родом Тоня и ее подруга, как попали в Германию, как им жилось – Юрий почти не помнил. А может, и не говорили об этом – просто ели и пили, пили и ели. И вскоре уже лежали в шикарных комнатах дирекции завода – такими те казались, во всяком случае, Юрию, – на шикарных постелях, и Юрий был очень пьян, и Тоня тоже, но что он отлично запомнил – она позволяла ему все, кроме самого последнего шага, а он и не слишком настаивал – так хотелось спать.
Еще несколько раз наведывался туда Юрий, и каждый раз – беспробудные пьянки с тем же результатом: Тоня не позволяла, как принято теперь выражаться с легкой руки заграничных авторов, «войти в нее». Судя по всему, она совсем не была развращена немецкими захватчиками. Или же отменно умела сдерживать себя, даже в подпитии, а также уходить от всех расспросов о том, как жилось при немцах, приставали к ней или нет, принуждали к сожительству… Теперь Юрий думает, что скорее всего главным чувством, которое обуревало тогда бедную Тоню, был страх – страх перед тем, что ожидало ее после возвращения на родину: может, доходили до нее кое-какие слухи или с ней уже беседовали мужички из «СМЕРШа» и подобных организаций…
Когда к концу лета 9-му автополку приказали отправляться домой, на Украину, кузова большинства машин были забиты репатриированными – в основном, молодыми женщинами; Тони или ее подруг Юрий там не увидел. И особого веселья или радости среди этих людей не ощущалось: из кузовов шли прямо-таки волны неуверенности и тревоги… Впрочем, быть может, это все нынешние выдумки Юрия.
А теперь обратимся опять к его собственным свидетельствам о том времени, запечатленным спустя двадцать лет в рассказе под названием «Принц», который стал одним из его любимых.
5. ПРИНЦ
У меня болели зубы. Впервые с начала войны. Только-только она кончилась – и вот, пожалуйста: заболели. Хорошо бы еще у себя дома, а то за тысячу верст от районной поликлиники, на берегу Эльбы, возле немецкого города Майсена. Наверное, я простудился девятого мая, когда упал с велосипеда и провалялся часа два на земле. Упал я не от пули: выстрелов в тот день уже не было, упал я от радости.
В середине того дня я приехал на велосипеде в штаб батальона. Передал донесение и остался послушать радио в комнате у начальника штаба. По освещенному квадрату передвигался тросик с красной отметиной, справа отливало золотом слово «Принц» – марка приемника, слышалась чуть картавая немецкая речь; отрывистая короткосложная английская… Вот Москва. Знакомый голос… На секунду в застекленной рамке приемника, будто на экране, увидел я неширокую улицу, извилистую, с булыжной мостовой… Афиши на деревянных заборах, зеленый ларек… вывеска – «Портной Лев во дворе»… У подъезда красного кирпичного дома сидит на стуле толстый восточный человек с маслеными глазками; он спрашивает: «Малшик, конфэту хочешь?».. А вот серый шестиэтажный с воротами, как туннель, и во дворе – первое парадное налево… Мой дом… Я, кажется, открыл дверь с испорченной, как всегда, пружиной, потому что обдало холодом каменной лестницы, и сразу сделалось темно: в полукруглую дольку окна между первым и вторым этажом проходило немного света. Но вот стало светлей, взбегаю на третий этаж, три звонка…
Секунда прошла – и экран погас. Я снова в комнате с широким окном, со стеклянной дверью на каменную веранду. За стеклами – зелень деревьев, серая полоска Эльбы, на другом берегу – корпуса электрозавода Симменс-Шуккерт…
Знакомый голос диктора говорил: «…и прекращаются военные действия…» Мы знали, не сегодня-завтра войне конец, но не представляли, что все это может уложиться в несколько слов – все дороги, бомбежки, снега под Старой Руссой, развалины Торжка, Варшавы, Дрездена, и сардельки-аэростаты на улицах погруженной в сплошную темень Москвы.
– Мир! – закричал начальник штаба и выскочил из комнаты.
– Мир! – крикнул я, сбегая по лестнице каменной веранды в сад. По дороге я тряхнул за плечо старого немца, хозяина дома. – Мир! – заорал я на него, как на глухого. – Фриден! Ясно?
Он взглянул на меня бесцветными глазами, губы его затряслись.
Удивительно ли, что в считанные минуты на столе у начальника штаба появился бочонок с австрийским вином и что пробка недолго пребывала в его отверстии. Ее заменил резиновый шланг, и честь насосать первую кружку вина досталась шоферу командира батальона.
И совсем уж неудивительно, что на обратном пути к себе в роту я свалился под кустом с велосипеда и мирно проспал часа два. Мирно! Ведь наступил мир. И даже то, что у меня свистнули во время сна фуражку и велосипед, не смогли омрачить моего настроения. Хорошо, хоть ремень и штаны оставили. И пистолет.
А вот теперь у меня болели зубы. И тогда командир взвода Гараль, который знал немецкий лучше всех нас (что было совсем не трудно), сказал, что видел где-то в городе вывеску зубного врача. Лейтенант Гараль мог не только читать вывески, но даже объясняться с немцами. Только, видит Бог, особого удовольствия они от этого не получали, потому что, хотя болтал он бойко, но был это не столько «дойч», сколько «идиш», которого он вдоволь наслушался в детстве у себя в Каменец-Подольске.
Мы сели в трофейный зеленовато-серый «вандерер» и отправились. Ехали сперва над Эльбой, потом попали в центр Майсена и заколесили по крутым узким улочкам. Искали долго, и зуб разболелся ужасно; поэтому, когда наконец подъехали к дому врача, я выскочил из машины, даже не закрыв дверцу. Лейтенант пошел за мной.
Через полчаса я весил уже на один зуб меньше и на две пломбы больше. Расплатившись с врачом сигаретами – они ценились куда больше денег, – я вышел к машине, распахнул пошире дверцу… и испугался. С заднего сиденья на меня смотрели большие и печальные налитые кровью глаза. Сначала я ничего не видел, кроме этих круглых карих глаз. Потом различил коричневые висячие уши, белую звездочку на лбу и пятнистое тело большой собаки. Собственно, тела почти не было – были кости, обтянутые красивой шкурой – белой в коричневых пятнах. А может, коричневой в белых.
– Ну что ж, – сказал я псу. – Полежал – и хватит. Иди себе.
А лейтенант слегка шлепнул его по костистой спине.
Пес не шевельнулся. Он не мигая смотрел на меня, и в глазах у него была какая-то отчаянная решимость.
– Иди, – повторил я. – Ну!
– Он же по-русски не понимает, – догадался Гараль. – Гее нах хоузе! Шнель! – крикнул он псу и подтолкнул его.
Пес дрогнул, но не двинулся с места.
– Ком, ком, – сказал я. – Домой! Нах хаузе! Хозяин ждет.
– Где там у него хозяин, – сказал Гараль. – В земле давно лежит. Или сбежал. А может, самому есть нечего.
Да, говорили глаза собаки, да, нечего, давно уже нечего.
– Что ж, поедем с нами, если хочешь, – сказал я. – Гут.
И в первый раз за все время ее остановившиеся глаза моргнули. Хорошо, сказали они, спасибо.
Наша автомобильная рота расположилась на футбольном поле недалеко от реки. Машины обоих взводов стояли в шеренгу по длинным сторонам поля, каждая похожа на тяжеловесного игрока, готового вот-вот провести вбрасывание мяча. А неподалеку от правых ворот на штрафной площадке застыла с поднятым капотом ремонтная «летучка» – точно выбежавший вперед вратарь в ожидании удара по воротам.
Мы подъехали прямо к «летучке», я открыл дверцу, и наш пассажир соскочил на землю: понял, что дальше не поедем. У него были высокие лапы, такие же пятнистые, как тело, и совсем не было живота. Одна спина.
– Исхудал кабысдох, – сказал начальник «летучки». – Накормить его, что ли? Как тебя величать-то?
И правда, пес без имени. Как его назвать? В моей голове пронесся целый вихрь из Тузиков, Шариков, Каро, Греев, Арно – собак моего детства. Но все это было так давно, так устарело… Перед глазами мелькнул освещенный прямоугольник и правее – золотые буквы: «Принц» – марка приемника, сказавшего долгожданное слово «победа»…
– Принц, – сказал я. – Принц…
С этой минуты слово «принц» потеряло для меня свое исконное значение. Я не видел за ним королевского сына с книжных картинок – этакого красавца-юношу в разноцветном камзоле, со шпагой на боку и в шапочке, фасон которой у него переняли впоследствии дряхлые академики. С этой минуты слово «принц» стало означать для меня смесь из коричневых ушей, обрубленного хвоста, большой головы со звездочкой и пятен, пятен – огромного скопления белых точек на коричневом фоне или, наоборот, коричневых – на белом.
– Принц, – повторил я. – Иди сюда. Ком, а по-нашему – иди сюда! Понятно?
Принц вильнул обрубком и подошел.
– С нами будешь лейбен, то есть жить. Ясно?.. А теперь кушать. Кушать иди!
Это слово в переводе не нуждалось. Только я поставил перед ним суп, как Принц позабыл обо всем. Он лакал со звоном, с треском, с лязгом и потом долго вылизывал миску, гоняя ее, как мяч, по штрафной площадке нашего футбольного поля.
Пока он ел, вытянувшись в струнку, подрагивая ушами и хвостом, я уже знал, что не оставлю его в «летучке», как думал сначала, а возьму к себе.
Так я и сделал. Принц спал возле моей кровати, ходил за мной повсюду, привыкая к новому языку, новым запахам, присоединяя их к уже известным ему примерно тридцати пяти тысячам. (Так утверждают кинологи.) Проводил ли я строевые занятия или совещание сержантского состава, выслушивал ли замечания командира батальона или сам распекал старшину – Принц был тут как тут. Порой, когда я звал его и он направлялся ко мне деловитой рысцой, казалось, не случится ничего удивительного, если вдруг он щелкнет пятками и отрапортует: «Товарищ капитан, рядовой Принц явился по вашему приказанию…»
А вскоре я сам получил приказание готовить роту к маршу: наш автомобильный полк возвращался домой. И началось: целые дни пели в разных тональностях моторы, красились кузова и крылья, обновлялись номера.
И когда наш батальон, растянувшись больше чем на километр, выкатился на автостраду Берлин-Бреслау, из окошка головного «вандерера» командира второй роты выглядывала коричневая ушастая голова с белой звездочкой на лбу.
Начало путешествия едва не стало концом для нас с Принцем. В ночь перед маршем я почти не спал: сначала был занят у себя в роте, потом вызвали в штаб батальона для уточнения маршрута, потом в штаб полка для инструктирования. Дело в том, что в кузовах сотен наших «фордов» и «студебекеров», помимо кое-какого оборудования, демонтированного с немецких фабрик, помимо личных трофеев – от старых мотоциклов до ножниц и швейных иголок, – помимо всего этого был живой груз: женщины и мужчины, которых немцы угнали в Германию на работу, – короче, мы везли так называемых «перемещенных лиц». И, как узнали позднее, не к родным городам и весям, не к своим семьям лежал их путь, а в различные сортировки, то бишь лагеря, заботливо приготовленные к их прибытию. И не возгласы радости или слезы облегчения встречали их там, но подозрительные, настороженные лица, скудная пища, перекрестные допросы, протоколы дознания. Им не прощалось ничего – ни страх, ни слабость, ни сказанное ненароком, во гневе или отчаянии, слово – ничего…
А работенка с ними – опросы, допросы, вопросы, выяснения, и как следствие этого – признания, оговоры, доносы, разоблачения, большие и малые трагедии, – все это началось уже в дороге. Для этого с нами ехали славные ребята – работники «СМЕРШа»: наши полковые – скромный лейтенант и рубаха-парень косоглазый капитан, а также несколько человек со стороны. Они и нам предложили принять посильное участие в их «боевой» операции: сообщать, то есть, обо всех разговорах, слухах, толках, дошедших до наших ушей за время поездки. Думаю, никто у нас серьезно к этому не отнесся: не до того было. А впрочем, кто знает, отравление патриотизмом и бдительностью – похуже, чем от антифриза, который в суровые военные зимы иногда попивали наиболее неуемные бражники, вместо того, чтобы заливать в радиатор, после чего слепли, бедняги…
Итак, ночь я провел почти без сна. Поэтому к полудню, когда пригрело солнце, начал все чаще клевать носом за рулем «вандерера». Перед моими сонными глазами уходила вперед автострада, прямая и серая, как два широченных рельса, но разделенных не бурыми в масляных разводах шпалами, а сплошной зеленой полосой. Временами казалось, через этот рельс перекатываются воды реки, однако стоило подъехать ближе, река исчезала. Это был мираж.
Я задремывал, но каждый раз успевал вовремя выправить руль. Как вдруг – мне казалось, я даже глаз не прикрыл – Принц тревожно залаял, сзади громко засигналили, машину сильно тряхнуло, и когда я все же открыл глаза, то увидел, что почти все машины роты замерли на шоссе, а мой «вандерер» стоит боком посреди зеленой разделительной полосы, будто я собрался принимать парад проходящих войск. Ко мне уже бежали командир первого взвода, водители. С трудом вылез я из машины: свело ногу, которой во сне изо всех сил нажал на тормоз.
За баранку сел ротный писарь, мы двинулись дальше. Я сидел рядом с водителем и, как назло, не мог уснуть. Мимо неслись деревья, кусты, виадуки – ни одного перекрестка, ни одного населенного пункта; людей здесь тоже не должно было быть. Но они были: женщины, дети, старики… Они везли на тележках, в тачках, в колясках узлы, настольные лампы, картины – жалкий и трогательный домашний скарб. Шли медленно, не глядя на нас.
…Двадцатитрехлетний капитан жалости к ним не испытывал…
На Украине, куда мы прибыли, нас послали по районам в помощь колхозам и разным предприятиям. Моей роте досталось небольшое селение Каменка. Знаменито оно парком на берегу речки Тясмин, где сохранился так называемый Грот декабристов со строками, начертанными старинной вязью на каменной кладке: «Нет примиренья, нет условий между тираном и рабом. Рылеев». В этом гроте когда-то раздавались шаги и звучали голоса декабристов Волконского, Якушкина, Давыдова. Бывал здесь Пушкин, когда гостил по другую сторону дороги в Зеленом домике – имении Давыдовых. Здесь он писал своего «Кавказского пленника». Подолгу живал тут композитор Чайковский: после того, как его сестра стала женой Василия Давыдова, героя Бородинской битвы. Стены дома, возможно, до сих пор хранят в себе мелодии из «Мазепы» и «Евгения Онегина», впервые наигранные на рояле в хозяйском кабинете… Как ни удивительно, дом и сейчас был зеленого цвета; в нем находилась покликлиника и где-то, с другого входа, кабинет ветеринара.
Мы с помпотехом Ивасюком поселились в одном из мазаных белых домиков поселка у Варвары Федоровны – титки Варки, как ее называли. Было у нее две дочери – рыжая Вера и младшая, черненькая, Оля шестнадцати лет.
…Боже мой, Оля! Неужели тебе сейчас под пятьдесят?.. Ты стоишь на склоне холма у рылеевского грота, слушаешь, как он говорит, что возьмет тебя в Москву, глядишь на него черными огромными глазищами, в которых ни радости, ни удивления. Верила ты ему? А верил он сам в свои слова? Он говорил не для того, чтобы улестить тебя… Все у вас уже произошло… происходило каждый вечер в маленькой комнатке без двери, а напротив в большой комнате спала на печи… или не спала… твоя мать. Он был первым у тебя, двадцатитрехлетний капитан. Он часто бывал нетрезвым после ужина, за которым пили спирт, привезенный в канистре прямо с завода, – твоя мать, и он, и Петро Ивасюк, и твоя рыжая сестра Вера. Сестра работала при немцах, работала у немцев, что считалось тогда равнозначным работе на немцев. Может, поэтому пила так много, больше всех. Хотя никто в поселке не говорил о ней худого. Они часто ложились вместе с Петро в той же комнате, где и ты… Оля, Оля, Оля… Помнишь, как поехали с капитаном в соседний совхоз, обедали у директора, ленинградца? И как жена директора провозгласила тост за жену капитана – за тебя? А он, с рюмкой в руке, стал лепетать, что никакая ты не жена, что это так… ничего… просто… Ты ездила с матерью в Черкассы, он потом узнал – делать аборт, но ни слова ему, Оля, – никаких вопросов, упреков, просьб… А когда он переехал километров за сто и потом прислал за тобой машину, ты сразу приехала к нему… В роте тебя звали «капитаншей»… Как он скучал с тобой – и днем, и ночью!.. И попросил тебя уехать, и ты уехала – молча, так же, как приезжала, как ездила в Черкассы… Оля…