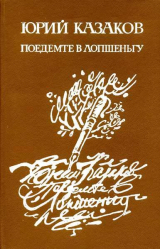
Текст книги "Поедемте в Лопшеньгу"
Автор книги: Юрий Казаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 45 страниц)
«В мае однажды я придумал на охоту на 60 верст ехать. Птиц чаек стрелять, яйца собирать. И поехал туда вечером. Подошел. Стал стрелять чаек, убил десяток. Одна упала под гору. Я пустился доставать чайку. И пошел. У меня в руках была длинная палка, чтобы придерживала: снег был твердый, днем было тепло, ночью мороз. Вдруг я упал. Так катился, – никакого ума не было. Уж думаю – теперь не жив. Отец найдет собак. У меня был длинный кинжал. В последний момент придумал кинжал вынуть. Я вынул. Изо всех сил в снег ударил. До черенка вошел в снег. Я остановился. Отдыхал тут. Потом я стал кругом смотреть: уж до ног волна хватает. Чуть в море не провалился! Ползком пополз наверх и пошел домой…»
Как просто, какими немногими обыденными словами рассказано о десятках случаев смертельной опасности! Вылка писал обо всем так, как, наверное, рассказывал об этом же своим соплеменникам, греясь у огня, после того как смерть в очередной раз дохнула ему в лицо. В самом деле, зачем живописать и без того всем известное? «Убил одного медведя по пути. Собак покормил. День был ясный. Мне одному скучно было. Морозы 50 или 45 градусов. Три дня я ехал домой. У меня градусник лопнул от мороза».
Наглядевшись на дочь и еще раз предав ее земле, бабушка забрала всех детей Миллера сначала в Мезень, а потом привезла их в Архангельск. Они приехали на последнем пароходе в конце сентября, а пароходы тогда ходили всего два раза в год. Троих детей бабушка определила в детский дом, а сама с Андреем уже по зимней дороге на лошадях вернулась в Мезень. На всю жизнь запомнилась Андрею эта зимняя дорога и как ночевали они в деревнях, как многолюдно, весело ему казалось в маленьких поморских деревушках после одиночества, заброшенности на Новой Земле.
Проучившись два года в Мезени, Андрей вернулся к отцу на Новую Землю и стал жить в губе Белушьей, где была тогда школа и где жил Вылка.
Вылка преподавал в школе рисование. Но разве только рисование! Перед Вылкой в классе сидело два десятка детей, – ненцев и русских, – два десятка маленьких граждан острова, на котором он родился, провел всю жизнь и председателем которого был теперь. Мог ли он не учить их всему тому доброму, что сам носил в своей душе.
– Любите землю, – говорил он, – это наша советская земля! Любите, не обижайте друг друга. Никогда не плачьте, знайте: суровая земля слабых не любит. А живете вы теперь лучше, чем жил я в детстве. О нас с вами заботится весь народ. Но и мы должны думать о народе и делать все так, чтобы все говорили: хорошо!
Он рисовал нарты, собак, ненцев, корабли, охотничьи сценки. Рисовал мелом на доске. Рисовал промысловые избы, выезды охотников…
Поучая, он всегда держал указательный палец торчком. На всю жизнь запомнился Андрею этот узловатый, короткий и толстый палец.
Тыко Вылка знал родителей всех своих учеников, и для каждого ребенка был праздник, когда Вылка начинал рассказывать о его отце. Зато и не было большего укора для какого-нибудь озорника, если Вылка принимался выговаривать:
– Если уцицься плохо будес, сказу отцу. Твой отец герой труда, хоросо промысляет, а ты сто, уроков не знаес?
В то время началось массовое освоение Севера, и Вылка горячо принимал к сердцу успехи наших полярников. Возле школы чернела на снегу копия палатки папанинцев, в классе на стене висела большая карта северного полушария, и Вылка собственноручно отмечал на ней дрейф первой нашей станции «Северный полюс».
Больше всех других праздничных дней Вылка любил праздник 1 Мая. Для него это был не только советский, пролетарский праздник – это был радостный день весны на Новой Земле, день подведения зимних итогов. Тьма отступала, и солнце все неохотнее склонялось к горизонту. Впереди были самые прекрасные на Севере летние дни, приход парохода, встречи с дорогими людьми…
И не было бо́льшего удовольствия для Вылки, чем готовиться к маёвке. За несколько дней до праздника чуть не со всего острова съезжались к островному Совету охотники. Вылка обязательно разговаривал с каждым, радовался зимней удаче или горевал вместе с охотником, если у того случилось зимой несчастье или неудача. Музыкальных инструментов на Новой Земле не было, но был барабан. И вот, возглавляемые отрядом пионеров, под громкий треск барабана все охотники острова шли к «Знаку» (так местное население называло морской створ). Там уже готова была трибуна, обитая кумачом, на трибуну поднимался Вылка… Надо ли говорить, как слушали его люди, в течение долгой зимы не видавшие человеческого лица, не слыхавшие ничьего голоса, кроме как своих близких!
А Вылка рассказывал о великом строительстве, идущем по всей стране, о переменах, которые скоро настанут и на Новой Земле, и слезы навертывались ему на глаза. Вспоминал ли он в такие минуты незабвенного своего друга Русанова, думал ли о том времени, когда никому во всем мире не было ровно никакого дела до того, как живут ненцы, есть ли у них продовольствие, и школа, и больница?
Зато после митинга, если на острове было все хорошо, Вылка любил повеселиться. Пел ненецкие песни своего сочинения. Выпить добрую чарку любил: «Чарка елый саво!» (чарка очень хорошо!) К каждому охотнику непременно заходил в гости, и сам любил угостить, любил смотреть, как люди едят. Ел он всю жизнь очень много, справедливо полагая, что без сытной еды человеку на Севере не прожить. Мог съесть в один присест (обурдать) целую холку оленя.
Уже в 1946 или 1947 году, вспоминает Миллер, Тыко Вылка был в Москве на приеме у Калинина. Ему удалось выхлопотать большую партию всевозможных машин и снаряжения для Новой Земли, и вернулся назад он очень довольный. Рассказывая новоземельцам о Москве, он всякий раз весело вспоминал, как ел в ресторане котлетку, съел – и ничего не почувствовал.
– На столе нет котлетки… и брюхе нет котлетки, – говорил он, заливаясь добродушным смехом.
Говорят, что однажды на приеме Калинин назвал Вылку Президентом Новой Земли. Сказано это было, конечно, в шутку, однако с легкой руки журналистов, любящих «броские» слова, этот титул так и укрепился за Вылкой. Даже и теперь, стоит только упомянуть имя Вылки в Архангельске, как тотчас в ответ услышишь: «А-а!.. Как же! Президент Новой Земли!»
Между тем «президент» слово несколько официальное, холодноватое. Президент – лицо, высоко стоящее над обществом, лицо труднодоступное.
Вылка же был прост и доступен. Вся жизнь его проходила на людях, он охотился, ел и спал вместе с ними, он хоронил их и принимал новорожденных. По-человечески он оставался всю жизнь прежним Тыко Вылкой, не меняя ни привычек своих, ни пристрастий. Очень ярко характеризуют Вылку-человека воспоминания недавно умершего Василия Дмитриевича Заборского.
– В 1922 году я был молодым боцманом и плавал на судне «Ярославна». Пароход это был небольшой, водоизмещением всего в две тысячи тонн, но по тогдашним временам это был гигант. Мы в то время делали регулярные рейсы на Новую Землю.
В первый же мой рейс к нам на пароход сел Тыко Вылка, который сопровождал с Новой Земли первую партию пушнины.
Потом вместо «Ярославны» на Новую стал ходить «Русанов». Не было случая, чтобы Вылка не отправлялся в Архангельск. Летом ехал в Архангельск, сдавал там пушнину, добывал снаряжение на зимний период и осенью, в сентябре, возвращался назад. Всю зиму он объезжал фактории и становища, промысловые избушки, собирал какие-то гербарии, коллекции, я уж теперь не помню какие, помогал всем, учил детишек в школе, а летом обязательно встречал нас.
На борт часто брал гагачьи яйца, сам очень любил и всю команду угощал. К пушнине относился как к драгоценности. Говорил, легче машину построить, чем добыть трех песцов.
На судне у нас всегда теснота была – собаки, грузы разные, народу много, зимовщики домой возвращались… Словом, другой раз и на палубе места не было. Но какая бы теснота ни была, Вылке всегда отводили отдельную каюту. Это стало уже традицией, так и говорили: каюта Вылки. Мы его все очень уважали. За что? Лично я его только на пароходе видел, в деле не видел, но его все любили, уважали, все зимовщики, промысловики, только и слышишь: Вылка сказал, Вылка обещал…
На пароходе он обычно целыми днями рисовал. Мы уже так и знали – как только Новая Земля скроется за горизонтом и все на палубе угомонятся, так Вылка сейчас же к себе в каюту, приготавливает там все свое хозяйство, всякие краски, картон – и затих. Значит, рисует. А то, слышно, песню свою запоет. Он любил петь. Но в каюте рисовал только в плохую погоду, а в хорошую – на верхнем мостике или на полубаке. Картины свои очень берег, любил всем показывать. Бывало, все спрашивал: «Хоросо?»
Плохие черты? Не знаю. Говорю, что помню: мы его все, и русские, и ненцы, очень любили, гордились им. Был справедливый, никого не обижал, все знали – раз решил, значит, решил правильно. Пожалуй, только двое на него сердились, как сейчас помню, по фамилии Журавлев и Лазарев, русские промысловики. Вылка их ущемлял при отводе мест для промысла. Ну, да они вечно охотились не на своих местах и вели себя грубо, нахально.
Вот не знаю, удалось ли ему, а был тогда у Вылки стратегический план переселить всех промысловиков на восточную сторону, как мы говорим, на Карскую сторону, там зверя было больше. Он, бывало, все об этом с нами толковал, очень увлекающийся человек был.
Как жил? По-своему жил. Там, на Новой, специально для него построили хороший дом с печкой, уютный, я там много бывал. Первым рейсом приходим, захожу – печка сломана, он ее разрушил, на деревянном полу самодельный очаг из кирпичей, топится по-черному. Дыму – как на пожаре. Вылка и все вокруг закопченное, как колбаса. Кстати, о еде… Ел очень много. Оленину, рыбу. Два-три килограмма мяса – как один бутерброд.
Курил постоянно, не помню его без папироски. Но не только курил, а еще и жевал табак. Не плиточный, не тот табак, что для жевания, а обычный, из папирос. Не вру! Меня угощал, но чаще жевал махорку. Жует и плюется.
Очень был радушный хозяин. Отказываться от угощения или там от выпивки и думать не смей – обижался по-настоящему.
Прекрасный охотник был. Думаю, лучший охотник из тогдашних промысловиков. Я уж не говорю о том, что он лучше всех нас стрелял. Главное – он все знал, чувствовал про зверя. Ребята поговаривали иной раз между собой – уж не колдует ли? – так знал, где зверю должно быть. Это у него, наверное, в крови было, природное.
Характер? Очень дружелюбный, мирный. Еще он был смелый – ничего не боялся, смерти не боялся. Но бывало, что и вспыливал, кричал, сердился, когда видел несправедливость или узнавал о плохом поступке. Но только это с него быстро сходило, злобы в нем не было. И умный был, много знал, испытал очень много. Повторяю, мы его очень уважали.
Про картины не знаю. Помню, они нравились нам, все очень похоже рисовал – льды, собак, чумы… Но я тогда его картины делом не считал, я про Вылку знал: охотник, хозяин Новой Земли, ну а на пароходе он вроде как бы отдыхал, почему не порисовать? Да и от него никогда не слышал, чтобы он о себе сказал: я художник! Может быть, от скромности? Да нет, навряд ли он думал о себе как о художнике…
Все-таки думал, всю жизнь думал о себе как о большом художнике, только никому не говорил, природная его скромность не позволяла ему выговорить тех слов, которые так часто и так легко выбалтывает наш язык.
В старости, в минуты печали говорил:
– Вот бы еще картин пять написать… А потом и догонять пойду…
– Кого догонять, Илья Константинович?
– Русанова…
Последние годы, отслужив в армии, Андрей Миллер встречался с Вылкой уже в Архангельске. В первый раз он встретил Вылку в краеведческом музее. Вылка вгляделся в него из-под руки – эта привычка смотреть из-под руки даже в комнате осталась у него с тех пор, когда глаза его слепил солнечный снег или блеск моря. Вылка узнал Миллера мгновенно.
– Мой питомес! – с удовольствием выговорил он.
Он знал всех новоземельцев в лицо, никогда ни с кем не путал. Он любил ходить по городу – от Вологодской до Поморской пешком, не любил ни трамваев, ни такси. Ходил большей частью один… О чем думал он в эти свои одинокие прогулки, что вспоминал?
Говорил:
– Живу хоросо, но сумно.
Жил он в деревянном доме вместе с женой Марьей Савватьевной. Тут уже порядки были другие, время его ценилось, и когда он работал, к нему не пускали. А работал он много. Теперь ему не нужно было уезжать в многодневные изнурительные путешествия, не нужно было охотиться, чтобы добыть себе пропитание, не нужно было навещать заброшенных в ледяной пустыне промысловиков…
Зато в свободное время гостям бывал всегда рад. Держа руки за спину, выбегал мелким шагом в прихожую смотреть: кто пришел? На вопрос «Как поживаете, Илья Константинович?» отвечал неизменно:
– Хоросо. Сейчас пису. Рисую.
Все стены его мастерской были увешаны картинами. Берега Новой Земли Вылка знал так хорошо, так подробно, а память его была столь остра, что ему теперь не нужна была натура – он писал по памяти, и старые новоземельцы сразу узнавали места, изображенные им.
Заболев, почувствовав, что умирает, Вылка стал мужественно готовиться к смерти. Он собрал, вымыл и сложил свои кисти. Пел старинные ненецкие песни, которых уже никто, кроме него, не помнил. Ходил в гости к друзьям, прощался.
– Просяйте! – кротко говорил он и низко кланялся.
– Далеко ли собрались, Илья Константинович?
– Да пока в больнису. А потом наверно дальсе.
И добавлял:
– Пойду искать Русанова. И опять мы с ним будем идти в холодных льдах…
Говорил еще старым друзьям:
– Будьте новоземельцами, будьте крепкими, как Север!
Андрей Миллер вспоминает:
– Когда я узнал в сентябре 1960 года о смерти Вылки, мне даже нехорошо стало. Никак не думал, что это так на меня подействует. Ведь я ему жизнью обязан! Пошел на похороны, как положено. У нас, новоземельцев, есть земляческий обычай: собираться всем вместе, если кто из наших умрет. Когда Вылка умер, у меня были срочные дела, но я все бросил, поехал хоронить. Это было для меня важнее всего. Вынос тела был из городской больницы. Состоялась панихида. Он в гробу лежал маленький и как бы круглый такой, не подберу слова… Мы спросили, а где его ордена и медали? Марья Савватьевна говорит: «Ой, забыли! Срочно надо ехать домой!» Поехали за орденами… Мы все плакали. Моросил сентябрьский кислый дождь. Мы вынесли Вылку, понесли гроб на руках до Главной улицы, с полкилометра. Потом гроб положили на машину. Я шел и вспоминал все, что сделал мне Вылка, такая тоска была, как будто отца хоронил!
В 1911 году в Москве, зимой, сидя в теплой мастерской В. Переплетчикова, молодой Вылка записал нетвердой в русской грамоте рукой: «Тому назад 35 лет мой отец, Константин Вылка, через Карские ворота перешел на Новую Землю своим карбасом со своим родным племянником. У моего отца мать была; глаза ничего не видели. Отец был холостой. Он был бедный. Поселился на Новой Земле и женился. И родился я на Новой Земле».
1972
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

О МУЖЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ
Я сидел наверху этой истоптанной, зажитой, наполненной разными моряками и экспедициями, замусоленной прекрасной архангельской гостиницы (в старом ее крыле), в нашем номере, среди развороченных рюкзаков, разбросанных вещей, среди всех этих сапог, пачек сигарет, бритв, ружей, патронов и всего прочего, после тяжелого, ненужного спора о литературе, сидел возле окна, грустно подперся, а было уж поздно, в который раз пришла смиренная белая ночь и вливалась в меня, как яд, звала еще дальше, и хоть я и зол был, но зато хорошо, весело становилось от мысли, что завтра нам нужно устраиваться на зверобойной шхуне, чтоб идти потом к Новой Земле и еще дальше, куда-то в Карское море.
И я все глядел из окна вдаль, поверх крыш, на светлый горизонт с легкими розовыми облаками. На Двине, там и сям проблескивающей между крышами, черно стояли на рейде громадные лесовозы, слабо мигали своими топовыми огнями, иногда сипел пар, глухо бормотали работающие винты, тявкали, как собаки, высокие сирены буксиров, и мощно и грустно гудели прощальные гудки.
Внизу шуршали редкие уже автомашины, погромыхивали еще реже трамваи. Внизу шумел, гудел в этот час ресторан, наяривал, пиликал и колотил оркестрик (тогда там играли по вечерам какие-то пенсионы), и мне хорошо он был слышен, хоть и выходили во двор ресторанные окна. Внизу несменяемый, вечный дядя Вася не пускал в ресторан разных прохиндеев, алчущих шикарной жизни, а в ресторане сидел в этот час счастливый мой друг-приятель с румынскими циркачами, говорил с ними по-испански и по-эскимосски, а я был один, все вспоминал, как мы только что спорили внизу о литературе с местным знатоком, и думал о мужестве писателя.
Писатель должен быть мужествен, думал я, потому что жизнь его тяжела. Когда он один на один с чистым белым листом бумаги, против него решительно все. Против него миллионы написанных ранее книг – просто страшно подумать! – и мысли о том, зачем же еще писать, когда про все это уже было. Против него головная боль и неуверенность в себе в разные дни, и разные люди, которые в эту минуту звонят к нему или приходят, и всякие заботы, хлопоты, дела, как будто важные, хотя нет для него в этот час дела важнее того, которое ему предстоит. Против него солнце, когда тянет выйти из дому, вообще поехать куда-нибудь, что-то такое повидать, испытать какое-то счастье. И дождь против него, когда на душе тяжело, пасмурно и не хочется работать.
Везде вокруг него живет, шевелится, кружится, идет куда-то весь мир. И он, уже с рождения, захвачен этим миром в плен и должен жить вместе со всеми, тогда как ему надо быть в эту минуту одному. Потому что в эту минуту возле него не должно быть никого – ни любимой, ни матери, ни жены, ни детей, а должны быть с ним одни его герои, одно его слово, одна страсть, которой он себя посвятил.
Когда писатель сел за чистый белый лист бумаги, против него сразу ополчается так много, так невыносимо много, так все зовет его, напоминает ему о себе, а он должен жить в какой-то своей выдуманной жизни. Какие-то люди, которых никто никогда не видел, но они все равно как будто живы, и он должен думать о них, как о своих близких. И он сидит, смотрит куда-нибудь за окно или на стену, ничего не видит, а видит только бесконечный ряд дней и страниц позади и впереди, свои неудачи и отступления – те, которые были и которые будут, – и ему плохо и горько. А помочь ему никто не может, потому что он один.
В том-то вся и штука, что ему никто никогда не поможет, не возьмет ручку или машинку, не напишет за него, не покажет, как надо писать. Это он должен сам. И если он сам не может, значит, все пропало – он не писатель. Никому нет дела до того, болен ты или здоров, за свое ли ты дело взялся, есть ли у тебя терпение – это наивысшее мужество. Если ты написал плохо, тебя не спасут ни звания, ни награды, ни прошлые успехи. Звания иногда помогут тебе опубликовать твою плохую вещь, друзья твои поторопятся расхвалить ее, и деньги ты за нее получишь, но все равно ты не писатель…
Нужно держаться, нужно быть мужественным, чтобы начать все сначала. Нужно быть мужественным, чтобы терпеть и ждать, если талант твой вдруг уйдет от тебя и ты почувствуешь отвращение при одной мысли сесть за стол. Талант иногда уходит надолго, но он всегда возвращается, если ты мужествен.
Настоящий писатель работает по десять часов в день. Часто у него застопоривает, и тогда проходит день, и еще день, и еще много дней, а он не может бросить, не может писать дальше и с бешенством, почти со слезами чувствует, как проходят дни, которых у него так мало, и проходят впустую.
Наконец он ставит точку. Теперь он пуст, настолько пуст, что уже не напишет больше никогда ни слова, как ему кажется. «Ну что ж, – может сказать он, – зато я сделал свою работу, вот она лежит у меня на столе, пачка исписанной бумаги. И ничего такого до меня не было. Пусть до меня писали Толстой и Чехов, но это написал я. Это другое. И пусть у меня хуже, но все-таки и у меня здорово, и ничего еще не известно, хуже там или не хуже. Пусть попробует кто-нибудь, как я!»
Когда работа сделана, писатель может так подумать. Он поставил точку и, значит, победил самого себя, такой короткий радостный день! Тем более что скоро ему начинать новую вещь, а теперь ему нужна радость. Она ведь так коротка.
Потому что он вдруг видит, что, скажем, весна прошла, что пронеслось над ним огромное время с того момента, когда в начале апреля, ночью, на западе собрались черные тучи, и из этой черноты неутомимо, ровно и мощно задул теплый ветер, и снег стал ноздреть. Прошел ледоход, прошла тяга, отгремели ручьи, отдымила первая зелень, и колос налился и пожелтел – целый век прошел, а он прозевал, не видал ничего этого. Сколько случилось в мире за это время, сколько событий со всеми людьми, а он только работал, только клал перед собой все новые белые листы бумаги, только и видел свету, что в своих героях. Этого времени ему никто не вернет, оно прошло для него навсегда.
Потом писатель отдает свою вещь в журнал. Возьмем лучший случай и предположим, что вещь его берут сразу, с радостью. Писателю звонят или посылают телеграмму. Поздравляют его. Хвастают его вещью перед другими журналами. Писатель едет в редакцию, входит туда свободно, шумно. Все рады его видеть, и он рад, такие все милые люди. «Дорогой! – говорят ему. – Даем! Даем! Ставим в двенадцатый номер!» А двенадцатый номер – это декабрь. Зима. А теперь лето…
И все добро смотрят на писателя, улыбаются, жмут ему руку, хлопают по плечу. Все как-то уверены, что у писателя пятьсот лет жизни впереди. И что полгода ждать для него, как шесть дней.
Для писателя начинается странная, тягостная пора. Он торопит время. Скорей, скорей бы прошло лето. И осень, к черту осень! Декабрь – вот что ему нужно. Писатель изнемогает в ожидании декабря.
А уж он опять работает, и опять у него то получается, то нет, год прошел, колесо повернулось в который раз, и опять дохнет апрель, и в дело вступила критика – расплата за старую вещь.
Писатели читают критику на себя. Это неверно, будто бы некоторые писатели не интересуются тем, что о них пишут. И вот когда им нужно все их мужество. Чтобы не обижаться на разносы, на несправедливость. Чтобы не озлобиться. Чтобы не бросать работы, когда очень уж ругают. И чтобы не верить похвалам, если хвалят. Похвала страшна, она приучает писателя думать о себе лучше, чем он есть на самом деле. Тогда он начинает учить других, вместо того чтобы учиться самому. Как бы хорошо он ни писал свою очередную вещь, он может еще лучше, надо только быть мужественным и учиться.
Но не похвалы или разносы самое страшное. Самое страшное – когда о тебе молчат. Когда у тебя выходят книги и ты знаешь, что это настоящие книги, но о них не вспоминают, – вот когда надо быть сильным!
Литературная правда всегда идет от правды жизни, и к собственно писательскому мужеству советский писатель должен прибавить еще мужество летчиков, моряков, рабочих – тех людей, кто в поте лица меняет жизнь на земле, тех, о ком он пишет. Ведь он пишет по возможности о самых разнообразных людях, обо всех людях, и он должен их всех повидать сам и пожить с ними. На какое-то время он должен стать, как они, геологом, лесорубом, рабочим, охотником, трактористом. И писатель сидит в кубрике сейнера вместе с моряками, или идет с партией через тайгу, или летает с летчиками полярной авиации, или проводит суда Великим Северным путем.
Советский писатель должен помнить еще, что зло существует на земле, что физическое истребление, лишение элементарных свобод, насилие, унижение, голод, фанатизм и тупость, войны и фашизм существуют. Он должен по мере своих сил протестовать против всего этого, и его голос, возвышенный против лжи, фарисейства и преступлений, есть мужество особого рода.
Писатель, наконец, должен стать солдатом, если понадобится, мужества его должно хватить и на это, чтобы потом, если он останется в живых, опять сесть за стол и опять оказаться один на один с чистым листом бумаги.
Мужество писателя должно быть первого сорта. Оно должно быть с ним постоянно, потому что то, что он делает, он делает не день, не два, а всю жизнь. И он знает, что каждый раз начнется все сначала и будет еще трудней.
Если писателю не хватит мужества – он пропал. Он пропал, даже если у него есть талант. Он станет завистником, он начнет поносить своих собратьев. Холодея от злости, он будет думать о том, что его не упомянули там-то и там-то, что ему не дали премию… И тогда он уже никогда не узнает настоящего писательского счастья. А счастье у писателя есть.
Есть все-таки в его работе минуты, когда все идет, и то, что вчера не получалось, сегодня получается без всяких усилий. Когда машинка трещит, как пулемет, а чистые листы закладываются один за другим, как обоймы. Когда работа легка и безоглядна, когда писатель чувствует себя мощным и честным.
Когда он вдруг вспоминает, написав особенно сильную страницу, что сначала было слово и слово было бог! Это бывает редко даже у гениев, но это бывает всегда только у мужественных, награда за все труды и дни, за неудовлетворенность, за отчаяние – эта внезапная божественность слова. И, написав эту страницу, писатель знает, что потом это останется. Другое не останется, а эта страница останется.
Когда он понимает, что надо писать правду, что только в правде его спасение. Только не надо думать, что твою правду примут сразу и безоговорочно. Но ты все равно должен писать, думая о бесчисленных неведомых тебе людях, для которых ты в конце концов пишешь. Ведь пишешь ты не для редактора, не для критика, не для денег, хотя тебе, как и всем, нужны деньги, но не для них ты пишешь в конечном итоге. Деньги можно заработать как угодно, и не обязательно писательством. А ты пишешь, помня о божественности слова и о правде. Ты пишешь и думаешь, что литература – это самосознание человечества, самовыражение человечества в твоем лице. Об этом ты должен помнить всегда и быть счастлив и горд тем, что на долю тебе выпала такая честь.
Когда ты вдруг взглянешь на часы и увидишь, что уже два или три, на всей земле ночь, и на огромных пространствах люди спят или любят друг друга и ничего не хотят знать, кроме своей любви, или убивают друг друга, и летят самолеты с бомбами, а еще где-нибудь танцуют, и дикторы всевозможных радиостанций используют электроэнергию для лжи, успокоения, тревог, веселья, для разочарований и надежд. А ты, такой слабый и одинокий в этот час, не спишь и думаешь о целом мире, ты мучительно хочешь, чтобы все люди на земле стали наконец счастливы и свободны, чтобы исчезли неравенство, войны, и расизм, и бедность, чтобы труд стал необходим всем, как необходим воздух.
Но самое главное счастье в том, что ты не один не спишь этой глубокой ночью. Вместе с тобой не спят другие писатели, твои братья по слову. И вместе вы хотите одного – чтобы мир стал лучше, а человек человечнее.
У тебя нет власти перестроить мир, как ты хочешь, как нет ее ни у кого в отдельности. Но у тебя есть твоя правда и твое слово. И ты должен быть трижды мужествен, чтобы, несмотря на все свои несчастья, неудачи и срывы, все-таки нести людям радость и говорить без конца, что жизнь должна быть лучше.
1966








