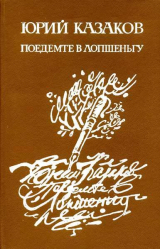
Текст книги "Поедемте в Лопшеньгу"
Автор книги: Юрий Казаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 45 страниц)
Она была, правда, грустна и рассеянна и все отставала, но он не понимал ничего, а думал, что это она от усталости. Он останавливался, поджидая ее, а когда она догоняла и смотрела на него с каким-то укором, с каким-то необычным выражением, он спрашивал осторожно – он-то знал, как неприятны спутнику такие вопросы:
– Ты не устала? А то отдохнем.
– Что ты! – торопливо говорила она. – Это я так просто… Задумалась.
– Ясно! – говорил он и продолжал путь, но уже медленней.
Солнце стало низко, и только одни поля на вершинах холмов сияли еще; леса же, долины и овраги давно стали сизеть и глохнуть, и по-прежнему по необозримому пространству лесов и полей двигались две одинокие фигурки – он впереди, она сзади, и ему было приятно слышать сзади шуршание снега под ее лыжами и чирканье палок.
Однажды в розовом сиянии за лесом, там, где зашло уже солнце, послышался ровный рокот моторов, и через минуту показался высоко самолёт. Он был один озарен еще, солнечные блики вспыхивали на его фюзеляже, и хорошо было смотреть на него снизу, из морозной сумеречной тишины, и воображать, как в нем сидят пассажиры и думают о конце своего пути, о том, что скоро Москва и кто их будет встречать.
В сумерки они наконец добрались до места. Потопали заледенелыми ботинками на холодной веранде, отомкнули дверь, вошли. В комнате было совсем темно и казалось холоднее, чем на улице.
Она сразу легла, закрыла глаза. Дорогой она разгорячилась, вспотела, теперь стала остывать, озноб сотрясал ее, и страшно было пошевелиться. Она открывала глаза, видела в темноте дощатый потолок, видела разгорающееся пламя в запотевшем стекле керосиновой лампочки, зажмуривалась – и сразу начинали плавать, сменять друг друга желто-зеленое, белое, голубое, алое – все цвета, на которые нагляделась она за день.
Он доставал из-под террасы, носил дрова, грохал возле печки, шуршал бумагой, разжигал, кряхтел, а ей не хотелось ничего, и она была не рада, что поехала с ним в этот раз.
Печка накалилась, стало тепло, можно было раздеться. Он и разделся, снял ботинки, носки, развесил все возле печки, сидел в нижней рубахе, довольный, жмурился, шевелил пальцами босых ног, курил.
– Устала? – спросил он. – Давай раздевайся!
И хоть ей не хотелось шевелиться, а хотелось спать от грусти и досады, она все-таки послушно разделась и тоже развесила сушить куртку, носки, свитер, осталась в одной мужской ковбойке навыпуск, села на кровать, опустила плечи и стала глядеть на лампу.
Он сунул ноги в ботинки, накинул куртку, взял ведро, которое на веранде, когда он вышел, вдруг певуче зазвенело. Вернувшись, он поставил на печку чайник, стал рыться в рюкзаке, доставал все, что там было, и раскладывал на столе и подоконнике.
Она молча дождалась чаю, налила себе кружку и потом тихо сидела, жевала хлеб с маслом, грела горячей кружкой руки, прихлебывала и все смотрела на лампу.
– Ты что молчишь? – спросил он. – Какой сегодня день был! А?
– Так… Устала я страшно сегодня. – Она встала и потянулась, не глядя на него. – Давай спать!
– И это дело, – легко согласился он. – Погоди, я дров подложу, а то дом настыл…
– Я сегодня одна лягу, можно вот здесь, у печки? Ты не сердись, – торопливо сказала она и опустила глаза.
– Что это ты? – удивился он и сразу вспомнил весь ее сегодняшний грустно-отчужденный вид, а вспомнив, озлобился, и сердце у него больно застучало.
Он понял вдруг, что совсем ее не знает: как она там учится в своем университете, с кем знакома и о чем говорит. И что она для него загадочна, как и в первую встречу, не знакома, – что он, наверное, груб и туп для нее, потому что не понимает, что ей нужно, и не может сделать так, чтобы она была постоянно счастлива с ним, чтобы ей уж ничего и никого не нужно было.
И ему стало сразу стыдно за весь сегодняшний день, за эту жалкую дачу, и печку, и даже почему-то за мороз, и солнце, и за свой покой – зачем ехали, зачем все это нужно? И где же это хваленое проклятое счастье?
– Ну что ж… – сказал равнодушно и перевел дух. – Ложись, где хочешь.
Не взглянув на него, не раздеваясь, она сразу легла, накрылась курткой и стала смотреть в печку на огонь. Он перешел на другую кровать, сел, закурил, потом потушил лампу и лег. Горько ему стало, потому что он чувствовал: она от него уходит. Что-то не выходило у них со счастьем, но что, он не знал и злился.
Через минуту он услышал, что она плачет. Он привстал, посмотрел через стол на нее. От печки было довольно светло, а она лежала ничком, глядела на пылающие дрова, и он видел ее несчастное, залитое слезами лицо, жалко и некрасиво кривящиеся, дрожащие губы и подбородок, мокрые глаза, которые она все вытирала тонкой рукой.
Отчего ей сегодня стало вдруг так тяжело и несчастливо? Она и сама не знала. Она чувствовала только, что пора первой любви прошла, а теперь наступает что-то новое, и прежняя жизнь ей стала неинтересна. Ей надоело быть никем перед его родителями, дядьями и тетками, перед его друзьями и своими подругами, она хотела стать женой и матерью, а он не видит этого и вполне счастлив так. Но и смертельно жалко было первого тревожного времени их любви, когда было все так неясно и неопределенно, зато незнакомо, горячо и полно ощущением новизны.
Потом она стала засыпать, и ей пригрезилась снова ее давнишняя мечта, с которой она засыпала каждый раз еще девочкой. Что будто бы он сильный и мужественный и любил ее, а она его тоже любила, но почему-то говорила «нет», и он уехал далеко на север и стал рыбаком, а она страдала. Он там охотился в прибрежных скалах, прыгал с камня на камень, сочинял музыку, выходил в море ловить рыбу и думал все время о ней. Однажды она поняла, что счастье у нее только с ним: все бросила и поехала к нему. Она была так красива, что все ухаживали за ней дорогой: летчики, шоферы, моряки, – но она никого не видела, а думала только о нем. Встреча с ним должна была быть такой необыкновенной, что страшно было даже вообразить. И придумывались все новые и новые задержки, чтобы как-то отдалить эту минуту. Так она и засыпала обыкновенно, не встретившись с ним.
Давно уже не думала она на сон ни о чем подобном, а сегодня почему-то опять захотелось помечтать. Но и сегодня, в то время, когда она уже ехала на попутном мотоботе, мысли ее стали мешаться, и она уснула.
Проснулась она ночью оттого, что было холодно. Он сидел на корточках и растапливал остывшую печку. Лицо у него было грустное, и ей стало его жалко.
Утром они помолчали сначала, молча завтракали, пили чай. Но потом повеселели, взяли лыжи и пошли кататься. Они взбирались на горы, съезжали, выбирая все более крутые и опасные места.
Дома они грелись, говорили о незначительном, о делах, о том, какая все-таки хорошая зима в этом году. А когда стало темнеть, собрались, заперли дачу и пошли на лыжах на станцию.
К Москве они подъезжали вечером, дремали, но когда показались большие дома, ряды освещенных окон, он подумал, что сейчас им расставаться, и вдруг вообразил ее своей женой.
Что ж! Первая молодость прошла, то время, когда все кажется простым и необязательным – дом, жена, семья и тому подобное, – время это миновало, уже тридцать, и что в чувстве, когда знаешь, что вот она рядом с тобой, и она хороша и всё такое, а ты можешь ее всегда оставить, чтобы так же быть с другой, потому что ты свободен, – в этом чувстве, собственно, нет никакой отрады.
Завтра целый день в юридической консультации, писать кассации, заявления, думать о людских несчастьях, в том числе и о семейных, а потом домой – к кому? А там лето, долгое лето, всякие поездки, байдарка, палатка – и опять – с кем? И ему захотелось быть лучше и человечнее и делать все так, чтобы ей было хорошо.
Когда они вышли на вокзальную площадь и горели фонари, шумел город, а снег уже успели убрать, увезти, – они оба почувствовали, что их поездки как бы и не было, не было двух дней вместе, что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе и встретиться придется, может быть, дня через два или три. Им обоим стало как-то буднично, покойно, легко, и простились они, как всегда прощались, с торопливой улыбкой, и он ее не провожал.
1962
ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ
1
Пролетая разъезды и полустанки, не останавливаясь даже на многих больших станциях, поезд мчится на север. И во всем поезде нет на этот раз человека счастливее, чем Василий Панков.
Пять лет не был Василий дома и ничего не писал о себе.
Да и о чем писать? Живет он легко, любит переезды, дальнюю дорогу, незнакомые города. Привык к вокзалам с неизменными специфическими запахами, к транзитным кассам, к районным гостиницам, общежитиям…
Бродяга по натуре, он редко вспоминает о тех местах, где пришлось ему побывать. Вновь его туда не тянет, даже не все эти места он и помнит хорошо. Так много городов он повидал, поселков, глухих мест – где же запомнить!
Два последних месяца он работал на монтаже турбинного котла, перевыполняя нормы, торопясь кончить работу до срока. На пологом голом берегу реки, рядом с лесозаводом, с огромными штабелями выкатанного леса, торчало недостроенное кирпичное здание электростанции. Крыши не было еще, были только лебедки, трубы котла – изогнутые, похожие на скелет огромного доисторического животного. Были связки тросов и канатов, бревна, балки наверху, на фоне бледно-синего неба, и целый день солнце, солнце… И пыль, и пот, крики рабочих, спешка, ругань, шипение автогенной сварки, частый гулкий стук пневматических молотов, запах карбида, опилок и шлака, липкого от нефти.
Настало время подъема смонтированного и опрессованного котла. Комиссия сомневалась в прочности тросов и лебедок, и Панков, взявший ответственность на себя, бледный, несмотря на смуглоту, стоял на мостике, слушал скрип тросов, блоков, щелкающий треск лебедок, облизывая пересохшие губы, смотрел на еле двигавшийся вверх и застывавший скелет котла. А рядом с ним стояли и смотрели, стискивая зубы, и хрипло дышали все одиннадцать человек, вся его бригада.
2
На другой день бригаде вручали Почетные грамоты, а вечером он напился, с кем-то дрался, с кем-то целовался, плакал, хотел топиться и утром, проснувшись в общежитии, избитый, в изодранной рубахе, с больной головой, долго не мог прийти в себя и не мог ничего припомнить из вчерашнего.
Теперь он едет домой. Он в том легком расположении духа, когда все кажется простым и прекрасным, когда ни малейшая забота не омрачает жизни. Нет теперь у Панкова никаких желаний, кроме желания отдохнуть, пожить дома, отоспаться на сеновале, попьянствовать, поиграть на гармошке – словом, у него отпуск!
Думает он только о деревне, перебирает в памяти всех деревенских, вспоминает их голоса, язык, походку, лица… Повидать их всех – вот что с радостью предвкушает он. О своей недавней работе, о монтаже котла Панков не вспоминает.
На другой день Василий Панков выпивает коньяку на какой-то станции и возвращается в вагон веселый, беспрестанно улыбаясь и играя глазами.
Василий русоголов и странно смугл лицом и телом – в деревне его все зовут Копченым. Глаза у него серые, веселые, нагловатые. Вообще же он весь подборист, суховат и щеголеват: любит шелковые рубашки, галстуки и нарочно шьет себе широкие внизу брюки. И знает, конечно, о себе, что нравится девушкам.
Сближается он с ними быстро, но так же быстро и расходится: они ему надоедают. Про себя он решил давно, что женится в двадцать восемь лет и непременно на своей деревенской. Он уверен, что мать уж присмотрела ему двух-трех невест, что все они хороши: здоровы, красивы, из хороших семей, где нет ни пьяниц, ни придурков в роду. Так женились его отец и дед, его старшие братья и соседи, так женится и он.
После коньяка Василий быстро пьянеет, громко хохочет, громко говорит, обращаясь ко всем без разбору, к соседям, к проводникам, к старым и молодым.
– Мамаша! – говорит он. – Вы, конечно, меня извините… Извините! Я – как стеклышко! Ну, выпил, правда… А разве есть такой закон, чтобы не пить? Кто я? Строитель! Да? Мамаша! Меня в Москву звали – полторы сотни оклад, да? А я у себя в командировках больше заработаю, да? Не веришь, мамаша?
И он невнятно толкует о заработках, о каких-то инженерах, презирая их дипломы и образование, презирая вообще культуру, выше всего ставя опыт, хвастаясь своей необходимостью. В соседнем купе начинают играть в подкидного. Василий идет туда, тоже садится, но играет плохо, путает ходы, роняет карты и все говорит, с восторгом вспоминая какого-то однорукого, как он с ним играл и как однорукий ловко сдавал карты и помнил все ходы.
В вагон входит чернявый полненький человек в белом халате, с розовым гладким лицом, с золотыми зубами и маслянистым блеском глаз. Он останавливается в вагоне посередине прохода и говорит звучным, сытым баритоном, быстро всех оглядывая и быстро улыбаясь заученной золотой холодной улыбкой, портящей его сытое красивое лицо.
– Дорогие товарищи! Наш ресторан к вашим услугам! Что? Перебивать будете потом! Холодные и горячие закуски! Большой ассортимент вин…
Встрепенувшись, Василий Панков тотчас идет в вагон-ресторан, качаясь на переходных площадках, не закрывая за собой дверей, толкая пассажиров. В ресторане он опять пьет коньяк, еще больше пьянеет, знакомится с кем-то из другого вагона, идет с ним туда, приглашает его к себе в деревню, всех перебивает, пытается что-то рассказать, хочет казаться умнее, образованнее, чем на самом деле, но пьяная глупая серость так и прет из него.
Часа через два он возвращается в свой вагон, присаживается к шахматистам, подсказывает, мешает им, потом играет сам. Утомив и выведя из себя партнера, он начинает ходить по вагону.
– Ну, с кем сыграем? – громко предлагает он. – На сто пятьдесят грамм! Даю форы: ладью… Ну? Кто желает?
Никто не хочет с ним играть.
– Никто не желает? Слабаки вы все против меня! Эй, курчавый! – обращается он к совершенно плешивому толстяку. – Сыграем, курчавый, тебе я две ладьи уступлю, а?
Тот отворачивается к окну, делает вид, что не слышит. Шея его наливается кровью.
– Седой, а? – не унимается Василий. – На двести пятьдесят, а? Не желаешь? Обиделся, седой, а? Извините… Извините!
Какая-то девушка, которой Василий нравится, не выдерживает и прыскает. Приободренный Василий, чувствуя, что все обращают на него внимание, начинает еще пуще ломаться, ему весело, ему кажется, что он ужасно остроумен. Он каламбурит, говорит присказками, поговорками – дорожными, стертыми и пошлыми. Наконец он все-таки устает, замолкает и скоро засыпает на своей полке. Спит он, свесив руку, раскрыв рот, пуская слюну на подушку и громко всхрапывая.
А поезд между тем все мчится и мчится на север; день проходит быстро. Меркнет небо за окном, темнеют поля, леса становятся сумрачными, заря бледнеет и гаснет.
Скоро в вагоне зажигают свет, начинают разносить чай, и незаметно наступает вторая ночь в дороге.
3
Хорошо ехать ночью в поезде!
Вздрагивает, качается вагон на стыках рельсов, неярко горят матовые лампочки под потолком. Скажет кто-то невнятное слово во сне, слезет кто-нибудь с полки, сядет у окна, закурит, задумается. Все приглушено в этот час, все тихо, только внизу длинный гул и перестук колес.
А за окнами темная, безлунная ночь. Промелькнет изредка слабый огонек в путевой будке обходчика, проплывет мимо, как видение, глухой полустанок с непонятным названием, с единственным фонарем на перроне и березами в палисаднике, и снова подступает к окнам непроглядная мгла, и не понять, лес ли за окном, поле ли.
Промчится с пронзительным гудком встречный поезд, рванутся, затрепещут под напором ветра занавески, плотной струей пронесутся мимо освещенные окна, искрой мелькнет красный фонарь на заднем вагоне. И странно тогда думать, что в прогудевшем минуту назад встречном поезде тоже едут люди, едут туда, откуда ты, может быть, только вчера уехал, так же сидят в вагонах, негромко разговаривая, мечтают о чем-нибудь, или спят – и снятся им особенные сны, – или смотрят в окна, и у каждого своя судьба за плечами, у каждого своя жизнь впереди. Кто все эти люди? Куда едут они, что им снится, о чем так глубоко задумываются, о чем говорят и чему смеются?
Хорошо ехать ночью в поезде!..
Хорошо думать о том, что мимо проплывают темные деревни, озера, стога, глухие сторожки и реки, которые угадываешь только по гулу мостов.
Появится где-то в неизмеримой черной дали дрожащая красная точка костра, долго держится почти на одном месте, потом погаснет, заслоненная косогором или лесом. Или вынырнет откуда-то автомашина, бежит рядом с поездом, перед ней прыгает светлое пятно от фар, но и машина мало-помалу отстает, и вот уже снова темно…
Сколько же земли осталось за тобой, сколько деревень, станций промчалось мимо, пока ты спишь или думаешь! И в этих деревнях, на этих станциях живут люди, которых ты не видел и не увидишь никогда, о жизни и смерти которых ничего не узнаешь, так же как не узнают и они о тебе.
Как сожмется сердце от мысли, что великое, непостижимое множество судеб, горя и счастья, и любви, и всего того, что мы вообще зовем жизнью, тебе никогда не придется увидеть!
Стучат колеса, и ты едешь навстречу новому, неизвестному, и то, что было вчера, все позади, все прожито! Как много думается обо всем этом под равномерный стук колес, под гул быстрого движения!..
4
Василий Панков просыпается в час ночи. С минуту он тупо размышляет о том, куда и зачем едет, потом все вспоминает и немного оживляется. Голова у него болит, но уже поздно, все закрыто, и негде опохмелиться. Тем не менее с каждой минутой он все веселеет: скоро его станция! Закурив, он выходит на площадку, открывает наружную дверь и крепко хватается за поручни.
В лицо ему бьет ветер, дергает волосы, выдувает из глаз слезы. По траве, по кустам, по телеграфным столбам прыгают желтые пятна света из окон. Впереди при поворотах видны скрученные снопы искр от паровоза, быстро раскручивающиеся и тающие в темноте. Наверху, в глубоком пепельном небе, светятся бесконечные звезды, сияет, дымится Млечный Путь, а к северу – будто бездонный провал: нет звезд, и ничего нет, одна глухая черная пустота.
Панкову радостно. Сколько километров осталось до дому? Три? Пять? Он дышит глубоко и трудно, с усилием выталкивая из груди плотный воздух, но не хочет отвернуться, не хочет уйти в вагон.
А черная пустота все надвигается, теперь только над головой горят звезды, а Василий все не может понять, что это такое. Но вот в лицо ему бьют первые сильные капли дождя, ветер холодеет, и тут только Василий понимает: то, что раньше казалось пустотой, было на самом деле дождевой тучей. Он отступает в глубь площадки, вытирает мокрое лицо холодной рукой и идет в вагон.
В вагоне душно. Панков останавливается возле своей полки, смотрит вдоль длинного, слабо освещенного прохода с торчащими с полок ногами, пробует свои чемоданы и, подумав, надевает пыльник и шляпу.
Хлопнув дверью, выходит на площадку проводница. Поезд начинает притормаживать.
– Торбеево! – говорит проводница, возвращаясь. – Кто до Торбеева?
Василий встает, одергивает пыльник, поправляет шляпу, торопливо закуривает, снимает тяжелые чемоданы и, задевая за ноги спящих, тащит к выходу.
– Ну вот… приехали! – радостно бормочет он проводнице и спешит выходить.
На станции дует свежий ветер с мелкой пылью дождя. Панков спускается на землю, ставит чемоданы, смотрит вперед, потом оборачивается назад: никого не видно. На земле, на лужах лежат квадраты света из окон поезда. Проводница тоже спрыгивает на землю, быстро оглядывается, будто навсегда хочет запомнить эти лужи, запах чистой мокрой травы, черные телеграфные столбы.
– Что, не встречают? – весело спросила она Панкова, ожидая услышать от него тоже веселый ответ.
Но Василий хмуро молчит. Он растерян и встревожен. В палисаднике торчит одинокий фонарь, светит, помаргивая, сквозь березы. Подальше виднеется здание станции с освещенными окнами, все остальное тонет в темноте.
Не дождавшись ответа, проводница, показывая крепкие икры, лезет на площадку. Впереди, возле багажного вагона, кто-то машет фонарем. Тонко свистит паровоз, со звоном дергаются вагоны. Проводница, вытянув наружу руку с фонарем, другой рукой поправляет берет.
– Гляньте на станции, может, от дождя прячутся! – кричит она напоследок.
Василий поправляет шляпу, вздыхает, берет чемоданы и медленно бредет на станцию мимо палисадников. Его все быстрее и быстрее обгоняют вагоны.
5
Он входит в темный коридор, задевает за что-то железное, сваленное у стены, нашаривает и отворяет дверь.
На станции он был последний раз лет пять назад, но, войдя в большую комнату, видит, что здесь ничто не изменилось. На стенах все так же расклеены плакаты, призывающие к выборам, графики движения поездов, правила для пассажиров. Горит большая лампа в потемневшем абажуре из газеты, лежат на столе желтые крупные огурцы, хлеб…
На лавке, положив под голову сумку с инструментами, спит железнодорожник. Откинутая рука его черна и блестит от мазута. У ног его на полу чадит фонарь. Топится почему-то печь. Пахнет махоркой, березовым дымом от печки и раскаленным железом.
В углу кто-то сладко и долго зевает, из-за печи выглядывает красное лицо старика с рыжей бородой и заплывшими глазами. Увидев Василия Панкова, старик изумляется, виновато моргает, стаскивает с головы шапку, вылезает из угла и протягивает заскорузлую, шершавую ладонь.
– С приездом тебе… А я тебя дожидаюсь! – неуверенно говорит он и улыбается, показывая желтые, съеденные зубы.
– Дядя Степан! – Панков сразу узнает своего соседа и дальнего родственника – А где мамаша?
– Кого?
– Чего с матерью-то моей? Не заболела?
– С мамашей-то? А чего с ей? Жива-здорова, тебя ждет. За тобой приехал. Забегала, съездий, говорит, устреть…
– А я уж думать разное стал, – облегченно говорит Василий. – Ты на лошади, что ли?
– Гы-гы! – смеется Степан. – Ай ты не знаешь? Дрезина у нас теперя! На лошади… Чудак-человек!
Степан суетится, собирает в углу какие-то мешки, сумки, связывает и развязывает веревочки.
Собравшись, он восхищенно осматривает Василия, крякнув, берет чемоданы, косолапо перешагивает порог, топает по коридору, выходит на улицу и, отвалясь на левую сторону, шагает к дрезине.
Василий идет за ним. Дождь по-прежнему моросит, шумят березы, блестят под фонарем мокрыми листьями. Там, где недавно стоял поезд, тускло светятся рельсы, чуть подальше, на запасных путях, темнеют длинные груженые платформы.
– Чего-то не слыхать было про тебя? Как живешь-то? – спрашивает Степан, останавливаясь и взваливая чемодан на плечо.
– Живу нормально! Инженером-практиком работаю, – привирает Василий. – Зарабатываю – дай бог всякому! Строим все… Секретное строительство! – опять не выдерживает он, чувствуя, как все дрожит в нем от удовольствия.
– Ну? – удивляется Степан и смачно сплевывает. – Строите, значит. Это – дело хорошее. А у нас, Василий Егорыч, тоже такое строительство пошло, всю деревню взбуровили. Теперя комбинат у нас на энтом берегу, поселок, народищу тьма, москвичей понаехало. Девки ровно ошалели: как вечер – в конбинатский клуб, и уж оттеда никоим образом не выташшишь. А многие кто и работать туды поустроились, председатель наш аж за голову взялся.
– Ого! – в свою очередь удивляется Василий. – Ну, а ты как?
– Кого?
– Ты-то как, спрашиваю?
– Я-то? Хо! – Степан оживляется. – Один я… Один! Старуха-то, слышь, померла! Второй год с покрова пойдет. На покров и померла. Отволок я ее на погост, поминки исделал, все натурально, честь честью. Девки у меня, знаешь? Девок я еще раньше замуж повыдал, ну их, живут там у себя. Один я теперя – ах, хорошо! Хошь, у меня поживи – весело живу, изба здоровая, хоть катайся!
Подходят к большой дрезине-мотовозу.
– Все или еще кто плетется? – спрашивает московским говорком шофер, докуривая папиросу.
– Все! – уверенно откликается Степан, карабкаясь на подножку.
Шофер бросает окурок в лужу, сигналит и прислушивается.
– Тогда поехали! – говорит он и заводит мотор. – А кто опоздал, тот пускай богу молится!
Дрезина трогается, вспыхивают фары, вырывая из темноты дорожные знаки, щиты, уложенные наперекрест шпалы, одинокие голые сосны. Проскакивают стрелки. Постукивая на стыках, дрезина набирает ход, со звонким гулом несется в темноту. Немногие пассажиры смолкают, смотрят в окна, туманя стекла своим дыханием. Мчатся уже с каким-то зловещим воем, сильно раскачиваясь. Мимо сплошной черной стеной летит лес. Редко попадаются фонари, освещающие длинные склады или просеки. На стеклах видны тогда косые извилистые капли.
Василий, совершенно счастливый оттого, что скоро увидит мать, что в дрезине тепло, попахивает бензином и чемоданами, оттого, что дождь перестает – на темном небе начинают показываться фиолетовые клочки со звездами, – сидит, отвалясь, широко расставив ноги, сдвинув на затылок шляпу. Он любит старика Степана, любит шофера и пассажиров, любит быстроту, с которой они мчатся, и прорывающийся в щель чистый родной воздух.
– Дядя Степан! – наклоняется он к старику. – Ты зайди к нам-то, посидим, выпьем… Да? Эх, и дадим мы с тобой сегодня жизни!
Борода старика приподнимается и расширяется. Он лезет в карман, нагибается к коленям, делает что-то в темноте, потом чиркает спичкой и закуривает: оказывается, делал папиросу.
Дрезина мчится, изредка гнусаво гудя. Впереди брезжит зарево огней лесокомбината. Степан шевелится, вытягивает шею, поглядывает вперед через плечо шофера. У него тоже радостные мысли. Скоро они приедут, в доме Панковых поднимется переполох, придут соседи, начнутся разговоры, подарки…
6
Дома у Василия выходит все так, как он мечтал. Пьет. Каждый день гуляет, играет на гармошке, заново знакомится с девушками, а они заигрывают с ним. Ходит он с ними в комбинатский клуб, в соседнюю деревню, хвастает своей жизнью и ловит со Степаном рыбу на перекатах.
Все эти дни он неизменно счастлив. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, он чувствует обожание и нежность матери, соскучившейся по нем, чувствует, что он хорош, молод, нравится девушкам, и уверен, что все они мечтают выйти за него замуж. И большего ему не надо.
Но однажды он просыпается под утро в повети, где обычно спит. Будто чей-то голос внятно произнес его имя, позвал куда-то. Проснувшись, он слушает, как вздыхает внизу корова, как возятся мыши в сене, и жадно курит, подставляя ладонь под огонек папиросы, чтоб не заронить искры.
Внезапно он ощущает знакомую тоску по дороге, по вокзалам, по гостиницам… Ему надоело! Жизнь в деревне, на родине, кажется ему уже скучной, непривлекательной. И он мучительно думает, куда бы поехать на оставшееся время, идет в избу, пьет молоко, считает у побелевшего окошка деньги, прислушивается к сонному дыханию матери и опять думает.
Наконец он вспоминает, что есть у него кореш в далеком южном городе, что как-то зимой кореш писал ему и звал к себе. Вспомнив и тотчас решив, не откладывая, ехать к этому корешу, поеживаясь от радостного озноба, идет опять в поветь, ложится в сено и засыпает.
Днем он укладывается, говоря матери, что работа не ждет. Потом обходит соседей, родных, прощается, особенным образом жмет руки случившимся не на работе девкам, некоторых торопливо целует в темных сенях, всем обещает писать, зная, что не напишет, и идет домой.
Здесь уже топчется огорченный Степан, мать плачет украдкой, сморкается в фартук, и Василий тоже пригорюнивается на минуту. Но в груди у него поет радость, сердце бьется быстро: в дорогу, в дорогу!
На станции Василий томится, дядя Степан раскупоривает бутылку и сумрачно выпивает, а мать сидит подпершись, смаргивает слезы и не отрываясь глядит на сына. Когда Василий приехал – в тот счастливый поздний вечер, – бегала она по дому, ног под собой не чуя, вся пылала от радости и совсем молодой казалась. А теперь вот, на станции, сидит старуха старухой и все глядит на сына.
– Что это ты какой-то?.. – время от времени говорит она. – Пожил бы еще… В дому-то родном и пожить. И не напишешь никогда матери-то, как же это ты! Докуда же ты так будешь? И гнезда у тебя нет, всем ты чужой.
Дядя Степан тоже глядит на Василия, тоже хочет что-то сказать, но только крякает и еще выпивает.
– И теперь вот, куда едешь? – говорит мать и тоскует.
Василию становится вдруг жарко. Он свешивает голову и думает о своей жизни. А и надоело же в самом деле! Все какое-то случайное, и друзей настоящих нет, и ничего нет – одна дорога, одни вокзальные буфеты в памяти.
И жалко становится ему себя, какая-то горечь, неудовлетворенность наполняют сердце, скучно и стыдно как-то делается, и сказать нечего.
А еще через два часа, простившись с матерью, обняв и расцеловав ее напоследок, пожалевши ее и себя заодно, вытерев глаза, через два часа он сидит в вагоне-ресторане.
Поезд мчится на этот раз на юг, за окном опять мелькают деревни, станции, дороги, поля, леса… Напротив Панкова сидят два молоденьких лейтенанта в парадной форме. Оба темноволосы, оба с пробивающимися усиками, оба со значками училища, оба довольны и веселы, оба не отрывают глаз от сидящих за спиной Панкова девушек, смеются, шепчутся, пьют пиво, курят, пуская дым тонкими струйками вверх, и краснеют, когда девушки взглядывают на них.
Василий Панков быстро пьянеет, ему хочется говорить, шуметь, обращать на себя внимание. Он встает, покачиваясь, со стаканом в руке подходит к компании за соседним столиком, чокается со всеми, что-то говорит, хлопает всех по плечу.
– Вы меня извините… – говорит он. – Извините!
Потом возвращается к своему столику, с чувством превосходства и одновременно зависти смотрит на лейтенантов, провожает взглядом официанток, слушает радио, впитывает весь этот ресторанный воздух, с волнением думает о городе, куда он едет, забыв уже о своей матери, о родном доме, о Степане, о девчатах, и опять, пожалуй, во всем поезде не найдется человека счастливее, чем он.
Легкая жизнь! Мчится по земле, спешит, не оглядывается, всегда весел, шумен, всегда самодоволен. Но пуста его веселость и жалко самодовольство, потому что не человек он еще, а так – перекати-поле.
1962








