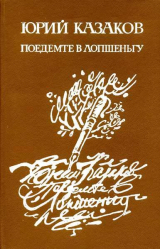
Текст книги "Поедемте в Лопшеньгу"
Автор книги: Юрий Казаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)
КАБИАСЫ
Заведующий клубом Жуков слишком задержался в соседнем колхозе. Дело было в августе. Жуков приехал по делам еще днем, побывал везде и везде поговорил, хотя и неудачный был для него день, все как-то торопились: горячая была пора.
Жуков, совсем молоденький парнишка, в клубе еще и году не работал и был поэтому горяч и активен. Родом он был из Зубатова, большого села, а жил теперь в Дубках, в маленькой комнатке при клубе.
Было бы ему сразу ехать домой, и машина на Дубки шла, но он раздумался и пошел к знакомому учителю, хотел поговорить о культурном. Учитель оказался на охоте, должен был давно вернуться, но что-то запаздывал, и Жуков стал его уныло ждать, понимая уже, что все это глупость и надо было ехать.
Так он и просидел часа два, покуривая в окошко и вяло переговариваясь с хозяйкой. Он даже задремал было, но его разбудили голоса на улице: гнали стадо, и бабы скликали коров.
Наконец ждать не стало смысла, и Жуков, разозленный на неудачу, выпив на дорогу кислого квасу, от которого тотчас стали скрипеть зубы, пошел к себе в колхоз. А идти было двенадцать километров.
Старика Матвея, ночного сторожа, Жуков догнал на мосту. Тот стоял в драной зимней шапке, в затертом полушубке, широко расставив ноги, придерживая локтем ружье, заклеивал папиросу и смотрел исподлобья на подходившего Жукова.
– А, Матвей! – узнал его Жуков, хоть и видел всего два раза. – Что, тоже на охоту?
Матвей, не отвечая, медленно пошел, скося глаза на папиросу, достал из-под полы спички, закурил, дохнул несколько раз и закашлялся. Потом, царапая ногтями полу полушубка, спрятал спички и тогда только сказал:
– Какое на охоту! Сад стерегу ночью. В салаше.
У Жукова от кваса все еще была оскомина во рту. Он сплюнул и тоже закурил.
– Спишь небось всю ночь, – сказал он рассеянно, думая, что зря не уехал давеча, когда была машина, а теперь вот надо идти.
– Как бы не так – спишь! – помолчав, значительно возразил Матвей. – И спал бы, да не дают…
– А что, воруют? – иронически поинтересовался Жуков.
– Ну, воруют! – усмехнулся Матвей и пошел вдруг как-то свободнее, как-то осел и вроде бы отвалился назад, как человек, долго стесняемый, вышедший наконец на простор. На Жукова он не взглянул ни разу, а смотрел все по сторонам, по сумеречным полям. – Воровать не воруют, браток, а приходят…
– Ну? Девки, что ли? – спросил Жуков и засмеялся, вспомнив Любку и что сегодня он ее увидит.
– А эти самые… – невнятно сказал Матвей.
– Вот дед! Тянет резину! – Жуков сплюнул. – Да кто?
– Кабиасы, вот кто, – загадочно выговорил Матвей и покосился впервые на Жукова.
– Ну, повез! – насмешливо сказал Жуков. – Бабке своей расскажи. Какие такие кабиасы?
– А вот такие, – сумрачно ответил Матвей. – Попадешь к им, тогда узнаешь.
– Черти, что ли? – делая серьезное лицо, спросил Жуков.
Матвей опять покосился на него.
– Такие, – неопределенно буркнул он. – Черные. Которые с зеленцой.
Он вынул из кармана два медных патрона и сдул с них махорочный сор.
– Вот, глянь, – сказал он, показывая бумажные пыжи в патронах.
Жуков посмотрел и увидел нацарапанные чернильным карандашом кресты на пыжах.
– Наговоренные! – с удовольствием сказал Матвей, пряча патроны. – Я с ими знаю как!
– А что, пристают? – насмешливо спросил Жуков, но, спохватившись, опять сделал серьезное лицо, чтобы показать, что верит.
– Не так чтобы дюже, – серьезно ответил Матвей. – К салашу не подходят. А так… выйдут, значит, из теми один за однем, под яблоней соберутся, суршат, брякочуть, махонькие такие, станут так вот рядком… – Матвей опустил глаза на дорогу и повел перед собой рукой. – Станут и песни заиграют.
– Песни? – Жуков не выдержал и прыснул. – Да у тебя не похуже, чем у нас в клубе, – самодеятельность! Какие песни-то?
– А так, разные… Другой раз дюже жалостно. А потом и говорят: «Матвей, а Матвей! Подь сюды! Подь сюды!»
– А ты?
– А я им: «Ах вы, под такую мать!.. Брысь отседа!»
Матвей любовно усмехнулся.
– Ну, тогда они начинают к салашу подбираться, а я сейчас наговоренный патрон заряжу, да кэ-эк ахну!..
– Попадаешь?
– Попадаешь! – презрительно выговорил Матвей. – Нячистую силу рази убьешь? Так, разгоню маленько до утра, до первого петуха…
– Да! – помолчав, сказал Жуков и вздохнул. – Плохо, плохо!
– Кого? – спросил Матвей.
– Плохо у меня дело с атеистической пропагандой поставлено, вот что! – сказал Жуков и поморщился, оглядывая Матвея. – Небось и по деревне брешешь, девок пугаешь? – строго спросил он, вспомнив вдруг, что он заведующий клубом. – Кабиасы! Сам ты кабиас!
– Кого? – опять спросил Матвей, и лицо его вдруг стало злобно и внушительно. – А вот мимо лесу пойдешь?
– Ну? И пойду!
– Пойдешь, так гляди – навряд домой придешь. Они тебя пирнясуть.
Матвей отвернулся, ничего более не сказав, не простившись, быстро пошел полем к темневшему вдали саду. Даже в фигуре его видна была сильнейшая озлобленность.
Оставшись один на дороге, Жуков закурил и огляделся. Наступали сумерки, небо на западе поблекло, колхоза сзади почти не стало видно, темнели только кое-где крыши между тополей да торчали антенны телевизоров.
Слева виден был березовый лес. Он уступами уходил к горизонту. Было похоже, будто кто-то по темному начиркал сверху вниз белым карандашом. Сперва редко, подальше – чаще, а в сумерках горизонта провел поперечную робкую светлую полосу.
Слева же видно было и озеро, как впаянное, неподвижно стоявшее вровень с берегами и одно светлевшее на всем темном. На берегу озера горел костер, и на дорогу наносило дым. Падала уже роса, и дым был мокрым.
А справа, в сумрачных лугах и просеках, между темными мысами лесов, с холма на холм шагали решетчатые опорные мачты. Они были похожи на вереницу огромных молчаливых существ, заброшенных к нам из других миров и молча идущих с воздетыми руками на запад, в сторону разгорающейся зеленоватой звезды – их родины.
Жуков опять оглянулся, все еще надеясь, что, может быть, пойдет попутная машина. Потом зашагал по дороге. Он шел и все поглядывал на костер и на озеро. Возле костра никого не было. Не видно было ни души и на озере, и одинокий огонь, неизвестно кем и для чего зажженный, производил странное впечатление.
Жуков шел сначала нерешительно, покуривая, оглядываясь, поджидая машину или попутчика. Но ничего не было видно ни спереди, ни сзади до самого горизонта, и Жуков наконец решился и зашагал по-настоящему.
Он прошел километра четыре, когда стало совсем темно. Одна только дорога светлела, перебитая кое-где туманом. Ночь наступала теплая. Только когда Жуков попадал в туман, его охватывало холодом. Но потом Жуков опять выходил в теплое, и эти переходы от холодного к теплому были приятны.
«Темный у нас народ!» – думал Жуков. Он шел, сунув руки в карманы, двигал бровями и вспоминал лицо Матвея, какое оно сразу стало злобное и презрительное, когда он посмеялся над ним. «Да, – думал он, – надо, надо усилить атеистическую пропаганду. Суеверия надо искоренять!» И ему еще больше захотелось поговорить с кем-нибудь о культурном, об умном.
Потом он стал думать, что пора бы ему перебраться в город, поступить куда-нибудь учиться. И тут же по своему обыкновению стал он воображать, как дирижирует хором не в колхозном клубе, где нет даже кулис и где ребята покуривают в зале и пересмеиваются, а в Москве, и что хор у него в сто человек – академическая капелла.
Как всегда, от подобных мыслей он почувствовал радостное оживление и уже ничего не замечал кругом, не обращал внимания ни на звезды, ни на дорогу, шел неровно, сжимая и разжимая кулаки, двигал бровями, принимался напевать и усмехаться, не боясь, что кто-нибудь увидит его. Он даже рад был, что идет один, без попутчиков. Так он и дошел до пустого сарая близ дороги и сел на бревно отдохнуть и покурить.
Когда-то был здесь хутор, но после укрупнения колхоза хутор снесли, остался один сарай. Сарай был раскрыт и пуст. В нем, кажется, и двери даже не было. Был он темен и скособочен, а в дыре дверей, в глубине его, стояла особенно глухая чернота.
Жуков сидел, поставив локти на высоко поднятые колени, лицом к дороге, спиной к сараю, курил, остывая постепенно, и думал уже не о консерватории, а о Любке, решая, как бы ее, наконец, половчее поцеловать, когда почувствовал, что на него смотрит кто-то сзади.
Он понял вдруг, что сидит во тьме один, среди пустых полей, среди загадочных темных пятен, которые могут быть кустами, а могут быть и не кустами.
Он вспомнил Матвея, жестко-вещее лицо его напоследок и пустынное немое озеро с костром, неизвестно для чего зажженным.
Затаив дух, он медленно оборотился и взглянул на сарай. Крыша сарая висела в воздухе, даже звезды были видны в промежутке. Но только он взглянул на нее, как она села на сруб, а за сараем что-то с топотом побежало в поле с задушенным однообразным криком: «О!.. О!.. О!..» – все дальше и глуше. Волосы у Жукова поднялись, он вскочил и прыгнул на дорогу.
«Ну, – подумал он. – Пропал!» – и ударился по дороге. Воздух загудел у него в ушах, а в кустах по сторонам что-то ломилось, сопело, дышало ему в спину холодом. «Перекреститься надо! – думал Жуков, чувствуя, как пытаются схватить его сзади холодными пальцами. – Господи, в руки твои…» А перекрестившись, остановился, не в силах уже бежать, и обернулся.
Но не было никого на дороге, ни в поле, и сарая не стало видно. Жуков утерся рукавом, не спуская глаз с дороги, и сказал себе хрипло: «Ха!» – и вздрогнул, испугавшись себя. Потом кашлянул, послушал и опять сказал, стараясь, чтобы не вздрагивал голос:
– Хо! Хо! Эй!..
Отдышавшись, Жуков торопливо зашагал, с лихорадочной тоской соображая, как далеко ему еще идти, какая ночь и тьма кругом и что лес, на который загадочно намекнул ему Матвей, еще впереди.
Дорога спустилась к речке, и Жуков, как во сне, громадными скачками перенесся через мост над черной водой и зарослями ивы. Под мостом загукало, но Жуков даже не разобрал, был ли то действительно звук или ему показалось. «Ну погоди, я до тебя доберусь!»– со страхом думал Жуков о Матвее, поднимаясь на пригорок, на котором, он знал, начинается лес.
Лес начался росой и сыростью. Что-то мощно дышало из глубины его, вынося в теплый полевой воздух запах прели, грибов, воды и хвои. Направо – в лесу – стоял густой мрак. Налево – в поле – было виднее. Сияли наверху звезды, чем позднее, тем все густевшие. Небо, хоть и черное, все-таки слабо дымилось светом, и деревья выделялись на его фоне твердыми силуэтами.
Из лесного мрака с какого-то сука сорвалась сова, со слабым шорохом перелетела и села впереди. Жуков услышал ее, но не видел, как ни старался. Видел он только, как, перечеркивая звезды, закачался сук, на который она села.
Подходя к ней, Жуков снова спугнул ее, и она стала летать кругами, захватывать часть поля и тотчас возвращаясь в лесную тьму. И теперь Жуков ее увидел. На горизонте за полями еще тлел остаток зари, даже не остаток, а просто небо там было размытее, невещественней, и сова, пролетая, мелькала каждый раз там беззвучным темным пятном.
Косясь на сову, Жуков спотыкался о корневища и нехорошо о ней думал. Глянуть направо в лес или назад он совсем не смел. А когда все-таки глянул вперед по дороге, мороз продрал его по спине: впереди и немного слева, перейдя из лесу через дорогу, стояли и ждали его кабиасы. Маленькие были они, как и говорил Матвей. Один из них тотчас хихикнул, другой жалобно, как давеча за сараем, простонал: «О-о… О-о…», – а третий крикнул перепелиным победным голосом: «Подь сюды! Подь сюды!»
Жуков стукнул зубами и помертвел. Он и перекреститься не мог, рука не поднималась.
– А-а-а!.. – заорал он на весь лес и вдруг понял, что это елочки. Весь дрожа, как собака перед стойкой, сделал он к ним шаг и еще шаг… За елочками что-то зашуршало и покатилось с беспокойным криком в поле.
«Птица!» – догадался Жуков, радостно переводя дыхание и поводя плечами под намокшей рубахой. Духом пронесясь мимо елочек, он вытащил папиросу, достал было и спички, но тут же сообразил, что если зажжет спичку, его сразу заметят во всем лесу. Кто заметит, он не знал и боялся думать, а знал, что заметят.
Жуков присел, посмотрел понизу по сторонам, натянул на голову пиджак и так, под пиджаком, прикурил. «Пойду полем!» – решил он. Идти лесом, дорогой он больше не мог, а в поле хоть и было страшно, но не так.
Он прошумел начинающимся по опушке орешником, вышел на открытое и зашагал вдоль леса, далеко обходя всё чернеющее на его пути и беспрестанно посматривая направо. Сова все летала, везде шуршало и попискивало, а то где-то в самой глубине леса, в оврагах раздавался не то крик, не то стон и долго колебался в воздухе, перекатываясь, как эхо, по опушкам.
Но вот лес кончился, опять зазмеилась пыльная светлая дорога. Жуков вышел на нее и, повизгивая от страха, не оглядываясь, побежал крупной рысью, прижимая локти к бокам, как бегун. Он бежал, воздух погукивал у него в ушах, лес отходил все дальше, пока не стал едва заметной черной полосой. Жуков уже решил ни на что не смотреть и начал уже радоваться, начал, подлаживаясь под бег, напевать про себя что-то однозвучное и неестественно веселое: «Ти-та-та! Ти-та-та!» – как вдруг снова резко осадил и вытаращился.
То, что он увидел, не было на этот раз ни деревом, ни птицей, как он уже привык, а было что-то живое, что подвигалось ему наперерез по меже. Не было оно похоже ни на человека, ни на корову, ни на лошадь, а имело вид неопределенный. Жуков слышал уже ясно похрустывание бурьяна на меже, мягкое попрыгивание, слабое постукивание…
– Кто это? – раздался звучный голос.
Жуков молчал.
– Знакомый, нет? – обеспокоенно спросил голос уже с дороги.
Жуков теперь понял, что его окликают, что к нему подходит человек и ведет велосипед, но ответить не мог по-прежнему, только дышал.
– Жуков? – неуверенно догадался человек, подойдя вплотную и приглядевшись, – Здорово! Чего ж молчишь-то? А я думаю, кто бы это? Спички есть? Дай-ка прикурить…
Теперь и Жуков узнал Попова из райкома комсомола. Руки у Жукова так дрожали, что спички в коробке гремели, когда он давал их Попову.
– Откуда? – прикурив, спросил Попов. – А я, понимаешь, сбился. Еду к вам, да поворот прозевал, задумался… Вымахал уж к Горкам, да с той дороги сюда – по меже… Да ты что?
– Погоди… – сипло сказал Жуков, чувствуя слабость и головокружение. – Погоди…
Он стоял, виновато усмехаясь, не мог никак справиться со слабостью, окатывался потом и коротко дышал. Пахло пыльным твердым подорожником.
– Заболел, что ли? – испуганно спросил Попов.
Жуков молча кивнул.
– А ну, садись! – решительно сказал Попов и развернул велосипед. – Держись за руль. Ну!
Попов разогнал неровными толчками велосипед, вскочил на седло, сильно вильнув при этом, сдунул упавшие на лоб волосы и покатил в Дубки.
Жуков сидел на раме, ему было жестко и стыдно. Он чувствовал, как тяжело идет велосипед по пыли. Попов горячо дышал ему в спину, поталкивал коленками.
Почти всю дорогу оба молчали. Наконец показались огни колхоза, и Жуков шевельнулся.
– Постой-ка… – сказал он.
– Сиди, сиди! – задыхаясь, ответил Попов. – Тут немного, вот до медпункта доедем…
– Да нет, тормозни… – морщась, сказал Жуков и вытянул ногу, цепляясь за землю.
Попов с облегчением затормозил. Они соскочили с велосипеда и некоторое время стояли молча, не зная, о чем говорить. Рядом была конюшня, лошади услыхали голоса, забеспокоились, переступая подковами по настилу. От конюшни сильно и приятно пахло навозом и дегтем.
– Дай-ка спичек, – попросил опять Попов.
Он закурил и долго с удовольствием вытирал пот с лица и шеи. Потом расстегнул ворот рубахи.
– Ну как? Полегчало? – с надеждой спросил он.
– Теперь ничего, – торопливо сказал Жуков. – Квасу я выпил. Наверно, от него.
Они медленно пошли по улице, слушая затихающие звуки большого жилья.
– Как в клубе дела? – спросил Попов.
– Так себе… Сам знаешь, уборка, народ занят, – рассеянно ответил Жуков и вдруг как бы вспомнил: – Да, не знаешь слова такого – «кабиасы»?
– Как, как? Кабиасы? – Попов подумал. – Нет, не попадалось. А тебе зачем, для пьесы, что ли?
– Так чего-то на ум пришло, – уклончиво сказал Жуков.
Они подошли к клубу и подали друг другу руки.
– Спички-то возьми, – сказал Жуков. – У меня дома есть.
– Ладно. – Попов взял спички. – А ты молока попей, помогает от живота…
Он сел и поехал к дому председателя, а Жуков прошел темными сенями и отомкнул свою комнату. Попив холодного чаю, он покурил, послушал в темноте радио, открыл окно и лег.
Он засыпал почти, когда все в нем вдруг повернулось, и он, будто сверху, с горы, увидел ночные поля, пустынное озеро, темные ряды опорных мачт с воздетыми руками, одинокий костер и услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час.
Он стал переживать заново весь свой путь, всю дорогу, но теперь со счастьем, с горячим чувством к ночи, к звездам, к запахам, к шорохам и крикам птиц.
Ему опять захотелось говорить с кем-нибудь о культурном, о высоком – о вечности, например; он подумал о Любке, соскочил с койки, потопал босиком по комнате, оделся и пошел вон.
1960
НЕСТОР И КИР
1
Пять дней уже бушует море. Пять дней каждое утро я слышу его рев, смотрю в окно и вижу все одно и то же: свинцовое небо, белые гребни волн до самого горизонта, пустынный берег и серые избы на пригорке.
Скучно! Скучно ждать, ни к чему не лежит душа, хочется дальше, но яростная неукротимая сила не пускает меня. Сила эта – ветер и волны, которые захлестывают узкое пространство берега возле гор.
И я опять иду к соседу смотреть ружье, которое он продает мне. Ружье старое, грязное, но мне как-то оно нравится, и не оставляет мысль купить его.
Вхожу в теплую, кислую избу – хозяин на кухне, наваривает капроновую нить, сильно ширкает по ней то варом, то воском. Во рту у него щетина.
– Чаю попьем? – мурчит он.
– Давай, – вяло соглашаюсь я.
Хозяин оставляет дратву, колет лучину, гремит самоварной трубой. Долго и молча потом пьем чай.
– Ну так как? – спрашивает наконец хозяин. – Надумал?
– Дай еще раз гляну, – прошу я.
Он выносит ружье. Я открываю его, десятый раз смотрю в ствол, разглядываю побитый, поцарапанный замок.
– Ты что, – спрашиваю, – гвозди им забивал?
– Ты сверху не гляди, ты гляди внутрь. Она бьет… – он подыскивает сравнение, – корову насквозь просадит!
– Ладно, корову! – говорю я и кладу ружье на лавку.
Опять пьем чай, говорим о дороге. Идти мне нужно берегом, совершенно пустым на шестьдесят километров. Будут, правда, попадаться мне тони, иногда заброшенные, будут по дороге горы, подходящие к самой воде. Берег – камни, метров в пять шириной. При спокойной воде и во время отлива пройти можно, но в шторм берегом не пройдешь, нужно лезть горами, а в горах масса ущелий – ручьев, по-здешнему. Хозяин говорит, что обошел все Белое море, и на Терском, и на Зимнем берегах, но такого страшного места не видал.
Как-то мне грустно это предстоящее путешествие. Не расстояние пугает меня и не горы, а одиночество. Когда идешь, и никого нигде нет, и ты одинок, когда одинокое тоже солнце садится в море, когда перед тобой только камни, только мох, кривые елки, брошенные тони, черные покосившиеся кресты – это так нехорошо, будто весь мир вымер и ты остался один на земле.
– А погода отдавает, завтра пойдешь,– говорит хозяин.
Попив чаю, думаю некоторое время, чем бы заняться, потом выхожу, оглядываю море, стараясь заметить в нем хоть какой-нибудь намек на успокоение, и захожу к Пелагее Тимофеевне – восьмидесятилетней старухе. Старуха эта, старая дева, вдоволь почитала священных книг, вдоволь их потолковала, толкует их она и сейчас и предсказывает скорый конец света.
Земля будет сожжена на десять локтей в глубину. Города разрушатся, и в них останется по десять человек, а в деревнях – по два. И люди станут искать друг друга, чтобы вместе начинать новую жизнь. Эта война будет последней, она же явится концом света и началом новой жизни.
Дом у нее чудесный, в два этажа, с лесенками, со множеством комнат. Вообще здесь любят комнаты, и никто не строит избу общей или с перегородками не до потолка, как принято это у нас в средней России.
Старуха не видит уже семнадцать лет – у нее бельма и зрачки рассосались. С удивлением она говорит: «Во снях вижу все, людей вижу, море, как в церкви служат, а встану – и прошшай все…»
Сегодня серый день, море утихло. Я подбил каблук, мажу сапоги, собираясь в дорогу, и весь пропах дегтем. Вычистил также и смазал ружье, которое не чистили, наверное, лет пять. В этот день мне надо дойти до тони Каменка и там заночевать. Говорят, живут там два рыбака…
Море было спокойно, и этот покой так радостен, так интимен и таинствен после стольких дней шума и воя! Позванивали, булькали волны, и похоже было, что кто-то говорил несколько удивленно, восклицал что-то с бесконечной переменой интонаций или окликал меня – то сзади, то спереди.
На мне были джемпер, куртка, плащ, зимняя шапка, рюкзак килограммов в двадцать, ружье, удочки и в кармане – черные, позеленевшие патроны. Я вспотел уже через километра три, но быстро шел по самому краю воды, пользуясь отливом: здесь особенно гладок, плотен песок и легко идти.
Пройдя за три часа пятнадцать километров, я так устал, что вдруг свернул от воды, стащил рюкзак и сапоги, лег и закурил и сразу уснул. А проснувшись, заковылял на разбитых ногах дальше.
Начались камни. Начались потрескавшиеся плиты и валуны. Из трещин торчали рыжие водоросли. Но попадались места, где камни были величиной в кулак. Ноги у меня подвертывались и дрожали. Я брел из последних сил, оступался, спотыкался, скрипел зубами при каждом шаге, чувствуя только одно – свои разбитые ноги. Но впереди у меня было, как я думал, тепло избушки, был чай и крепкий сон в тепле. Последние четыре километра я шел два часа. Я пришел к тоне, когда начало темнеть, сделав за первый день двадцать семь километров.
Избушка была пуста – рыбаки куда-то уехали. Я открыл ее и вошел. Внутри было холодно. Я разыскал поблизости ручей, набрал воды в чайник, развел костер из плавника. Избушка топилась по-черному, я затопил печь, и сразу стало дымно – дым плавал под потолком, лениво выползая в отдушину. Внизу был чистый воздух, наверху плотный сизо-зеленый дым. Если выпрямиться, дым доходил до груди. Приходилось ходить и сидеть скорчившись. Печь горела плохо, тускло, без оживления, и в избушке ничуть не теплело. На потолке была сажа в два пальца толщиной, хлопьями, лохматая.
Я пил чай, в печи догорали угли – сквозь дым чело печи было как пещера гномов, озаренная горнами. Я закрыл отдушину, заложил палкой дверь и лег, укрывшись плащом. Я заснул в этой избушке на парусе, под которым были телогрейки и мотки веревок. А через часа два проснулся от странного ощущения, которое не оставляло меня и во сне, – будто я начал путешествие в прошлое и ушел далеко, за сто лет, в древность. Да, я далеко ушел в этой избе с запахом рыбы и дыма, в этой холодной темноте, одетый, под плащом, на жестких нарах!
Еловый ручей прорезает горы. В устье его на берегу навалены громадные камни. Я стал подниматься вверх по камням, как по лестнице. Где-то наверху, мне сказали, ручей этот пересекает телефонная линия с тропой вдоль нее. Тропа выводит к маяку.
На полпути я сел отдохнуть. Звенела и бормотала в каменном ложе коричневая вода. В ущелье было видно море, горизонт его тоже как бы поднялся вместе со мной, и оно стояло в просвете между красных скал голубой стеной.
Как все-таки прекрасно это ущелье, какая дикость, какая осень – пурпурная, ликующая, солнечная, каким золотым светом горят лиственницы, почему тут нет дома, почему нельзя тут пожить месяц и поработать до ломоты в костях!
Дойдя до телефонной линии, я свернул на тропу и стал опять карабкаться вверх. Папоротник сплошной стеной окружал меня. Здесь, в затишье, в горном распадке, злой ветер был не страшен, и осень еще не пришла, задержалась, кое-где только начинали рдеть отдельные ветки. Через час я был наверху, подошел к обрыву – огромное пространство моря открылось мне, и не хотелось больше никуда идти.
А тропа дальше стала еще мучительней – она шла болотами, сбегала вниз, к ручьям, и опять вела круто вверх. Восьмикилометровый путь до маяка я прошел за пять часов.
На маяке я узнал, что дальше горами идти невозможно: семь ущелий, из которых четыре очень глубоких. Значит, опять берегом и опять камнями. Еще пятнадцать километров камней, а там пойдет песок… До деревни Кеги, куда я держал путь, был еще тридцать один километр.
О чем думать в пути? Когда идешь, шаг за шагом отдаваясь тяжелому ритму пути, внимание все поглощено дорогой, камнями, которые попадаются под ноги, тяжестью рюкзака, стертыми ногами… Опять тяжелая дорога, спокойное море, мелкий дождь и низкое холодное небо. Спустившись с высоченного обрыва, на котором стоит маяк, снова ступаешь на каменистый берег, и снова слева скалы, справа море – сумрачное, холодное, но спокойное.
Я убил двух доверчивых милых куликов. Они долго перебегали от меня по камням… Сняв ружье, взведя курок, я спокойно шел мерным шагом и, выждав момент, когда они подпустили меня поближе, – выстрелил. Один не шевельнулся даже, другой низко отлетел на несколько метров. Перезарядив ружье, я подошел к нему. Он был ранен, наверное, в смертельной истоме слабо поднялся, и я убил его вторым выстрелом. И как-то грустно и досадно мне стало.
Какую власть все-таки имеют над нами воспоминания! Давеча на маяке я разговорился о качестве своих сапог, привел в пример свое весеннее путешествие по Оке и вдруг вообразил поленовский дом, вечер 1 Мая, когда мы, продрогшие, грязные, обородатевшие после поездки, сидели в столовой, топили камин, пили доппель-кюммель, наслаждаясь уютом, светом большой лампы под фарфоровым колпаком, среди картин и этюдов Левитана, Врубеля, Коровина, развешанных на стенах.
И, вспомнив все это, вспомнив еще окские дали, леса и луга по берегам, весну, сырые овраги, засыпанные прошлогодним жухлым листом, лопнувшими желудями, первое щелканье соловьев, дымок костра, разложенного возле сторожки бакенщика, – я вдруг почувствовал такую отдаленность от всего этого, такую зависть ко всем своим прежним счастливым дням, так захотелось мне не видеть больше этой угрюмой дикости, что даже в сердце вступило.
Между тем мыс впереди сменялся новым мысом, пока не показались в море тайники, а на берегу избушка. Это я дошел до тони Варзуги. Было там двое рыбаков, один молоденький, другой постарше – глухонемой. Я передохнул, помолчал… Молчали и рыбаки.
Изба, как и все тони, грязна, закопчена, спят на каком-то тряпье, нары в два яруса, но весь народ на сенокосе, двое только здесь. Молчание становилось тягостным. Один раз только молодой рыбак сказал скороговоркой, глядя в окно:
Чайки ходят по песку,
Рыбакам сулят тоску…
Оглянулся на меня, засмеялся и замолк – принялся выделывать из пенопластика рукоятку для рыбацкого ножа. За окном молча тяжело летали чайки, садились на песок, темные при темном дне.
Через полчаса должна была идти в сторону Кеги дора. Я так устал, что остался ждать ее, – и напрасно: час проходил за часом, а доры все не было.
Я дремал и просыпался, рыбаки все молчали. Несколько раз пытался я завести разговор с молоденьким, он улыбался, охотно, но кратко отвечал и опять умолкал. Один раз только рыбаки вышли из оцепенения: молоденький топнул ногой, глухонемой взглянул на него, молоденький кивнул за окно, оба поднялись, натянули куртки и поехали смотреть тайник. Вернувшись с одной кумжей, скинули проолифленные куртки и сели – молоденький к столу, глухонемой возле окна. Изредка глухонемой зажигал спички и палил на окне осенних мух. Лицо его при этом немного оживлялось.
Наконец послышалось далекое и глухое «пу-пу-пу-пу-пу», и показалась дора. Мы сели в карбас, выгребли в море. На доре, думая, что сдают семгу, замедлили ход. Мы подошли, и, вместо семги, в нее ввалился я со своим рюкзаком, ружьем и удочками.
Темнело, вода кругом холодела, становилась густой и тяжелой, а берег виден был узкой чернильной полосой. В полных сумерках подошли мы к колхозу, поставили дору на якорь в устье реки, за песчаными барами, подтянули карбас, который был у нее на буксире, перелезли в него и двинулись к берегу. Но был отлив, везде обмелело, и метрах в ста от берега мы сели на кошку. Подошел еще карбас с двумя молчаливыми девками, часть рыбаков перелезла в него, он тоже сел на мель, не успев отойти, рыбаки ухали, толкались веслами в разные стороны, под днищами скрипел песок…
На берегу, на едва белеющей песчаной полосе под высокими избами появилась темная женская фигура, тут же к ней присоединилась другая, третья… Скоро на песке образовалась странная какая-то, неподвижная, немая кучка женщин, смотрела на нас, ждала, внимала нашим веселым крикам. Повыше их едва различались темные пятна изб, слабо горели красноватые огоньки в окнах. И я опять будто провалился на минуту в глубокую древность: пришел к варягам, к их морской жизни – и уж Москва, трехчасовой путь на самолете до Архангельска и Архангельск, каким я его запомнил в последний вечер перед отъездом сюда, прощальный красный свет солнца в окне гостиницы, Двина за окном, мачты пароходов над крышами, гудки, чайки над Двиной, клубочки пара над буксирами – этого всего будто никогда и не было.
Путь мой был кончен, я приехал в Кегу.
2
Опять я на новом месте. Вот бревенчатая комната, стол, окно на море – сейчас черное, – керосиновая лампа на столе, койка с грубым одеялом. За стеной слышны голоса – там мои новые хозяева: кудрявый седоватый мужик лет шестидесяти, с твердой негнущейся поясницей и громадными сизыми руками; сын его, молодой парень, красавец, так же кудряв, как и отец, только золотоволос, румян, широк в плечах, белозуб и синеглаз, – но дурачок, картавый… И жена – маленькая, сухая, темноликая, раньше времени состарившаяся.
Я сижу у себя, пью горячий чай, слушаю, как за окном порывами снова поднимается ветер, снова тяжело и мерно ворочается море, и значит, завтра опять будет шторм и темный угрюмый день, но мне не скучно – наоборот, весело и тревожно, как всегда бывает, когда приезжаешь на новое место.
Занимаюсь я как будто делом: пишу письма, набиваю патроны, чищу ружье и сапоги, какие-то образы, как искры, приходят ко мне, и я некоторое время думаю о них – хороши ли? Но интересно мне сейчас не это – интересен хозяин за стеной, и я предвкушаю свою жизнь в этой Кеге завтра и послезавтра, и еще много дней, покуда хватит времени.
А хозяин встретил меня неприветливо, слушал хмуро, спрашивал неохотно, и, по всей видимости, не расположен был пускать меня на квартиру. Но дом был так хорош, из таких был сложен гладких, огромных бревен, так просторен, чист, вымыт, выскоблен до блеска, такие большие в нем были окна, так он был весь разнообразен со своими комнатами, коридорами, чуланами, поветью, лесенками, резными перилами и так красиво стоял над морем, что я все-таки стерпел неприветливость и остался.








