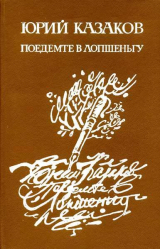
Текст книги "Поедемте в Лопшеньгу"
Автор книги: Юрий Казаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 45 страниц)
Где-то в тундре, где-то за горизонтом, за озерами, за карликовыми лесами живут ненцы. Где-то там ходят стада оленей и стоят берестяные чумы. Они стоят в безмолвии, среди озер и ручьев, под светлым ночным небом. И когда ненцы, мурлыкая слабыми голосами песню, уплывают в ночь на озера за рыбой, то, наверное, выходят их провожать собаки и сидят потом на берегу и, насторожив уши, смотрят и нюхают…
В тундре можно исчезнуть. Она ровна и беспредельна. И мы под жарким, удушающим солнцем идем по ней, как по Африке. Горят леса в стокилометровой дали, и дым от пожаров растекается по всей равнине, по мху и по рекам, переваливает невысокие угорья вдоль берега моря, и простирается дальше в море, и, кажется мне, уходит к полюсу.
Мы идем в голубоватом, струящемся мареве по блеклой тундре, по сухому, хрустящему под ногой мху, мимо мертвых озер с торфяными берегами. Мы входим в низкий лес. Это не наш веселый шумящий лес, это что-то низкое, покорное, окаменевшее. Такие деревья бывают в театральной бутафорской, ими подчеркивают сумеречность и дикость какой-нибудь мифической преисподней. Здесь стволы их еще скручены в узлы и пригнуты к земле. Мучения и вековые пытки видны в каждом утолщении и в каждом изгибе.
Скорей, скорей пройти это гиблое место! И души наши напрягаются, ноги спешат, глухо стукают по корням, еле прикрытым мхом. И когда мы покидаем лес и выходим на прежнюю моховую равнину, нам делается немного легче.
Попадается много вереска – островками растет он, плотен и жесток, и цветет сиреневым дымом. Кочки покрыты красным, желтым и синим – везде морошка, черника и голубика, и мы постепенно разбредаемся, нагнувшись, забываем даже, куда и зачем идем, рвем морошку, сок которой янтарен и напоминает по вкусу слегка прокисший сок абрикосов.
Потом сходимся и снова бредем вперед, к дымчатому горизонту, изнемогая от жары, странной в тундре. Показываются крикливые розовоперстые чайки, зло кружат над нами, отлетая к озеру и возвращаясь с новой яростью. Мы идем по линии их полета и выходим на берег.
Проводники наши, шурша кустами, скрываются, идут искать карбас, который должен где-то здесь быть. Через полчаса мы слышим голоса, скрип весел, показывается карбас и пристает.
– Глубоки ли у вас озера? – спрашивал я как-то в деревне.
– А мы их, прости за выражение, не мерили! – отвечали мне.
И вот мы плывем по немереному озеру. День понемногу гаснет, по небу, над дальними угорьями, разливается красноватая заря. Мы удаляемся от нее, пересекая озеро, и, когда оглядываемся, видим небо чернильного цвета над еле возвышающимся далеким плоским берегом. А когда подплываем к нему, видим, что он каменный. И камни его как бы уложены человеком – один на один, в длинный ряд. Чем ближе мы к нему, тем он страшнее, а под ним чернота, и вода кругом черная. На берегу растет кустарник, но, приглядевшись, видим мы не кустарник, видим опять березовый лес, и белые обнаженные корни берез висят над водой, как щупальца спрутов.
Проводники наши приглядываются, совещаются, и мы пристаем среди кустов. Прямо от берега уходит едва заметная долинка. Отсюда нужно тащить карбас по узкому каменному перешейку… Подкладываем катки и тащим, упираясь напряженными ногами в мох, под которым слышен камень. А когда вытаскиваем карбас к другому озеру, замечаем на берегу рюжу.
– Ненецкая рюжа, – говорит один из ребят-проводников.
– Ихняя, – подтверждает другой.
В этой рюже видится мне внезапно призрак деятельности, сосредоточенной в древнейших занятиях человека – в скотоводстве, в рыболовстве, в охоте. И эта тундра, озера, прибрежные камни, дальние угорья, покрытые кое-где лесом, сразу перестают казаться мне дикими. На самом деле они полны присутствием человека, присутствием тихим, малозаметным, но постоянным.
Не знаю отчего, но меня охватывает вдруг острый приступ застарелой тоски – тоски по жизни в лесу, по грубой, изначальной работе, по охоте.
Давно-давно уже приходит ко мне иногда, является и молча стоит и смущает картина моря или реки и дом на берегу, дом в ущелье, сложенный из хороших бревен, дом с печкой и коричневыми, слегка прокопченными балками. И моя жизнь в этом доме и на берегу моря, и моя работа – ловить ли семгу, рубить ли лес, сплавлять ли его по реке… Разве это не выше моих рассказов или разве помешало бы это им? Наверное, это сделало бы их крепче и достоверней. Потому что мужчина должен узнать пот и соль работы, он должен сам срубить или, наоборот, посадить дерево, или поймать рыбу, чтобы показать людям плоды своего труда, – вещественные и такие необходимые, гораздо необходимей всех рассказов!
Мы спускаем карбас, забираемся в него, булькая и всплескивая сапогами по воде, и между камней, выстающих из желтоватой глубины, потихоньку отходим от берега. Огибая каменистый мыс, мы выходим в озеро, и нам постепенно открывается его громадная пустынная протяженность.
– Вон чумы!
Мы вздрагиваем, поворачиваемся, напрягаем глаза и видим на далеком темном берегу три чума, три невысоких конуса, чуть светлее по тону, чем берег.
Время уже за десять, солнце село, светло. Огромное озеро, стоящее чуть не вровень с низкими берегами, пустынно. Пустынны и далекие берега. Но на одном из них, на самом дальнем и темном, показались и не скрываются, не пропадают три чума – вместилище загадочной для нас жизни, которую не увидишь нигде, кроме как здесь.
Не сон ли это? Потому что тихо кругом и сумеречно, и вода омертвела, и берега стоят – вон зубчики леса! – так же, как стояли во времена скрытников. И на берега эти смотрели, может быть, плывя в такой час и предчувствуя конец пути, древние бегуны, ищущие землю обетованную и, наверное, шапки снимали и крестились, радостно думая, что дальше уж незачем идти, да и некуда…
Мельком взглядываю я на своих, спутников – и у них странные лица, и они смущены и взволнованы. Даже проводники наши и те как бы ждут чего-то.
– А-а-а-а… – проносится вдруг над озером крик. Он так слаб и невнятен, что сразу ощущается безмерность расстояний в этой пустыне. Мы поднимаем весла и слушаем, не повторится ли крик, не поймем ли мы чего-нибудь. Каплет с весел вода. Иногда вздрогнет весло в руке, и тогда скрипнет колышек. Поднесет кто-нибудь бинокль к глазам, и прошуршит рукав куртки.
– Аркадий Вылко это! – говорят наконец проводники.
– Чего он?
– Увидал нас, зовет, чтоб мимо не проходили.
Опять гребем, журчит под носом, поплескивает под веслами вода. По носу карбаса сумеречное восточное небо, чумы все ближе, и, когда в перерывах между гребками оглядываешься, замечаешь между чумами фигурки людей. Они вырастают внезапно и опять пропадают, будто люди лежали, а потом поднялись и снова легли. И горят два невидимых нам костерка, только дымки тонкими струйками поднимаются вверх – сперва вертикально, потом сваливаются. И еще дымок пожиже, попрозрачнее из среднего чума.
Карбас наш с шорохом цепляет за дно, мы выскакиваем в воду, тянем его на песчаный берег, истоптанный копытами оленей. На нас смотрят издали, как мы выносим вещи и разминаемся. Сбегаются, окружают нас и, поворчав немного, начинают вилять и ласкаться собаки. Пушистые остроухие собаки – старые и совсем щенята еще с розовыми носами. Так, окруженные собаками, мимо погребков, вырытых в обрыве и обложенных торфом, поднимаемся мы к чумам, к ненцам, которые сидят и чинят нарты. Пахнет дымом костров и рыбой.
– Здравствуйте!
– Нгань дорово! Здравствуйте!
Мы присаживаемся около ненцев, кто на нарты, кто просто на корточки. Вокруг нас садятся и ложатся собаки.
Вот чумы и вот ненцы. И мы сидим на нартах, и дым костров набегает на нас. Теперь только смотреть, ведь завтра мы уедем и, кто знает, увидим ли еще все это. И мы смотрим, потому что светло и все видно.
Аркадий Вылко не похож на ненца. Длинно и смугло-матово у него лицо, широки глаза, длинны и мохнаты опущенные ресницы. Нос его высок, с горбинкой, и редки белесые сквозящие усы и борода. В своем головном уборе, напоминающем красноармейский шлем, только гладкий, с отверстием для лица и надетом от комаров, похож он на бедуина, на индейца. И сидит, чуть улыбаясь, вольно и покойно, и покуривает, смотря в землю, и молчит, будто знает что-то возвышающее его надо всеми.
А Петр Вылко – брат его – крепко сбит, низок и слегка кривоног. Стремителен и хищен он в движениях, резок и горяч и весь будто налит черной огненной кровью, опален и прокопчен. Голос его громок, и слышны в нем звериные нотки, когда кричит он вдруг на собаку:
– Гин! (Пошла прочь!)
И втягивает потом с давящимся звуком воздух.
Сидят возле нарт или встают за чем-нибудь еще двое, столь же резко очерченные, такие отдельные и не похожие ни на кого в мире: Алексей Назаров и Николай Горбунов. Один – пожилой, с поднятыми вверх внешними углами глаз, с кустистой бородкой, разговорчивый, смеющийся и любопытный. Другой молод и крепко попирает землю, налит чугунной силой, белозуб и, наверное, особенно лаком, особенно вкусно пахнет – комары облепляют его пуще всех, но он не замечает их.
Потихоньку отхожу я от нарт и оглядываюсь. Вон озеро, теперь лиловатое. У берега застыл черным кривым клинком наш карбас, а рядом – карбас ненцев. Собаки провожают меня. Щенки, если на них посмотреть пристально, сразу ложатся на спину, и пузики у них цвета неспелой клюквы.
Вон чумы, составленные из длинных кольев и обтянутые, обшитые вываренной берестой. Вокруг чумов нарты – длинные и легкие, с полозьями, будто покрытыми лаком снизу, и некоторые уже упакованы и обвязаны веревками: ненцы готовятся к перекочевке. Возле нарт, раздувая жарким дыханием пыль, лежат больные олени. Они все темно-коричневого цвета, беззащитные, с длинными печальными глазами и бархатными рогами.
Между нарт валяются еще во множестве ржавые капканы. Их выварят зимой в хвойном настое и будут закапывать в пушистый снег, и огненная, зеленоглазая лисица, насмерть защелкнутая кривыми скобами, будет прыгать кругом, поднимая хвостом снежную колючую пыль.
Ребятишки, как привидения, вырастают из-за чумов, жадно глядят на меня – сначала один, постарше, тут же около него появляется другой, поменьше, потом еще и еще, и глаза их одинаково горят любопытством, а потом к ним на четвереньках прибавляется совсем уже крошечное существо и тоже смотрит туманно.
На горизонте, из-за угорьев, показывается широкоплоское пятно, немного бурее по цвету, чем тундра. Оно шевелится, вытягивается и сжимается. Оно растекается шевелящейся полосой по всему горизонту. Это олени.
Они ждут своего часа.
Запряженные по четыре в нарту, они помчатся, хрюкая, в снежную беспредельность. Над ними будет вздыматься тонкий хлыстообразный хорей, а нарты с грузом или с людьми будут обсыпаться снегом, наклоняться и переваливаться на сугробах. Много тысяч километров предстоит пробежать этим оленям, и многие дали обволокут их и заглянут им в глаза. А другие упадут под ножом, и кровь их напитает мох, мясо их сварится в чуме, и много малиц и унтов наделают зимой из их шкур.
Но это исполнится не сейчас. А теперь они свободны и ходят в тундре, окуная ноздри в мох, и могли бы уйти совсем, далеко от людей, на север, к океану. Они могли бы стать дикими, чтобы мчаться по угорьям и замирать на вершинах, озирая пустыню. Но чумы держат их, человек зовет их, и зов этот во сто крат сильнее зова тундры. Олени придут к людям и станут нюхать дым костров. Они идут. Шевелящееся, невнятное пятно все ближе…
Ненцы кончили починять нарты.
– Ну, ребята, чай пить пойдем дак!
И между нарт, между собак и лежащих оленей мы идем к чуму Вылки. Нагибаемся и входим по очереди и сразу начинаем разуваться на мягких шкурах, снимать куртки и свитера. В чуме сумерки и верхний свет. В чуме гудит железная печь, рыба благоухает на ней и чайник кипит, и труба вздымается к дыре наверху, к той дыре, в которую когда-то выходил дым от очага, а теперь льется свет белой ночи.
Кто сказал, что ненцы не знают по-русски? Они говорят свободно и чисто, на новгородском наречии, с тем растягом и так же скоро, как везде в поморских деревнях. Нет никаких пресловутых «однако», нет медленности, скованности мысли, которые примелькались уже в литературе о ненцах. И это тем удивительней, что ненцы эти вовсе не обрусели и не оставили свой язык – между собой и с животными они говорят все время по-ненецки.
Садимся пить чай на мягкие шкуры за низкий столик. Жена Вылки, как в хорошем доме, накрывает на стол. За нашими спинами подушки. Рыба вкусна. Чай душист и крепок. Главный разговор, как у московских таксистов, – про погоду. Но здесь погода не просто приятная или неприятная, здесь она, как и у рыбаков на море, определяет ход жизни.
Больше месяца в тундре жара. Мох высох. Олени болеют копыткой, тощают и вот-вот начнут падать. В тундре нет тени и некуда деться от солнца. Даже ночью над лежащим оленьим стадом поднимается пыль от дыхания.
Из чума мне виден печальный, больной олень.
– Как будет по-вашему олень? – спрашиваю я.
Ненцы смеются.
– Ты.
– А тундра?
– Вы.
Ты и вы… Теперь смеемся мы.
– А озеро?
– То.
Взгляд мой падает на мальчугана, совсем беловолосого, примостившегося на колене отца.
– А ребенок?
– Ацакы́.
В чум, пожимаясь, пробирается собака, садится, молотит хвостом, сладостно смотрит на нас. За ее спиной на светлой полосе озера торчат уже уши другой…
– Гин! – кричит Вылко.
Собаки сконфуженно исчезают.
Печка остывает, хозяева вежливо позевывают. Нам стелют шкуры у стены, кладут подушки, опускают полог от комаров. Ноги советуют спрятать под пушистое собачье одеяло. Хозяева устраивают себе точно такую же спальню на другой стороне чума.
Плачет ребенок. Его укачивает мать, быстро говорит что-то переливающимися звуками по-ненецки. Ребенок смеется. Потом затихает в теплой темноте, за пологом.
– Спокойной ночи! – говорят ненцы-гости и бесшумно выходят из чума.
В чуме остаются только хозяева.
Напоследок я спрашиваю у Вылки, как они живут. Все ли есть у них? Хороша ли жизнь?
Хозяева оживляются, и мы начинаем вслух подсчитывать, повторять, загибая пальцы, все статьи доходов.
Тысяча оленей в стаде. Семьсот колхозных и триста своих. Ненцы не колхозники, в колхозе работают по договору. Три рубля в месяц летом и два – зимой платит им колхоз за каждого оленя.
Вторая статья доходов – перевозка колхозных и рыбкооповских грузов. Возят зимой и летом по двум направлениям: от Койды до Мезени и от Койды до деревни Инцы, на Зимнем берегу. Стоимость зимних перевозок 4 рубля 46 копеек с тонно-километра. Летних – 5 рублей 46 копеек.
Бригада ненцев состоит из четырех семей. Таким образом, на каждую семью приходится до тысячи рублей в месяц. Кроме того, существенную роль в доходах играет особый промысел: шитье на продажу малиц, шапок, унтов, рукавиц и т. п.
Рыбу на озерах ненцы ловят без всяких ограничений. Попадается щука, окунь, сорога и кумжа. Зимой охотятся на дичь и на пушного зверя, но охота, по словам Вылки, случайна – много времени забирает основная работа: пастьба оленей и перевозка грузов.
Муку покупают в колхозе и сами пекут прекрасный хлеб в духовках. Посуды очень много, и самой разнообразной.
Единственное неудобство, которое хорошо сознается, – это чум. Летом в нем хорошо, но зимой холодно и темно – чум почти не держит тепла. Долго и с наслаждением расспрашивает Вылка о передвижных домах-фургонах, которые так медленно начинает выпускать наша промышленность.
Ночью я просыпаюсь от глухого топота и хрюканья. Чумы окружены оленями. Медленно, но неуклонно двигались они сюда из тундры и вот пришли и легли – тысяча оленей, темных и белых.
И еще раз я просыпаюсь под утро от волнения за стенами чума, которое передалось и мне. Топот так силен, что дрожит торфяная земля, и слышно сквозь этот топот, как бархатно сталкиваются рога взволнованных чем-то оленей. Что с ними? Приснился ли всем сразу страшный сон? Или подошли близко волки?
Третий раз я просыпаюсь от солнца, дымным косым столбом бьющего в распахнутый чум, и от крика снаружи. Ненцы ходят среди оленей, расталкивают их, осматривают им копыта. Трещит и наполняет все вокруг жаром затопленная печь. Низенький столик вынесен наружу, готовится общее утреннее чаепитие. В глазах рябит от множества оленей вокруг, от множества огромных блестящих черных глаз. Ах, как измучены эти олени, как впали их бока, какой нервный ток пробегает по ним, когда кусают их оводы! Рога их разнообразны – от простых шишечек, покрытых черным пухом, у молодых, до великолепных, со многими отростками у стариков. Внизу светло-буро-черная шевелящаяся масса тел, а выше неоглядное переплетение рогов, будто карликовый лес.
Уже нет вчерашней некоторой таинственности, при свете солнца все обыкновенно, понятно и будто давно знакомо. Будто мы много раз бывали у ненцев, жили с ними, слышали каждый день хрюканье оленей, говорили о пастбищах, о кочевках, о падеже и проценте сохранения молодняка.
Садимся пить чай. Пьем, обливаясь потом, на жаре, под солнцем, и чем больше пьем, тем больше хочется.
– А можно белого оленя посмотреть поближе?
– Можно! – говорит Вылко и поворачивается к мальчишке. – Тэ хань сэрако тым тэвра! (Сходи в стадо за белым оленем!)
Мальчишка радостно бежит, скрывается в стаде, что-то там разыскивает, распихивает, находит белого оленя и выводит его.
– Таля! – кричит ему Вылко. – Иди сюда!
Мальчишка тащит к нам оленя.
Белый олень крупнее темного и сильнее. Он дрожит всей кожей, по крупу проходят волны.
– На оленей в нартах хотите посмотреть? – спрашивают нас.
Мы очень хотим. Тогда среди чумов начинается оживление. Достают упряжь, бегут к стаду, олени вскакивают, шарахаются, черных толкают в бока, чтобы не мешали, ловят только белых.
Через десять минут четверка оленей запряжена в нарты. Вылко стоит с хореем, выжидательно смотрит на нас.
– Пускай! – кричим мы.
Вылко падает в нарты, олени рвутся, нарты со свистом летят по мху, ненцы хохочут. Вылко потягивает оленей хореем, направляя по громадной дуге, нарты подскакивают на кочках, Вылко, выбросив ноги в стороны, балансирует, отталкиваясь пятками от земли, скрывается вдали за стадом. Потом показывается опять и летит уже к нам – олени легко перебирают ногами, рога их закинуты к спине, ноздри раздуты. Они ослепительно белы под солнцем, как снежное чудо.
А еще часа через два мы прощаемся, нас зовут в гости зимой, выходят вместе с нами на берег, мы налегаем на карбас, сталкиваем его в воду, вскакиваем, умащиваемся на веслах… Поднятые руки, невнятные крики, напутствия – и опять мерные взмахи, журчание воды, свежий ветерок, а ненцы, и олени, и чумы отдаляются, отдаляются, и с этим ничего не поделаешь.
Целый день потом мы гребем по озеру, купаемся, бредем тундрой, рвем морошку и чернику, проходим опять мхами, болотцами, карликовым лесом – все время лицом к солнцу, к морю. Даль между тем затягивается дымкой, мы думаем о пожаре в лесах, но это не пожар, это наползает с моря туман, заволакивает солнце и дышит холодом. А к вечеру приползают и тучи, и ночью уже идет дождь, значит, конец душной муке! И мы все время вспоминаем ненцев и оленей, воображая их радость дождю.
11Мы на высоком угорье, почти отвесно обрывающемся в море, возле деревни Ручьи ждем парохода в Архангельск.
Внизу над нами рыбоприемный пункт, река, окруженная кошками, широко впадающая в море. На реке, возле склада, приткнулась мотодора, тоже дожидающаяся парохода.
Парохода все нет, мы спускаемся вниз, некоторое время говорим с капитаном доры, с рыбмастером – милой женщиной, глядящей на нас широкими светлыми глазами, пьем чай с морошкой, опять выходим на песок. Солнце, теплый день, чайки летают во множестве, вдали на море посверкивают снежными спинами играющие белухи.
Потом рыбмастер ведет нас на холодильник показать свое хозяйство. Зажигаем по свечке, как при входе в катакомбы, и, загораживая рукой трепещущие огоньки, входим во мрак и холод кажущегося бесконечным помещения. Внизу лед, на нем положены доски, а справа и слева от прохода врыты в лед большие чаны с рассолом. В густом прозрачном рассоле светятся жаберными крышками и боками семги. Мы приподнимаем одну, она холодна и тверда, как дерево, черный глаз ее загадочно смотрит на нас.
Вот куда свозят со всех тоней выловленную рыбу. Вот где зреет она в тишине, в темноте, как вино, наливаясь вкусом и ароматом. Вот где кончаются ее «походы» – и, как и у зерна, у вина, у дерева, отсюда начинается новая ее дорога к людям.
Наши лица бледно озарены свечами, нам становится холодно, и мы выходим на солнце. Мы видели, как ловят рыбу, мы слушали бесконечные разговоры о ней по всему берегу, во всех колхозах. Как на юге говорят: «Хлеб, хлеб!» – так здесь говорят: «Семга, семга!» И вот теперь мы увидали конец одной цепи и начало другой. Круг замкнулся. Вон в мотодоре стоят две громадные забитые бочки, каждая килограммов по четыреста. Они уже не здесь – они там, в новой дороге, они проштемпелеваны, записаны в ведомости, как бы отрешены уже от рыбаков, от берега и через какой-нибудь час…
Я поднимаюсь опять на угорье и шарю биноклем по горизонту. На десятки миль хватает глаз, но парохода все не видно. Зато я замечаю вдруг то, чего не видел раньше, – какую-то призрачную голубую холмистую полоску на горизонте. Берег ли это? Далекий остров? Или облака? Я всматриваюсь до боли в глазах, но не могу решить. Тогда я запоминаю форму этой холмистой полоски, похожей на идущие, поднимающиеся из-за горизонта синие тучи, и на время отвлекаюсь. Минут двадцать я рассматриваю по очереди белух, выстающих далеко в море, и чаек, парящих близко, почти на одном уровне со мной. Потом снова взглядываю на загадочную полоску. Нет! Форма холмов не изменилась. Значит, это не облака…
Я начинаю спускаться вниз, время от времени останавливаясь и взглядывая на синюю полоску. На нее почему-то очень хочется смотреть.
– Видна ли какая-нибудь земля с горы? – спрашиваю я внизу.
– А! – говорят мне. – Так то Кольский полуостров, Терский берег…
– Далеко ли до него?
– Километров восемьдесят, тут у нас само узко место на море…
Так вот что я видел, Кольский полуостров!
Пароход показывается неожиданно. Когда мы замечаем его, он уже близко – белое пятнышко. Капитан мотодоры оживляется, по длинной доске перебираемся мы на палубу, якорь поднимают, мотор тарахтит, последний раз оглядываем мы северный берег, людей, здание рыбоприемного пункта и выходим в море навстречу пароходу.
Мы подошли к его черной стене с носа, нам спустили веревочный трап, мы взобрались на палубу, стали рассеянно смотреть, как снизу, из мотодоры, подвывающая лебедка вытягивала в веревочной сетке бочки с семгой…
Затем и пароход двинулся, и Ручьи потонули в туманной дали. Скоро миновали мы Инцы, Зимнюю Золотицу, а потом настала светлая ночь, и море было спокойно…
Пришла пора прощаться и с Архангельском. Что-то случилось с ним, пока мы скитались по северным краям. Он как-то погас, заосенял, хоть и светило еще августовское солнце. Набережные его стали пустынны – никто уж не купался. И березы в скверах будто покрылись рыжими веснушками. И пахло иначе – пряный запах лета исчез, уступив место другому, тянущему и горьковатому запаху осени.
Зато все так же мощно дышала река и все, что было на ней: пристани, корабли, катера, подъемные краны, лесозаводы… И опоры строящегося моста стали как будто повыше. И появились на заборах новые афиши и новые лозунги на стройках. И капитана «Юшара» Юрия Жукова наградили орденом «Знак Почета».
Поздно вечером надели мы последний раз свои рюкзаки и последний раз ступили на палубу парохода, перевозящего пассажиров на левую сторону Двины, к поезду. Пароход сипло и торопливо свистнул, забурлил винтом и стал отходить. Через минуту нам опять открылась панорама громадного северного порта, масса зданий, и дымов, и труб, и судов на Двине. Вода была спокойна и сумеречна. Горели красные, белые и зеленые огни на бакенах, на бортах и кормах судов. Рубиново светили в недоступной высоте авиамаяки на прозрачных опорных башнях по обеим сторонам Двины. И надо всем этим – над городом, над рекой, над судами – тихо сияла низкая пурпурная луна, которую видели мы первый раз за все свое долгое путешествие по Северу.
Начав свои записи в июле, на сейнере, при выходе из Мезени, заканчиваю я их осенью на Оке.
Я живу в доме на высоком холме. Леса кругом горят осенними пожарами. По утрам пойма Оки наливается голубым туманом, и ничего тогда не видно сверху, только верхушки холмов стоят над туманной рекой красными и рыжими островами.
Листопады особенно сильны по утрам, после ночных заморозков, и, когда я спускаюсь вниз к роднику, а потом медленно иду лесом домой, в ведрах моих плавают листья, которые попадают туда на косом полете, стукаясь сперва о мои руки.
Иногда дали мутнеют и пропадают – начинает идти мельчайший дождь, и каждый лист одевается водяной пленкой. Тогда лес становится еще багряней и сочней, еще гуще по тонам, как на старой картине, покрытой лаком.
Днем на полянах, нагретых солнцем, летают по-летнему оживленные мухи и бабочки. Трава, елки и кусты затканы паутиной, и жестяно гремят под сапогами шоколадные дубовые листья. Покрикивают буксиры на Оке, зажигаются вечерами бакены, гудят по склонам холмов тракторы, и кругом такие милые художнические места – Алексин, Таруса, Поленово, кругом дома отдыха и такая мягкая, нежная осень, хоть время идет уж к середине октября…
Осень теперь и на Белом море. Но там она иная – ледяная и жестокая. Там мигают теперь во тьме огни маяков и с устрашающей силой дуют «север» и «полуношник». Там в редкие дни идет снег, и на море появляется первый лед. Мистически вспыхивают там по ночам безмолвные северные сияния. Суда в море кренятся так, что катятся моряки по палубам. И многих смывает за борт, и тогда летят в черное небо тревожные ракеты, пляшет по волнам дымный свет прожектора и долго вздымается и опадает на проклятом месте осиротелое судно. Там рыбаки на берегу вваливаются в избу насквозь мокрые, с заколеневшими сизыми руками и никак не могут отогреться, слушая, как под окнами ревет море.
И вот вечерами в теплом доме на Оке я вспоминаю Север. В дом ко мне как бы приходят механик Попов, и лоцман Малыгин, и капитан Жуков, и рыбак Котцов, и Пульхерия Еремеевна, и ненцы – все, кого я упомянул в своих записках и кого не упомянул, все тихие герои, всю жизнь свою противостоящие жестокостям природы.
Они приходят и кивают мне, и зовут опять туда, к ослепительным небесным чертогам, на мрачные берега, в высокие свои дома, на палубы своих кораблей. Жизнь их не прошла с моим отъездом, она идет, неведомая в эту минуту мне, и когда они уходят к себе, мои тихие герои, я знаю: они уходят работать, уходят трудами рук своих и напряжением душ творить и приближать наше великое будущее.
Я жалею, что о многом не написал, многое пропустил, быть может, очень важное. Я хочу снова попасть туда. Потому что Север только начинает жить, его пора только настает. И мы застанем эту пору, при нас она грянет и процветет со всей силой, доступной нашей эпохе.
1960








