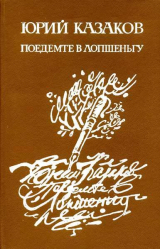
Текст книги "Поедемте в Лопшеньгу"
Автор книги: Юрий Казаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 45 страниц)
У меня киноаппарат, вокруг меня высокой стеной сети невода, колья, заходящее солнце, море вдали, море под ногами, напряженные фигуры рыбаков в мокрых сапогах внутри невода, а в мелкой воде кругом – кипение, и плеск, и брызги в лицо.
Попалось на этот раз много горбуши и несколько крупных семг. Семги стоят спокойно, как бы недоуменно, и только, когда наклонишься к ней, она мощным ударом хвоста окатывает тебя с головы до ног и отпрыгивает на несколько метров. Зато что творится с горбушами! Они пересекают по многу раз небольшое пространство невода, вздымая темными спинами каскады переламывающейся воды, они обезумели от ужаса и отчаяния, бьются и кидаются на сеть.
Я торопливо снимаю, стараясь, чтобы брызги не попали в объектив, рыбаки, не выдержав, начинают чекушить рыбу, ударяют ее раз за разом по голове, и рыба покорно сникает, но тут же из-под сапог у них вырывается другая, и разом еще живые рыбы приходят в движение, шипение и плеск стоит невероятный, и кричат хищно, и кружат, и нервно садятся на колья над нами чайки.
Оглушенную рыбу сносят и складывают на носилки и в корзину, я снимаю еще и это, потом рыбаки нагружаются, мы им помогаем, и все вместе, согнувшись, вылезаем через горло невода наружу. Пока я снимал, а рыбаки били, вода совсем ушла, и мы теперь на обсохшем дне, кругом валяются ракушки, клочки водорослей, пряно и сильно пахнет потаенностью, и солнце стало еще ниже и краснее.
С носилок шлепается на песок семга, мы останавливаемся, и Титов, пользуясь передышкой, слегка запыхиваясь, объясняет мне устройство невода:
– Эвон видишь, сам берег-от? От берега на кольях идет прямо в море стенка, по-нашему завязка, бережная завязка. Понял? Идет она к самому неводному горлу, видишь?
Показывает мне круглый, вздетый на колья невод, похожий на огромный сачок, на загородку со входом со стороны берега.
– От горла, эвон видишь, вроде как и завязка, только коротенькой, и называется левый откос. Так же и в правой стороне – правый откос. А от правого откоса, вон где чайка села, уходит в море отбой, метров сто ему будет…
Он затаптывает окурок и смотрит на горбушу.
– Горбуша у нас новая рыба, первый год ловится. Эта рыба глупая, походов у ней нету, так дуром и валит. Вкусная рыба, да вот пока не позволяют ее сдавать – и плана на ее нету, – велят выпускать.
– Чего же не выпускаете? – спрашиваю.
– Так и выпускаем, когда много ее зайдет. А когда мало, так для себя берем, да и то если какая побьется или хомут себе сделает (долгое время помучится в ячее сети), куда ж ее выпускать, все одно погибнет…
(Я узнал потом, что несколько лет назад в реках Кольского полуострова была произведена инкубация оплодотворенной икры горбуши, привезенной из низовьев Амура. Мальки скатились в Баренцево море, оттуда на другой год пришли в Белое, разошлись по всем его берегам, выбирая себе места, исследуя рельеф дна. Чувствует она здесь себя превосходно, во всяком случае в той, которая попалась в невод, не было заметно ни малейших признаков вялости – наоборот, очень крепкая, стремительная и большая уже рыба.)
– Дурная она, – опять повторяет Титов.
Это он потому так говорит, что горбуша не акклиматизировалась окончательно и не выработала себе «походов», как семга.
Рыбу несут на ледник, мы приходим в дом. Пульхерия Еремеевна ставит на печку уху, окна слегка отпотевают, мы снова сидим за столом, Титов потягивает свой пуншик, отдыхает. Солнце уже коснулось горизонта и красно, красно… Чайки поднимаются над пустым неводом, держатся некоторое время неподвижно на раскинутых крыльях и тяжело садятся на колья.
Титов начинает рассказывать о зверобойке. Он уже опьянел немного, говорит, говорит, а солнце садится… Я беру бинокль и выхожу на берег. Вправо и влево бесконечная песчаная широкая полоса, резко подчеркнутая отодвинутым к обрыву плавником, сухим, светлым, обглоданным морем. Многие бревна стоят торчком, как после сотворения земли, и на них любят отдыхать чайки.
Навожу бинокль на солнце – оно мрачно-красное и, срезанное наполовину горизонтом, похоже на громадную каплю раскаленного жидкого металла. Капнула капля, расплылась по морю, дрожит и потихоньку тонет, окутываясь красными облаками.
Приходят мне на память рассказы о зеленом луче, ярко блистающем будто бы иногда в последнюю секунду, когда солнце совсем уходит, и я терпеливо жду – не увижу ли? Жду десять минут, пятнадцать, двадцать… И вспоминаю закаты, которые видел на Черном море, – там солнце проваливалось мгновенно, на глазах, и сразу наступала ночь со звездами.
Звенят комары, молча, без крика, летят чайки, темные на красном небе, садятся на дальнюю кошку и замирают там – засыпают, наверное?
Начался прилив. Волны шумят значительно ближе, и в неводе опять вода, скоро она совсем покроет его, и там, где теперь песок и я, ночью будут ходить семги, натыкаться на сеть, идти вдоль нее в сторону моря, стараясь ее обогнуть, и будут попадать в горло невода и кружиться, кружиться там, бессильно и настойчиво, в поисках выхода, пока вода снова не спадет и не придут рыбаки и не станут их бить и класть в корзину.
Солнце наконец садится. Долго и мертво мерцает оно последней искрой, верхним своим окончанием, и я все смотрю на него в бинокль, даже руки начинают дрожать, – и эта последняя искра коричневеет и гаснет. Остается одно остывающее небо на том месте, гряда прозрачных облаков и широкая краснота. Остается космический свет над головой, остается белая ночь с тишиной, с безветрием, со слабым ропотом волн приближающегося моря.
Я иду в избу. Все полегли на лежанках, накрылись чем-то, хотят заснуть, но не спят еще. А у светлого окна сидит Титов с уже остывшим пуншиком и, завидев меня, начинает опять говорить про зверя и этим самым как бы и про свою жизнь, прошедшую на этом берегу.
– Тюлень, – бормочет он сонно. – Тюлень… тюлень… Первый тюлень, который родился, дите, на ладошке поместится, – это тебе зеленец. Зеленец это… зеленец…
А потом он белеет, шкурка-то белеет, и называется тогда белёк, тоже маленький, белёк-то, а глаза как луковица, большие да черные дак…
А потом белая шерсть сходит, показывается черная, а так еще вроде серая она, шерсть-ти, серая, и называм мы его хохляк… Хохляк, сказать тебе…
Потом пятнышки идут по ней, по тюлешке-ти, и это у нас серка, серочка… И это все происходит на первый год круговращенья.
А на другой год он, тюлень-ти, большой-большо-о-ой… И называется серун… А? Ха-ха-ха… Серун… А на третий свой год самый настоящий лысун. Понял ты? Не серун – лысу-ун! Лысун, а самка – утельга. Утельга…
Длится ночь, давно спит Пульхерия Еремеевна, и милое во сне у нее лицо, давно спят все, дальние кошки заливаются водой, и чайки, совсем черные на светлом, сонно поднимаются, и летят к нам, и рассаживаются на обрывистом берегу, на торчком стоящих бревнах, и снова засыпают.
– Я не сплю ночью-ти, не сплю! – говорил нам раньше Титов.
– Не спит, не спит! – подтверждала и Пульхерия Еремеевна.
– На час глаза смежу и опять все гляжу, какая погода, ветер какой, – говорил радостно Титов, вроде бы гордясь такой своей способностью.
И когда мы все разлеглись и места не было где лечь, но мы все-таки предлагали ему: «Ложись, дядя, ложись!» – он в ответ бормотал:
– Спите, спите… Я не сплю, я так посижу, пуншик вот у меня… Пятеро нас на тоне-то, да сейчас квартальный план перевыполнили, покосы начались, рыбаков всех сняли дак, вдвоем мы теперь с девушкой вот, с Пульхерией Еремеевной, вдвоем… Какой сон, не сплю, сижу у окна, на море все гляжу…
А теперь и он заснул, тяжело, голову на стол, лицо беспомощное, похрапывает, тепло в избе, свет из окон. Беспокоит это, думается о чем-то. А Титов спит крепко и сны, наверное, видит. Какие ему сны снятся?
Утром опять солнце, опять мелеет море и уходит, обнажая песчаный берег и невод. И в неводе снова плеск и шум, солнечные брызги, и среди брызг и плеска – рыбаки в мокрых одеждах, с мокрыми палками в руках. И бьют, бьют, чекушат, усыпляют рыбу, стаскивают в корзины, на носилки…
А еще через час заходит в дом ранний гость, глухонемой с лицом Иванушки-дурачка, с прелестной радостной улыбкой, от которой расплывается у него нос. Жестами, мычанием, лицом, на котором горечь и боль утраты, показывает, как горят и горят леса где-то на юге, и как дым застилает солнце, и как самолеты летают тушить, но неудачно.
Потом заходит небрежный парень-возчик с холодильника, с рыбоприемного пункта. Его угощают семгой, морошкой, но он где-то раньше, наверное, наелся, ковырнул только, посидел, пошутил. И начали грузить на лошадь выловленную рыбу, недавно так яростно бившуюся, прошедшую перед этим тысячи миль, побывавшую в каких-то глубинах, в тайне, а теперь беспомощную, мертвую, но еще гибкую и свежую, которая через какой-нибудь час успокоится в чанах с рассолом, во тьме, на льду. Через час вынут у нее жабры, сделают на брюхе два «кармана», осмотрят, ощупают, взвесят, запишут за этой тоней, за Титовым и Пульхерией Еремеевной. А потом она будет солиться, плавать во тьме, будто бы в родной своей стихии, выдерживаться твердой, как полено, от холода, пока не уложат ее и тысячи ей подобных в огромные бочки килограммов по триста – четыреста тесным рядом, кругом, спиной книзу, брюхом кверху, не забьют и не погрузят на пароход и не пойдет она в Архангельск, где ее снова пересортируют и снова забьют, чтобы отправить дальше, в Москву и сотни разных городов – наших и иностранных. И будет, наконец, лежать она в витринах гастрономических магазинов, освещенная люминесцентными лампами, чернея спиной, серебрясь боками и нежно рдея срезом, сочась янтарным соком за прохладным стеклом.
Лошадь привычно трогает, идет рысью по песку, возчик так же привычно кричит что-то непонятное, смотрит поверх дуги в море, вперед на берег, на небо, на все, что перед его глазами, двухколесная тележка бодро катится, отбрасывая короткую тень, превращается постепенно в точку, пока совсем не скрывается за поворотом.
А Титов на прощание говорит, что где-то здесь, между Койдой и Майдой, будут строить аэродром и начнут потом прилетать и опускаться тяжелые брюхастые самолеты, и семгу – не соленую, а свежую – будут отправлять на самолетах в Москву и Ленинград.
Представляя себе эту будущую картину быстроты, садящиеся и взлетающие взревывающие самолеты, мы уходим с тони и опять идем по пустому берегу, поглядывая на две четкие колеи и четкие следы копыт, оставленные уехавшей лошадью.
9Редки деревни на Белом море, и каждая резко отлична от другой – расположением своим и народом. Одни стоят, выбежавши, на самом берегу моря, другие, спрятавшись за увалами, – возле реки. Одни больше, другие меньше, погрязнее и почище, повыше домами и пониже… И народ в одних поприветливее, пословоохотливей, в других поравнодушней, как бы попривычней к приезжим.
И каждый раз, входя в новую, неизвестную тебе деревню, глядишь во все глаза, слушаешь и нюхаешь, подмечаешь все мелочи, архитектуру, выражение народа, населяющего этот уголок, напитываешься сразу, все принимаешь к сердцу, чтобы потом вечером равнодушно лечь спать или, наоборот, выйти и ходить, ходить в надежде снова очароваться и с охотой говорить с хозяевами или с соседями, которые зайдут, с удовольствием слушать их, вникать в их жизнь и по возможности понятнее объяснять им свою и зачем ты здесь появился.
И потом, когда уедешь и пройдет год, и два, и три, все будет охватывать слабое волнение при одном звуке той деревни, при воспоминании о ней и хотеться вновь туда, опять увидеть тех людей и узнать все новости. А другие как-то и пропадают вовсе, будто и не был там, не жил…
В Майду входили мы вечером, и едва увидели ее из-за холмов, еще от моря, едва сапоги наши зазвенели по бревенчатым настилам и мостикам, едва вошли мы в первую улицу, как были покорены спокойствием и уютом, излучаемым этой деревней, и уже радостно переглядывались… А нас на первом деревянном перекрестке поджидала группа народу, вглядывалась в нас, а когда мы подошли, все наперебой стали спрашивать, как доехали и не видели ли того-то и не везли ли на машине таких-то вещей. И, поговорив, наглядевшись на нас, стали показывать, как найти заместителя председателя, и советовать, у кого бы лучше остановиться, и говорить нам: «Ну спасибо, вот спасибо-то!» будто мы бог весть каких радостей и подарков навезли им.
Мы пошли далее по улице, по бревнам, и они музыкально, как ксилофон, звучали под нашими шагами, а по сторонам были изгороди, и огороды, и дома, и прекрасный клуб наверху, и радио играло на столбе возле клуба, был теплый розовый вечер, и раздавались частые удары топоров в разных местах – в деревне строили два или три дома, а новые дома всегда веселят сердце.
Заместитель председателя Бурков налаживал косы, с ним был еще кто-то, и все – на улице среди дивного ансамбля изб, поветей, и съездов, и мостков, и изгородей, и зеленой травы между всем этим деревом – они были озабочены косами, мыслями о сенокосе и деловито совещались о чем-то.
Увидев нас, Бурков одернул розовую рубаху, выслушал нас, поздоровался, тихо улыбнулся и пошел говорить с кем-то, и было похоже, что он – молодой – пошел куда-то к отцу посоветоваться, где бы нас поместить, а мы остались ждать его со своими рюкзаками на траве, курили и осматривались с наслаждением, и нас тотчас окружили ребятишки – тоже особенные какие-то в этой деревне, огромноглазые, со слабым золотистым загаром на тонких ликах.
Бурков скоро вернулся и сказал, что идти можно и что лучше всего остановиться нам у Евлампия Александровича Котцова.
Прекрасный это и старый был дом! В нежилой половине его, служащей как бы преддверием повети, сложены были сырые кирпичи и навалены кучи сухого мха и пахло почему-то очень отчетливо сиренью. Мы вошли направо, в кухню, и застали чаепитие в разгаре. При нашем появлении встала с места и хорошо на нас посмотрела женщина средних лет, а в дальнем конце стола сидел высокий прямой старик и тоже смотрел, улыбаясь, как мы снимаем рюкзаки.
Семьдесят лет было ему, как мы потом узнали, семьдесят лет, но на вид и пятидесяти нельзя было дать – такие густые сивые волосы валились ему на лоб, такое красное здоровое лицо было у него и такое веселье и хозяйственность играли постоянно на этом лице!
Повел он рукой, показывая на комнату позади себя, и мы начали переносить вещи туда, а он тут же приказал нести и самовар к нам и вдруг сам вошел – не вошел! – вполз к нам на коленях, и больно было смотреть, как этот красивый старик, мужественный и веселый, ползает, шуршит и постукивает культяпками своими в бахилах. А он, внимательно и вопросительно посмотрев на нас, тут же выполз и скоро вернулся с полной тарелкой квашеной семги и потом ползал с невероятной быстротой, несмотря на наши протесты, носил стаканы, блюдца, сахар, а женщина – она оказалась падчерицей его – тоже бегала и ставила на стол что-то еще и еще…
Чуть свет на другой день уехал он на реку доставать какие-то ремни, которые он утопил. И доставал, и нырял там, и полоскался в ледяной воде чуть не до полдня, вернулся огорченный неудачей, но попутно успел и рыбы наловить. А едва рассортировал рыбу и приказал хозяйке наварить ухи, взялся за косу и часа три постукивал на улице, потюкивал топором и молотком и сделал прекрасную косу-горбушу и тут же наточил ее до остроты бритвы.
На другой день с веселым упорством опять уехал вылавливать ремни, а потом целый день не был дома, работал где-то для колхоза, а приползя домой, и дома работал, постукивал кругом избы.
Пришла к нам жаловаться женщина и поставила нас в тупик. Многодетная мать, она хотела накосить сена для себя, не дожидаясь окончания колхозных покосов, так как двое или трое детей ее работали на пожнях, косили для колхоза, а колхоз все равно, справившись со своими делами, разрешал потом всем косить для себя. Правда человеческая была вроде на ее стороне, и мы уже хотели было поговорить с заместителем председателя, но тут не вытерпел Котцов.
Он слушал, слушал и не вмешивался, так как женщина пришла к нам. Видно было, что он решил быть во всей этой истории нейтральным, но, заметив нашу растерянность и нерешительность, вдруг взвился и заговорил и сказал именно то, что должны были бы сказать мы и что должен был бы сказать на его месте государственный человек.
Во всей речи его колхоз выставлялся на первое место. Он ругал эту женщину, но ругал мягко, он убеждал и доказывал, и приводил примеры, и пускался в экономические подсчеты. Весь он раскраснелся, не выдержал, сполз со стула и стал перебегать на коленках по кухне, волосы свалились ему на лоб, и вся картина была тем более интересна, что женщина не просто слушала его и соглашалась – нет, она спорила, и тоже очень здраво, но только в ее доводах перевешивала сторона личная, человеческая, а в его – государственная, колхозная.
А какая осведомленность во всем, как быстро и уместно напомнил он ей о всех ее достатках, об овцах и корове и о сыновьях, работающих в Атлантике и прекрасно зарабатывающих, и как очевидно становилось и нам и ей, что живет она хорошо, а сейчас просто поторопилась, пожадничала… «Белеюшка!» – называл он ее, тогда как в речах его был яд и была страсть, – «Белеюшка!» – и ни одного грубого, обидного слова не было сказано в их ожесточенном споре, и женщина долго потом сидела у него, и говорили они уж о другом, и ушла она веселая.
Шутник был этот Котцов, веселейший краснолицый старик, выпить любил за компанию необычайно, но совсем мало, и тогда оживлялся еще больше, беспрестанно посмеивался, похохатывал, радовался жизни, радовался, что живет в Майде, что работает в колхозе, что крепок и ясен, несмотря на свои семьдесят лет…
И все не мог я спросить у него про ноги, неловко было, хотя и хотелось. Но однажды за вечерним чаем, накануне отъезда, выбрав хорошую минуту, я раскрыл тетрадь и попросил:
– Расскажи, Евлампий Александрович, как ты ноги потерял.
Он ворохнулся, посмотрел на тетрадь, поправился, укрепился на стуле и начал охотно, будто доклад делал:
– Пиши! Пиши, значит, что Котцову Евлампию Александровичу сполняется в этом самом одна тысяча девятьсот шестьдесятом году семьдесят лет. А рождение его будет двадцать третьего октября…
– Погоди, Евлампий Александрович, ты уж не так официально, – попросил я, – ты уж давай попросту…
– Ага! – Котцов на секунду смешался, потом захохотал и заерзал на стуле: – Попросту? Ну, можно попросту, тогда валяй пиши просто…
Он минуту подумал.
– Это событие произошло такое. Сполнилось тогда мне двадцать лет от роду, парень я был крепкий, хороший, сказать тебе, парень. И все делал как следовает быть. Пошел я раз на зверобойный промысел Белого моря…
Почувствовав, что опять впадает в торжественность, он запнулся на миг, улыбнулся и окончательно сменил тон:
– Пошли мы обыдёнкой… Обыдёнка, сказать тебе, товарищ, это когда утром уходишь, а вечером домой ворочаешься. И вот ушли мы в море далеко, и пал на ту пору ветер горний. А как пал – зашлось у нас сердце, а потому зашлось, что на гору (на берег) попасть мы не могли никак… Унесло, понимаешь, кругом-то море да льды плавают, и сказать тебе, берега уж не видно. Вот как, милый товарищ. А утром встали, уж земли нашей и совсем след пропал! Находились мы потом, сказать тебе, в тонкой разнилатке…
Разнилатка-то? А это, к примеру, тонкий лед, сантиметра так три. А от берега стали мы по всем нашим расчетам километров за двадцать, не мене. Погоревали мы, погоревали, кушать совсем нечего, и стали, понимаешь, домой пробиваться. Стал я на коргу лежать, на брюхе, ноги свесивши наружу и вперед. Корг – это, тебе сказать, будет нос на лодке. Дальше? А дальше так было, что товарищ мой гребет, а я на коргу лежу да ногами лед разламываю.
Этим путем мы трое сутки попадали до берега. Сказать тебе, товарищ, смерть возле нас стояла и глядела на нас, как мы копошимся. А мы все ж копошимся, потому, понимаешь, что ничего иного не остается нам делать. Трое сутки ломался я на коргу, разламывая ногами лед и уж боле ничего не понимал, где у меня руки, где ноги, а где голова.
Дальше? Не торопись, я тебя подожду. Дальше попали мы, попали на гору, но не в деревню, а, сказать в пустое место, в двадцати километрах от деревни нашей к югу. Хорошо! Вытянули мы лодку на берег и пошли пешим порядком в сторону Майды. Идти плохо можем, ноги, понимаешь, чувствуют ненормальность. Отошли так километра три, ну в крайнем случае четыре, так сказать, избушка. В этой избушке живут люди койдена (из Койды), три человека, их ребяты.
Дальше, понимаешь, заворотили мы в эту избушку. Нас приняли. А мы голодные, холодные, пятеро сутки не едали никого. Приняли хорошо, обули, одели, накормили, худо ли, хорошо, по-местному будем говорить – приятно сделали для нас. Вот вы были в Койде-то? Так есть там старичок такой Артемий Васильевич, а его отец был в те поры капитаном. То есть капитан шхуны, или, сказать тебе, лодьи.
Ноги-то мои примерзли к голяшкам (кожаные сапоги). Он раздел голяшки, дал мне пимы. «Я, говорит, пойду за конями, обратно спушшу вас». А пошел под вечер, в три часа, приехал назад в двенадцать часов ночи на лошадях. Так… приехали, нас забрали и привезли сюда.
Дальше что получилось… Дальше получилось такое событие, что стали ноги у нас разбаливаться. А у товарища одна: он на коргу лед не ломал дак. Болят и болят и что ни день, то все сильней, и прямо, понимаешь, ступить нельзя – так болят! А помощи медицинской тогда не было, сторона наша была порато глухая и неизвестная. Дело дошло до того, что сам собой сидеть не мог. Как малого ребенка ложили и поднимали.
Хорошо. Решили везти меня в Мезень и поехали на лошади. Трое сутки ехали, а январь, так и метет, и мороз порато сильный на те поры был. Ну что ж… Привезли меня в Мезень, там в больницу представили. Врачей не было, одни фершала, народ слабый, в медицине мало понимали.
А у меня уж, простите за выражение, на ногах внизу от кости отвалилось. Дальше. Дальше медицина все это сразу отрезала. На одной ноге с пяткой, на другой одну ступню, а пятка цела осталась. Смертельное дело мне приходило, товарищ ты мой! Даже в смертельную камеру выносили не один раз. Не пил, не ел больше недели совершенно ничего. Потом почувствовал полегчение и есть захотел. Лежал больше месяца, пить-есть стал, стал домой проситься. На распутице и привезли меня домой.
Год целый не ходил никуда и не ползал, не мог. А потом стал кое-как помогать отцу. Отец-то неграмотный, темный в деле письма был, а на казенной муке вахтером стоял, продавал, учет вел. Хлеб-то, тебе сказать, у нас всегда привозной, и цена ему золотая.
А потом работать стал по хозяйству, а потом революция. Я в колхозе стал работать, приспособился вот и все могу, только ходить уж не пойдешь, не побежишь. Вот жизнь-то наша северная какая, другой раз и голову загубишь и пропадешь, а ничего, живем, сказать тебе, и стихии наперекор идем!








