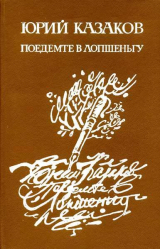
Текст книги "Поедемте в Лопшеньгу"
Автор книги: Юрий Казаков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц)
«Дом чистый, вам там покойно будет, – говорил председатель, – только хозяин там такой… Из кулаков. Жила! Да вам ведь не век с ним вековать – зато чисто!»
И верно, что-то есть в этом мужике звероватое, мощное, сразу бьет в глаза цепкость какая-то, жилистость, но и еще и другое – какая-то затаенная скорбь, надломленность.
Когда разговорились, и после знакомства, обычного в таких случаях, я узнал, что зовут его странно: Нестор, а сына Кир, – и когда я, несколько ошеломленный такими именами, помолчал, а потом, переведя дух, спросил обычное: «Как живете?» – хозяин надвинул брови, лицо его дрогнуло, опечалилось, хоть он и улыбался, а ответил так:
– Скучно живем! Только и веселья, что на своих именинах…
Утром Нестор вошел ко мне, закурил и принялся рассказывать свою жизнь, вернее, не жизнь, а где и сколько он работал. Как плавал на гидрографическом судне, как участвовал во всевозможных экспедициях и как, наконец, многие годы добывал печуру[2]2
Точильный камень.
[Закрыть] в горах по договорам с заводами и мастерскими.
Я сперва не понял, почему это он мне так подробно все объясняет, но тут он заговорил о пенсии. Ему шестьдесят один год, следовательно, он имеет право на пенсию. И вот он пришел ко мне поговорить, как бы ее оформить.
В это утро мы все собирались ехать на тоню к Нестору. У него все было готово для долгой жизни вдали от дома: напечены лепешки, куплено сахару, чаю, не забыта соль и всякая посуда и заранее свезена на тоню сеть. Но погода испортилась, в море выехать было нельзя, и я пошел на рыбную ловлю. Нестор перевез меня через реку на карбасе, немного проводил и вернулся.
– Ты покричи, я тебя обратно перевезу, я возля амбаров буду точило тесать, – сказал он на прощанье.
Погода была холодная с сильным западным ветром. Вершины берез и елок трепало, встряхивало. Рыба не клевала совершенно, назад идти не было смысла… Тогда я развел костер и прилег рядом на мох.
Места здесь дикие, холодные, нет нашего обжитого пейзажа, нет полей, лугов, задумчивых полевых дорог. Сенокос поздний – теперь сентябрь, а еще косят, – пожни маленькие, стожки тоже маленькие, с нашу хорошую копну, только не круглые. Косят одни женщины, мужчины не косят, вообще мужиков на сельскохозяйственных работах нет совсем – все рыбачат.
Лист начинает облетать. Береза сыплет желтым, но еще зелена в своей массе, рябина же взялась краснотой, под цвет брусники. Грибов нет совсем. Река поднялась, ветром забило, не выпускает воду в море.
Вернулся я к вечеру, переехал опять через реку, пошел проулком и зашел в место, очень характерное для Севера теснотой и частотой построек, видом своим – серо-голубое от старости и много глухих стен. В деревне, так же как и в городе, есть свои уголки, есть прелестные архитектурные ансамбли, и вся прелесть их еще в том, что они все образовались случайно.
Нестор, весь серый от печурной пыли, радостно говорит, что завтра поедем на тоню. Пошла семга, ему хочется и поесть сладко, давно не пробовал семги, и заработать.
Но на другое утро шторм продолжался, выехать не удалось, и пошел на тоню берегом один Кир, нужно было что-то там подготовить. А Нестор, как и в первое утро, пришел ко мне опять и стал говорить о пенсии. «Пензия», «пензия», – повторял он на разные лады.
А вместе с тем – зачем ему пенсия? Вот я гляжу, как он поворачивается у себя дома, как ходит, как смотрит на жену, на сына, как говорит с ними. Сила, уверенность, самодовольство проглядывают в каждом его жесте, в каждом взгляде. Сила, самодовольство в том, как прочно он садится, как упирается в расставленные ляжки, как раздирает утром гребешком свои сивые кудри, как оглядывается, примечая малейший непорядок, как играет бровями, как сёрбает, хлебает чай с блюдца.
Дом у него крепок, бревна от старости стали как слоновая кость, есть корова, есть овцы, и вся одежда в семье добротна, прочна и чиста. Он не пьет, зарабатывает много, никому копейки не уступит, никого не подпускает к печуре, сам разведал, сам вызнал места, где можно легко ее брать. Привозит он ее с Киром, всегда ночью – эти громадные серые плиты спрессованного песчаника, сам выбрал себе место возле амбаров и мостков, там у него мастерская, там он с Киром тюкает, крошит эти плиты и выкалывает из них удивительно круглые точила и жернова, сам следит, как грузят его продукцию на пришедший из Архангельска мотобот, сам все помнит, вечером надевает очки, обкладывается папками, где у него подшиты всевозможные накладные, квитанции, расписки капитанов с печатями и штампами. Сын его – идиот, будто в насмешку названный таким звучным сильным именем, в полном, в рабском, я бы сказал, его подчинении.
Колхоз с ним ничего поделать не может, потому что как колхозник он тоже работает по нескольку месяцев в году – сидит, как и все, на тоне с сыном, ловит и сдает семгу – и там его не обманешь, не обвесишь, и там прекрасно разбирается он в планах, наценках, сортах…
Хозяин? Кулак? Не знаю, я еще не разобрался в нем.
3
Прошел еще день, погода стала отдавать, и мы с Нестором собрались на тоню. Накануне вечером был у нас с ним вскользь разговор, что недурно бы захватить с собой водки и, сварив ухи из свежей рыбы, выпить на новом месте.
Утром я забыл об этом, а Нестор не забыл, но молчал, думая, что я вспомню. Мысль о водке, видимо, мучила его. Я укладывался, он тоже суетился, с улицы крикнули, что стучит мотор, мы заторопились, вышли – в самом деле, на реке стучал мотор и двигался по звуку. Мы выскочили на берег между домов, но это оказался почтовый катер, он вёз железные плоские коробки с кинофильмом, который вчера крутили в клубе. Спокойно уже пошли мы к рыбоприемному пункту – там пристают и оттуда отходят мотодоры и бота.
И тут Нестор не выдержал, мысль о водке опять пришла ему, он посунулся ко мне, когда уже положили вещи в дору, и скороговоркой напомнил о водке. Я не понял, тогда он повторил уже с каким-то тайным озлоблением, с надеждой и в то же время с боязнью, что я откажу.
Я дал денег, и этот старый мужик, чтобы не опоздать к отходу, рысью побежал в магазин, и лицо у него сразу стало радостное, а я снова подумал, как он жаден – ведь есть деньги, и много, – а такая унизительная радость и такая рысь, чтобы выпить на чужбинку. Впрочем, не в том ли смысл его жизни, чтобы жать копейку?
Мотодора тронулась с большим опозданием против того, как должна была. Интересно мне было смотреть на мотористов, их два на доре – один пожилой, другой молодой, мальчишка еще.
Вообще, как я заметил, люди, связанные с техникой, от которой зависит передвижение, освещение и так далее – все эти мотористы, механики, шоферы, электрики, – с крайним пренебрежением и высокомерием относятся ко всем прочим.
Так и здесь. Пассажиры уселись в доре и стали ждать. Тут были работник маяка с женой и дочкой, Нестор, еще какой-то рыбак, колхозный счетовод и я. Мотористов не было. Ждем десять, пятнадцать, тридцать минут… «Где же мотористы?» – спрашиваю. Молчат и пожимают плечами, будто мотористы – боги, по крайней мере, и отчета никому отдавать не должны.
Наконец пришел пожилой моторист. За ним появился мальчишка. Пожилой сперва со скукой оглядел нас, затем стал на борту доры и задумался, будто решал, ехать ему или нет. Мальчишка стоял на причале и презрительно разглядывал нас. Старший моторист закурил. Потом сел на какой-то ящик.
Когда он появился, никто, конечно, не выругал его, только на минуту примолкли все выжидательно. Затем опять занялись разговорами. Моторист курил, прислушивался к разговору и плевал за борт. Мальчишка зевал. Наконец пожилой встал и завел мотор. Мотор забубнил, а моторист опять сел курить. Минут пятнадцать бубнили мы у пристани, и я уж думал, кого-нибудь мы ждем, но мальчишка вдруг лениво отдал концы, прыгнул в дору, и мы поехали.
Через полтора часа мы были у тони Нестора. Нас встретил на карбасе Кир и, едва мы перевалились к нему, сразу закричал, загугнил, что снасть, которую Нестор оставил на берегу и которую разорвало штормом, как говорили, – снасть эта цела. Нестор страшно обрадовался, заулыбался как-то по-мужицки, мелко, эгоистично, и стал приговаривать: «Вот спасибо-то, вот спасибо-то…» Верно, благодарил бога или море.
Избушка, в которой мы будем жить, мала и грязна, с тремя окнами на три стороны. Спать мы будем на каком-то тряпье, укрываться одеялом, которое так тяжело, грязно и сально, что, наверное, не меньше трех поколений рыбаков и зверобоев покрывалось им, и оно впитало в себя их дух и пот.
Здесь же стоит крест, как и везде, чуть подальше – пустой амбарчик, в котором зимой зверобои разделывают тюленей. А еще дальше другая тоня, на которой живут три моряка – они тут ремонтировали какие-то навигационные знаки и теперь ждут мотобота, чтобы уехать.
Вот и все. Дальше по обе стороны на десятки километров пустое пространство берега, заваленное водорослями и ободранным, обкатанным плавником.
Настал вдруг теплый яркий день, море налилось синевой, Нестор уплыл на карбасе к тайнику, чернеет там, забивает покрепче колотушкой колья, и пахнет ему, наверное, смолой от карбаса, сетями, морем… А мы с Киром в рубахах сидим на берегу, греемся. У Кира острый небольшой секач и рыбацкий нож, вокруг него на песке – живая еще рыба, только что привезенная Нестором, шевелит жаберными крышками, подрагивает хвостами. Кир берет ее одну за другой: зубатку, треску, камбалу, кладет на сухое бревно, рубит сверху, со спины, и лезет кровавыми руками в брюхо, вытягивает внутренности.
– Хорсё, хорсё! – ликует он, и не сидится ему от наслаждения, ерзает, перебирает ногами, улыбается.
Красавец, хищное животное, бронзовый кудрявый белозубый бог – тупая идиотическая сила. «Февраль, – сказал вчера про него Нестор. – Дня одного не хватает!» Прекрасное и ужасное видится мне в этом Кире, в его физической мощи, в его загадочных бормотаньях, в какой-то юродивости и в блаженном созерцании мира. Счастлив ли он?
– Эй, Кир, ты читаешь что-нибудь?
– Не… Ситать не мею. Засем?
– Ну как это зачем… Ведь ты учился!
– Не… Не сахотел – засем?
– Что же ты любишь? Ну – для души?
Кир не отвечает. Кружатся над нами, хищно и жалобно пищат чайки. Кир закинул голову, глядит на них голубыми глазами, улыбается расслабленно.
– Хорсё! – и кидает им рыбьи внутренности.
– Слышишь, Кир, что тебе надо для души?
– А? Дуси… дуси… а-а, тевку надо! Тевка мякка, хорсё!
Глаза у него мутнеют, про рыбу он сразу забывает, вытирает кровяные пальцы о штаны, весь напрягается, напружинивается, сопит и долго потом не может успокоиться, хихикает, бормочет что-то совершенно уже непонятное, и долго не высыхают у него слюни на губах.
Занявшись опять рыбой, он вдруг вспоминает, верно, про какую-то свою охоту, пытается что-то рассказать, но понять его нельзя, – щурясь от напряжения, улавливаешь только, что он куда-то «посол» и что-то такое «насол».
Возвращается Нестор, мы прямо в море полощем ошкеренную рыбу, несем в дом, топим печь и варим уху. После ухи закуриваем и валимся на нары, на грязные телогрейки, одеяла и рукавицы. Портянки, сапоги, куртки, штаны сохнут на протянутой из угла в угол алюминиевой проволоке.
Мне вспоминаются московские наши разговоры и споры о поэзии, о направленности творчества, о том, что кого-то ругают, – все это под коньяк и все с людьми знаменитыми, и там кажется, что от того, согласишься ты с кем-то или не согласишься, зависит духовная жизнь страны, народа, как у нас любят говорить. Но тут…
Тут вот со мной рядом лежат два рыбака, и все разговоры их вертятся вокруг того, запала вода или нет, пошли «дожжа» или не пошли, побережник ветер или шалонник, опал взводень или нет. Свободное от ловли рыбы время проводится в приготовлении ухи, плетении сетей, в шитье бродней, в разных хозяйственных поделках и во сне с храпом.
То, что важно для меня, для них совершенно неважно. Из выпущенных у нас полутора миллионов названий книг они не прочли ни одной. Получается, что самые жгучие проблемы современности существуют только для меня, а эти вот два рыбака все еще находятся в первичной стадии добывания хлеба насущного в поте лица своего и вовсе чужды какой бы то ни было культуры?
Но, может быть, жизнь этих людей как раз и есть наиболее здоровая и общественно полезная жизнь? Они встают чуть свет, зарывают тайники, приезжают промокшие и озябшие назад, пьют чай и ложатся спать. Затем в течение дня они много раз осмотрят эти тайники, сделают кое-что по хозяйству, вечером выроют тайники и лягут спать с ощущением правильно, хорошо прожитого дня. И результат этого дня, неоспоримый, вещественный результат – семга. Зачем же им книги? Зачем им какая-то культура и прочее вот здесь, на берегу моря? Они – и море, больше нет никого, все остальные где-то там, за их спиной, и вовсе им не интересны и не нужны.
4
Вечером Нестор и Кир опять привезли рыбы, на этот раз семги, сварили ухи и выпили, причем пили бережно, с невыразимым наслаждением, как нектар – эту водку-сучок. Зажгли лампу, закурили, разделись, разлеглись на лежаках возле стола. Печка гудела, было тепло, за стеной жахало и жахало море, а у нас грелся чайник, карбасы были выкачены на берег, ловушки сняты, развешаны на кольях возле тони, и водорослевые бороды, источая дурманящий запах, мотались на ветру.
На далеком мысу посверкивал маяк, его хорошо было видно, и было приятно от мысли, что не такая уж пустыня кругом, что в море сейчас взбивают белые дороги теплоходы, всякие лесовозы и буксиры, что на берегах светят маяки, и по таким же, как и наша, избушкам сидят ядреные рыбаки, ждут чаю и гадают насчет завтрашней погоды.
– Славно у вас тут живут, – сказал я Нестору.
Нестор глянул на меня, надвинул брови и тяжело усмехнулся.
– Это не жизнь, товаришш ты мой! – твердо сказал он. – Тебе не понять, ты хорошего не видал, а вот раньше, – так правда, жили не тужили…
– Стара песня! – возразил я. – Знаю я, как у вас тут жили раньше!
– Это как же ты знаешь?
– Читал, – сказал я. – Историю изучал.
– История! – вдруг бешено крикнул он и как-то опьянел на минуту, стал красен и лют. – Изуча-ал! Гляньте на него – историю изуча-ал! – дразнил и неистовствовал Нестор. – Изуча-ал, хо-хо!
И тотчас загоготал надо мной Кир, глядел на меня странно как-то, будто издалека, и хохотал… Что же он-то понимал? А понимал, видно, – этот блаженный, идиотик, – что-то он такое понимал!
– Да ты вот пишешь, – перебил сам себя Нестор и сменил тон, стал высокомерен и насмешлив. – Все пишете… Дадим двести процентов плану! – противно растянул он. – Все, как один! Единодушно одобрили… Или вот у меня жила из Ленинграда одна – блюдцы, стаканы ей, вишь, не чисты, грязно живете, грязно, все платочком протирала, а?
Кир опять захохотал, даже слезы выступили.
– Крясно, крясно… – повторял он, задыхаясь и вытирая кулаками глаза.
– Да, а потом привыкла, ничего! – уничтожающе закончил Нестор. – Перестала морщиться… А толстая, как свинья, на берегу ляжет, все ей костер разложи – этак, толкует, красивше. Белая ночь ей, вишь, спать не дает, думы все мозгует, а то пристанет: «Нестор, спой песню, ну, пожалуйста!» Тетрадку вынет, ручку нацелит, это, говорит, для науки надо, в институт, это говорит, народно… А я ей думаю: хрен тебе, а не песню, с такой жизни порато не запоешь!
– Так уж плохо и живешь? – поддразнил я его. – Чем же тебе жизнь плоха?
– А вот чем! – Нестор подумал и налил себе чаю. – Это ты все можешь писать, не боюсь, а сказать тебе, извини за выражение, скажу правду. Так? Вот не соврать, в двадцать пятом годе разведали мы с батей этот самый камень, эту печуру, лежала она в горах, никому не нада была, а мы скумекали. Теперь гляди: стали мы помаленьку работать, запряглись не хуже той лошади, батя да я, да брат двоюродный, поработали мы год, другой, видим, печура идет, сбыт, значит, свой находит. Вот батя и говорит: давай, говорит, воду приспособим, как вроде мельницы. Там в горах есть ручей, начали мы таскать каменья, запруду сделали, все честь по чести, колесо изготовили с лопастями. Не пивши, не евши – это тебе как? И завертелась эта у нас механика! На месте все и точили, на берег выкатали по доскам, складали – это тебе и есть наша русская сметка! Как бот придет из Архангельска, мы сейчас карбаса нагружаем – и на него! Понял? Такое дело начали, со всей России заказы пошли…
Нестор поник головой, стал сворачивать папиросу, замолчал, задумался.
– Теперь вот за песнями едут, нет, ты мне с песнями не суйся, а ты с делом суйся. Я – хозяин, я тут все знаю, я тут произрос – вот тебе и задача.
Погасили лампу, легли. Нестор и Кир сразу захрапели, за стеной возилось море, и я был взволнован, в чем-то уязвлен, и как часто бывает, теперь только стал придумывать возражения Нестору. Но он спал… И вся его зависть, и ненависть, и злость – все, чем наполнен он был днем, все, о чем думал, сожалел и вспоминал – теперь ушло, он не собой стал, сны на него спустились, и он был далеко, а в этой темно-душной избушке лежало тело его, сильные руки его, столько переделавшие за всю жизнь. И руки его были добры, тогда как мысли – злы.
На другой день уныло свистал ветер, мотались на вешалках сети, мело песок по берегу, море волновалось, грохотало, вода была мутна далеко за полосой прибоя. Нестор, удрученный, шил себе бродни, сильно мял кожу, кряхтел и посматривал за окно.
А за окном бегал по берегу в трусах моряк из соседней избушки, приседал, выжимался на руках, подбегал к волнам, растирался водой. Нестор смотрел на это его занятие с ненавистью и насмешкой: «Делать нечего, так его растак!»
Кир зевал, зевал, пошел, выпросил у моряков ружье и пять патронов, я взял свое, и мы отправились с ним на охоту. Какой он все-таки красивый, этот Кир! Как идет, неслышно ступая в мягких своих тюленьих броднях, как на нем все обтянуто – видны бугры плеч, груди, мышцы живота, икры – все в движении, и какой он весь расстегнутый, крепкий, смугло-румяный, дитя природы! И добр, весел, общителен, но – дикий, дурачок, и тяжело как-то с ним.
В лесу ветер уже не ощущался, и пейзаж был прекрасен, хотя смотря на чей взгляд. Много попадалось нам кочковатых болот, песчаных угорьев, много малины, смородины, черники и брусники, и так печально-душисто пахло, и небо и земля твердили нам, что уже сентябрь, осень…
Кир сначала бормотал что-то, булькал и гукал, но как только вышли мы к озеру, все для него перестало существовать, кроме уток, которых он тотчас же и увидел, скорее, чем я в бинокль. Кир всхрапнул, пригнулся и помчался от меня большими бесшумными прыжками между кустов. Я побежал за ним, но догнать не мог, видел только, как Кир на мгновенье останавливался, поднимал над кустами голову, тотчас нырял и мчался дальше. Я уж и спешить бросил, знал, что все равно Кир выстрелит первым, и только следил за ним издали.
Кусты кончились, Кир упал на живот и пополз между кочками. Утки плавали спокойно, я добрался до открытого места и остановился, чтобы не помешать. Подобравшись к самому берегу, Кир приподнялся на локтях, прицелился и выстрелил. Ружье, видно, обнесло, утки полетели, одна только забилась, подскочила вслед за остальными раза два и довольно прытко залопотала к дальнему берегу, к осоке. Кир оставил ружье и помчался кругом к тому же месту. Утка повернула назад, но увидала меня и забилась куда-то в первое попавшееся место. А Кир уже раздевался, сбросил рубаху, сапоги, штаны и голый кинулся животом в ледяную воду. Он шумел, плескался, сопел, он гоготал и выскакивал из воды по пояс, как болотный черт, загонял бедную утку до одурения, поймал ее и тут же прокусил ей мозжечок. На берег он выбрался красный, от него валил пар, губы были окровавлены и в пуху. Одевшись, он засмеялся, облизнул губы и бросил мне утку.
– Тепе! – сказал он радостно. – Пери, тепе!
И потом целый день бегал по озерам, прыгал с кочки на кочку, падал, полз, стрелял, раза два еще лазил в воду, гоготал, замучил совершенно меня, но я глаз не мог оторвать от него – притягательна все-таки человеческая сила!
Вернулись мы уже в темноте, стали варить утиную похлебку, а поев, забрались опять каждый на свои нары и заснули.
5
День проходит за днем, погода не устанавливается, мотобот за моряками не приходит, моряки томятся, валяются по койкам, десятый раз перечитывают одни и те же книжки. Томятся и рыбаки, плетут сети, почти не разговаривают друг с другом.
Но вот наступает какая-то ночь и приходит успокоение и холод. Все спокойно, гладко, зыбко, только по очереди, очень редко и нежно – шша… шша… И море не черно, а дымно: над тонкой пеленой туч сияет луна, свет ее проникает сквозь облака и освещает все слабым рассеянным сиянием. На рейде в море, далеко к северу, может быть, против Кеги, стоят два парохода, и огни их четко видны отсюда, из этой пустыни.
На рассвете Нестор и Кир уплывают зарывать тайники, возвращаются оживленные, с заколеневшими руками и лицами, шумят, топают, грохают дровами, топят печь и пьют чай. А в полдень едут смотреть тайники, и я с ними.
Как они работают! Как у них все ловко, разумно, скупо в движениях, какой глаз и точность! Вот они ставят карбас на катки, вот одерживают его, спускают к воде, выжидают волну, стоя по бортам, потом сразу наваливаются, крякают, суют карбас в море, и вот он уже на воде. В воде и Нестор с Киром в своих броднях, по очереди прыгают и переваливаются внутрь, разбирают весла, садятся, выправляют карбас против волны и гребут.
Вообразите гребцов-спортсменов – как они откидываются назад, как рвут весла на «восьмерках» – каждый одно, – как упираются ногами, какие у них натренированные тела, как они все разом, по команде, сжимаются и распрямляются. Но ничего похожего здесь нет. Здесь сидят свободно, раскорячив, подогнув ноги, и весла не в уключинах, а в колышках, гребут часто, почти не откидываясь, но карбас движется быстро, мощно разваливает волны, вздымается и опадает, а люди спокойны, глядят по сторонам, руки их на веслах лежат тяжело и крепко – так они могут грести весь день, разговаривать, смеяться, покуривать.
От карбаса, от курток и бродней Нестора и Кира пахнет чудно – рыбой, смолой, водорослями, солью и еще бог знает чем – или это море так пахнет? Вода под носом журчит, пенится, колышки поскрипывают, попискивают, берег все дальше, серые избушки на серо-белом песке почти неразличимы, и все ближе колья тайников.
Вот мы идем уже вдоль перемета – длинной сети, установленной перпендикулярно к берегу, – подходим к воротам тайника, Кир поднимает весла, гребет и разворачивает карбас один – Нестор на корме. Кир оглядывается, некоторое время глядит на приближающиеся колья и сети, будто проникая взглядом вглубь, стараясь угадать, попалась семга или нет, потом выхватывает и бросает свои весла на дно, вынимает из бортов колышки (чтобы не цеплялись потом за сеть), кидается на нос, подхватывает конец, связывающий наверху стенки ворот тайника, поднимает его над собой, карбас протискивается в тайник, ворота поддергивают и закрепляют. Мы внутри тайника. Теперь начинается самое важное.
Кир свешивается за борт, виден один зад его и раскоряченные крепкие ноги. Руки по локоть в море, что-то он там делает, и Нестор с кормы делает то же. Они поддергивают, как и ворота, середину тайника, крепят ее за колья, и тайник уже разделен на две половины, превращен как бы в два огромных подсака. Тогда Нестор и Кир начинают выбирать сеть, загибая ее за борт, внутрь, поддерживая на сгибе коленками и локтями, я тоже помогаю, путаюсь, все мы спешим, и дно сети поднимается. Ячеи уже просвечивают сквозь зеленую воду, скользят в карбас ленты водорослей, морские звезды, бьются и мечутся уже камбала, треска, зубатка, пиногор с негритянскими губами, кругом льется, мы мокры, руки мерзнут, но пока все это не главное. Наконец Нестор оживляется, крякает, а Кир вопит: «Хорсё! Хорсё!» – и гогочет, и полощет в воде своими красными лапами.
Показалась семга, ее штук шесть, она до времени таилась, а теперь начинает бешено биться, прыгать, выскакивать, вздымать спинами каскады воды. Кир перебирает и тянет, перебирает и тянет, а Нестор, сдерживая одной рукой карбас у кола, другой шарит на дне, достает колотушку и начинает шлепать, попадает и не попадает, брызги летят во все стороны, волна с шипением проходит через стенки тайника, подкатывается под карбас, и мы то проваливаемся, то взлетаем выше кольев.
Через минуту вся семга оглушена, осторожно положена в карбас и укрыта. Брошена – но уже небрежно – туда же и вся остальная рыба, все эти зубатки и пиногоры, и сеть уже выбрасывается за борт, карбас подводят к другой половине тайника, и там начинается то же самое.
Потом и ту половину опускают, все приводят в порядок, ворота развязывают, карбас выталкивают наружу, отводят в сторону и начинают перекладывать семгу – нет ли на ней ссадин или следов от зубов белухи.
Семга не так крупна, в каждой килограммов примерно по шесть, попалось ее одиннадцать штук, значит, шестьдесят килограммов примерно – по рублю за килограмм… Да минус вычеты, в общем, рублей сорок пять есть! – таковы размышления Нестора, и, судя по его лицу, это вовсе не плохо. Да еще к вечеру попадется. Ничего, жить пока можно! Нестор закуривает и впадает в созерцательное состояние. Наверное, он думает сейчас, как будут взвешивать вот эту его рыбу, как станут выписывать квитанцию на его имя, и сколько он вообще поймает семги за этот сезон, сколько заработает и как распорядится деньгами… А Кир ни о чем не думает, завалился в нос, почесывает живот под рубахой, смотрит из-за бортов то на одну, то на другую сторону – полный покой!
Отдохнув, рыбаки гребут к берегу.
Пришел наконец мотобот за моряками. Они встретили его выстрелами из ружья, будто робинзоны. Нестор сидел, вдевал шнур в перемет, привстал, поглядел в окно и опять занялся своим делом. Между тем моряки сгрудились на берегу, сигналили руками, о чем-то оживленно говорили между собой, наконец один побежал к нам.
– Здравствуйте, – сказал он, входя и переводя взгляд с одного на другого. Он был возбужден и радостен. – Не дадите карбасы, на бот переехать?
– А свой где потеряли? – хмуро, не глядя на моряка, спросил Нестор.
– Да вот, с бота сигналили, что шлюпка неисправна.
Нестор насупился.
– Так не дадите ли карбаса? – повторил моряк, уже неуверенно.
– Разобьете, – сказал Нестор.
– Что вы! – моряк оживился, снял бескозырку. – Свои-то не бьем!
– Какие же свои? Своих-то у вас, видишь, нету.
– Да уж мы осторожно…
Нестор неохотно вышел с моряком на улицу, потом вернулся злой, выругался крепко и сказал Киру:
– Ступай с ними, назад карбас пригонишь. Да смотри, туда не греби, пускай сами гребут! – крикнул он вдогонку.
Кир радостно вышел – он положительно не мог сидеть без дела.
– Ах, дураки! – говорил взволнованно Нестор, глядя в окно, как отваливает карбас. – Со шлюпкой у них неладно, да за это…
Он опять припустил матом, как-то весь посоловел, ощерился, взглянул на меня. Потом сел, закурил, взялся было снова за перемет, но бросил, ему хотелось говорить…
– Помню, давно весной после зверобойки собираемся, бывало, мы в Норвегию. Сейчас глядим, сколько у нас у всех добычи, какое, значит, судно нам требовается. Нанимаем шхуну, а мы все в команду входим, груз свой грузим, так? Вот приходим в Норвегию, скажем, в Варде или в Трухольм, товар весь продаем, после этого норвежцы ладят с нами фрахт. Это чтоб наша шхуна назад пустая не бежала. Ладно, берем ихний товар, бежим обратно в Архангельск, там получаем окончательный расчет, так? После… После этого делим по паям.
– А паи ровные? – спрашиваю я.
– Погоди! Я знаю, куда клонишь. Я таких-то вас видал, сознательных… Ровные! Ровного на земле отродясь не бывало. Капитану один пай, на то он и капитан. Опять же владельцу судна. И опять же, сколько у кого добычи. Я сто тюленей на зверобойке добыл, а ты пятьдесят – какое такое тут может быть ровное? Не в том дело!
Теперь… Теперь получаю я свои деньги. Скажем, так – скажем, три сотни. Сейчас думаю: батя чего-то наказал купить. Иду в гостиные ряды, беру всего, что надо: товару, муки там, веревок, снасти, всякое такое хозяйство. Шхуна наша на Двине стоит, нас дожидает, вот мы все это дело покупаем, везем на шхуну, и еще денег остается – скажем, сотня. Ее в карман. Ее в сундук, на самое донышко, над ней дрожишь, думаешь, куда ее пристроить в хозяйстве, чего тебе нужнее. Ну вот. После того по родне походишь, с друзьями свидишься, кофию попьёшь в Соломбале, всякие новости узнаешь, что, где, почем, когда ярмарка будет и какие на ей цены ожидают.
Понял, к чему я веду? А другой, такой же, как и я, рыбак, зверобойщик, сосед мой – он, к примеру, получит, может, поболе моего, так? Получит, закатится в кабак, да по бабам, по этим самым шлюхам-паскудам, а? Я о доме думаю, о хозяйстве, а он на пробку наступат, он глаза свои винищем нальет. Он три дня гуляет, на четвертый на судно является. В ноги мне кланяется, двугривенный просит на опохмел. Это как же? Это тебе как же? – заорал с ненавистью Нестор. – Лодарь, пьяница, таких в мешок да в воду, чтобы не смели на земле смердеть.
Я вышел на берег, было пасмурно, только на горизонте посвечивала голубая полоса, и море, чем дальше к горизонту, тем становилось веселее, ярче. А здесь было пасмурно…
Мотобот взвыл сиреной и тронулся, переваливаясь на волнах, и даже сквозь шум набегавших на берег волн был слышен низкий, мягкий звук его дизеля. И как только он тронулся – отделился от него и Кир на своем карбасе и теперь часто греб к берегу, но казалось, не двигался.
Мотобот удалялся, поваливался, мачты его качались. Щемит почему-то на сердце, когда смотришь, как уходит в море судно. Я представляю себе палубу этого мотобота, вахтенного в рубке, шум двигателя. Я воображаю, как рады моряки, которые долго жили здесь, на этом пустынном берегу, а теперь сразу попали к друзьям, в милую сердцу обстановку. Сидят небось сейчас в кубрике, выпивают, хлебают морской свой харч, из камбуза тепло, разговоры… А впереди Архангельск, и, может быть, отпуск дня на два домой, и девочки, и новые кинокартины – помянут ли они этот берег, навигационные знаки, которые ремонтировали, соседей-рыбаков?
Захотелось вдруг и мне домой. Пора! Не буду больше видеть Нестора и его Кира, не буду больше ощущать неприязненный, недоверчивый взгляд, брошенный исподлобья.
Вспомнился мне как-то сразу весь этот осенний Север, хмурая погода, постоянные шторма, все километры, которые прошел я берегом, ночевки, избы, разговоры, ранние сумерки и поздние рассветы… Хватит!
А мне махал уже из карбаса Кир, смеялся, такой здоровый, крепкий, бездумный. Я помог ему выкатить на берег карбас, и вместе мы пошли в дом.
На другой день я попил чаю, засобирался, стал прощаться. И Нестор вдруг стал как-то смущен, суетился, стариковство проглянуло в нем, и впору было его пожалеть.








