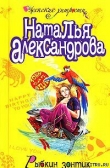Текст книги "Капитан Быстрова"
Автор книги: Юрий Рышков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
39
Арина, жена Козьмы Потаповича, и дочь Маша по дороге домой узнали от односельчан про ночные события. Все сводилось к одному: Дядины люди совершили налет на Воробьеве и убили двух немецких солдат.
Сейчас жена и дочь стояли перед Козьмой Потаповичем, подавленные и притихшие. Лицо Арины, бледное и вытянутое, с неподвижным взглядом бесцветных печальных глаз, носило следы мучительного волнения. Маша держалась крепче. Ее широко открытые, слегка навыкате светло-карие глаза, поблескивая лукавым огоньком, сосредоточенно глядели на отца. Пухлые губы чуть кривились, не то в грустной усмешке, не то от усталости и бессонной ночи. На открытом лбу залегла настороженная морщинка.
Между Ариной и Козьмой Потаповичем вот-вот готова была завязаться ожесточенная, но тихая, на полушепоте перебранка.
– Погубишь ты нас, ирод окаянный! – причитала Арина, сложив сухие руки над животом. – Опостылели мне дела твои!.. – Она догадывалась, что убитые немцы – дело рук ее мужа. – Фронт далеко еще, а ты, ирод, не угомонишься никак и свои фронты здесь открываешь на погибель нашу…
– Брось, старуха, не жужжи шмелем, – мрачно и одновременно ласково проговорил староста. – Лучше вот что учти: человеку одному пособить надо…
– Кому еще? Господи, что за напасть?! – всплеснула руками Арина и беспомощно опустилась на табуретку. – Чего еще прикажешь с ним делать?
– Я тебя не заставлю с ним дела вести и решать всякие оперативные и актуальные вопросы. Тебе спецнагрузка по хозяйственной линии. Материальное обеспечение… Проблема не из чрезвычайных…
Такие мудреные слова всегда пугали Арину и делали ее сговорчивой.
– Ты, как хозяйка, накорми, собери в дорогу что бог послал. Большего с тебя никто не спрашивает. А человек тот у нас. Понятно?..
Арина боязливо оглянулась по сторонам, желая увидеть постороннего и опасного для их семьи человека, которого надо покормить и собрать в дорогу. Но в избе никого не было.
– Где же он? – спросила она.
– На чердаке спит!
– А кто такой?
– Такая вот, как Маша.
– Стало быть, баба?
– Да, вашего пола…
– Уродил тебя бог, непоседу, – смягчилась Арина и принялась хозяйничать. Ей стало легче: женщина, по ее мнению, заключала в себе меньшую опасность.
Прибираясь, она долго ворчала и наконец собрала завтрак. Самовар, заранее поставленный Козьмой Потаповичем, кипел возле печи.
– Хочешь жизни другой, – между делом разъяснял он жене, – стало быть, помогай Советской власти, борись за нее…
– Гляди, чего поет?! – возмутилась Арина. – Ты бы и помогал, когда время было подходящее! Сколько тебя совестили и уговаривали! Райком и тот с тобой цацкался. Урезонивал, дурость твою и необразованность тебе же как на ладони показывал. Почему в колхоз не пошел?!
– Не кори! – перебил староста. – Ошибся, за то и крест принял на себя…
– Не ошибись и сейчас! Люди под старость умом не богатеют, если смолоду его не набрали…
– Ну, довольно, довольно, – умиротворяюще проговорил старик.
– Звать-то как ее? Кто она такая? – спросила Маша.
– Говорила, да я позабыл. Разве в этом дело? – ответил Козьма Потапович, начиная резать хлеб.
Женщины успокоились.
За завтраком беседовали тихо и мирно. Больше всех разговаривал Козьма Потапович, в это утро особенно настроенный «на политический лад».
О Наташе он рассказал коротко:
– Переправить следует к партизанам. Машкину юбку, кофту и жакет ей вчерась с Васькой отослал…
– С ней бы пойти, – мечтательно проговорила Маша. – Избавиться от всего. На волю вырваться!
Арина поперхнулась чаем:
– Ты что, очумела?
– Тебе, доченька, нельзя, – ласково и наставительно сказал Козьма Потапович. – Нужнее, чтоб я старостой был. И без тебя партизаны обойдутся. Ты себе шей им, как до сей поры шила. Хватит и того. Староста должен жить при полной семье. К тому же у тебя и духу не хватит…
– В лесу я иной бы стала! Есть-пить готовила бы, шила, за ранеными ухаживала, а надо – и в бой пошла бы…
– Как раз тебе в бой! – усмехнулся Козьма Потапович, отхлебывая чай.
Вскоре женщины легли спать, а Козьма Потапович отправился по своим делам.
* * *
Проснувшись во втором часу дня, Маша сразу же вспомнила о незнакомой девушке, прятавшейся на чердаке. Ей очень хотелось увидеть ее и поговорить с ней.
Отложив все дела, Маша вышла в сени, приставила к стене лестницу и поднялась на несколько ступенек. Заглянула на чердак и ничего, кроме небольшого куска одеяла, не увидела. Все загораживал боров трубы. Она поднялась еще на ступеньку, прислушалась.
На чердаке было тихо.
Решив, что девушка спит, Маша спустилась вниз, зашла в чулан, взяла там крынку молока. Густо намазав маслом большую краюху хлеба, налила молока в кружку и, захватив чистенькую салфетку, полезла на чердак.
Подойдя на цыпочках к Наташе, она, казалось, услышала биение своего сердца: так было радостно и приятно помочь человеку, а главное, знать то, чего не должны знать враги! Догадайся немцы о том, что у них на чердаке спрятан человек, они никого не помилуют! Это было похоже на заговор против оккупантов и порождало гордость, подтверждавшую какое-то неписаное ее, Машино, превосходство над немцами. «Они обмануты и не ведают о том, что знаем и делаем мы…» От этого становилось радостно, хотя радости не было вокруг.
Поставив на печной боров кружку с молоком, Маша расстелила салфетку, положила на нее хлеб с маслом, затем переставила туда же и кружку.
Девушка спала, лежа навзничь, закинув руки за голову. Ее толстые каштановые косы, свободно разметавшиеся по подушке, были такие же, как у Маши. На мочках ушей виднелись проколы для сережек. Эти проколы делают с детства, продевая до заживления шелковую нитку или конский волос. «Она, наверно, не надевает сережек? Посерьезней меня будет…»
Маша опустилась на колени и как можно мягче, приветливей позвала:
– Девушка!.. А, девушка!..
Рука ее легко коснулась одеяла. Незнакомка вздрогнула и проснулась. Ее взгляд встретил приветливую улыбку на свежих, румяных губах, сверкнули глаза, ласково и спокойно глядящие на нее.
– Не бойся. Я дочь Козьмы Потаповича, Маша…
– Что-нибудь случилось?
– Ничего. Вставать не пора ли? Второй час. Я покушать принесла.
Наташа поднялась на локоть:
– Ну, здравствуй! Отец рассказывал о тебе. Меня Натальей звать, – и она протянула замлевшую руку.
– По говору ты вроде бы землячка наша?
Наташа улыбнулась:
– Здесь я родилась… Недалеко…
– Зашла я сюда и, глядя на тебя, подумала: такая ты молодая, а, видно, в жизни многого добилась? Воюешь, значит?
– Девушек на войне тысячи. Вот и я, – ответила Наташа. – И в войсках ПВО, и штурманы авиации, и водители, и снайперы, и мало ли еще? Одних медиков сколько!..
– Уважаю всех! Радостно мне, Наташа, что и наши девушки тоже на фронте есть. Только я словно на отшибе живу… Тяжело как-то, боязно – не упрекнули бы?.. Посмотрела на тебя и подумала: какая-то бесполезная, лишняя я на войне… Что для нее делаю? Пятьдесят рубах и штанов сшила для партизан да сотню рукавиц связала. А разве во мне сил мало? Только без применения они… Куда подашься?! Помыслы одни, а на деле другое получается… Ты, наверно, совсем другая…
На чердаке они проговорили не меньше часа. Наташе понравились непосредственность и откровенность Маши.
Когда девушки сошли вниз, Маша познакомила Наташу с матерью, потом принесла со двора в сенцы умывальник, подала мыло и полотенце.
– Неужели мужиков хватать не стало, – вздыхала Арина, – если по тылам девчат стали гонять? Их ли дело среди немцев бродить? И без того многих женщин опозорили…
Аринины соображения насчет «нехватки мужиков» развеселили Наташу.
– Да уж ладно! – согласилась старуха в ответ на добродушный смех Наташи. – Вам, молодым, виднее. Одурела я совсем… Знала бы ты, какую ношу на себе тащим.
Причесавшись у зеркала, Наташа снова поднялась на чердак. Следом явилась Маша, и опять начался бесконечный и интересный для обеих разговор.
Стук в дверь заставил девушек затихнуть и прислушаться.
Арина впустила кого-то.
– Отец не так ступает, – прошептала Маша.
– Здравствуйте, Арина Никитична, – раздался женский голос. – К тебе я…
По голосу Маша узнала соседку Татьяну.
– Проходи…
– Значит, и до вас беда добралась? – продолжала Татьяна.
«Беда? Какая беда?» – спросила себя Маша.
Перепуганная, она торопливо спустилась по лестнице, убрала ее и вбежала в горницу. Послышались плач и причитания Арины.
Через несколько минут соседка ушла. И почти тотчас же на чердаке появилась бледная Маша.
– Папаню арестовали, – тихо сказала она и заплакала.
– За что? – не сразу спросила Наташа.
– Откуда нам знать?
На чердаке стало тихо. Только всхлипывала Маша, прижавшаяся к Наташиному плечу.
– Надо мне уходить. Могут прийти с обыском…
Дела принимали серьезный оборот. Над головой Козьмы Потаповича, над всей его семьей нависла опасность.
Наскоро посоветовавшись, женщины единодушно решили, что Наташе надо немедленно скрыться.
Маша вызвалась проводить ее за село, до лесной тропинки на Неглинное. Чтобы отвести глаза немецкому часовому у моста, они взяли с собой лопаты: жители Воробьева чинили в эти дни дорогу.
Выйдя за околицу, девушки напрямик лугом пошли к мосту. Немецкому часовому Маша, которую почти все солдаты комендатуры знали в лицо, нарочито любезно поклонилась, и они спокойно перешли реку.
– Не уйти ли мне с тобой, пока не поздно? – спросила Маша. – Бог знает чем все кончится? Нас с матерью тоже не помилуют за отцовские дела. Ты же не знаешь всего…
– Козьма Потапович – человек решительный… И ничего им о своих делах не скажет.
– А ты иль знаешь что? – тревожно спросила Маша, задерживая шаг.
– Кое-что знаю… Меня вам бояться нечего.
– Я понимаю… Только страшно все-таки, когда лишний человек знает. Я лучше бы умерла, чем тебя предала! – уверенно сказала Маша и, взглянув на землячку, доверчиво коснулась ее руки.
– Я тоже… Помни: что бы ни случилось – вы знать ничего не знаете. Главное, как бы ни подлавливали – ничего не говорите. Уличить отца не так-то просто…
Они шли по лесной тропинке. Километрах в двух от Воробьева, взвесив все, Наташа сказала старостиной дочке то, что при иных обстоятельствах предпочла бы скрыть. Она предупредила Машу, что к Козьме Потаповичу придет человек от Дяди.
– Скажешь, что я буду ждать его на Мокром Лугу завтра, к одиннадцати часам ночи. Запомни: пусть он идет между дубов и летучей мышью процыкает. Тогда я совой прокричу. Он пускай скажет: «Сова, загадай на Наташу». Я отвечу: «Это я». А он в ответ: «Я от Дяди»…
Маша все запомнила. По просьбе Наташи она безошибочно повторила задание слово в слово.
– Правильно! Дорогой еще повтори несколько раз. Вся надежда на тебя, не подведи…
– Что ты! Все сделаю. А не придет человек от Дяди, сама добуду его для тебя. Жди у дубов на Мокром Лугу. Надо будет – сама приду…
Они остановились. Маша объяснила, как идти дальше:
– Неглинное обходи лесом. Не придрался бы кто. Без пропуска комендатуры ходить далеко нельзя, запрещают. В Неглинном полицаи есть, а в Пчельню заходи смело: там никого нет.
– Я лесом пойду. Так спокойней…
Наташа поцеловала девушку.
– Кланяйся отцу с матерью, спасибо от меня передай. Авось обойдется с отцом. Сообщи, как его дела будут. Передашь через человека, который за мной придет. Прощай!..
Маша как-то сразу загрустила и увяла: ей не хотелось возвращаться в дом, где ждали новые волнения, тревоги, неизвестность…
* * *
Наташа быстро шагала по мелькающей солнечными пятнами лесной тропинке. Белые стволы берез и пахучие молодые листочки волновали ее. Слишком хорошо было в лесу! Стоголосый птичий гомон несся отовсюду, царствовал над округой.
Бесконечно родной и близкой казалась ей окружающая природа. Голубой купол неба, высвеченный солнцем и украшенный сверкающими облаками, казалось, пел вместе с птицами. Вся земля прислушивалась к этой радостной песне и отвечала ей буйным весенним цветением. Скромные ландыши, пробиваясь сквозь прошлогоднюю прелую листву, окружали толпой замшелые кочки и пни, усыпанные ранними весенними поганками на хилых ножках, и струили тонкий сладковатый аромат. Вдоль тропинки желтели одуванчики. Они тянулись к лучам солнца на тоненьких, полупрозрачных трубочках-стебельках, то и дело кланяясь под тяжестью садившегося на них жирного шмеля. Порхали белые бабочки, похожие на подхваченные ветром клочки бумаги…
Чем больше всматривалась Наташа во всю эту красоту, тем более ужасной и ненужной, бесчеловечно дикой и варварской представлялась ей война, разрушающая все, что стояло на ее пути, уносившая десятки тысяч человеческих жизней, тем острее и определеннее ощущала Наташа безвыходность и страшную, пугающую неясность своего положения.
Обойдя Неглинное лесом и осторожно пробираясь по лугам, пересеченным оврагами, Быстрова миновала Никольские Хутора.
Последние пять километров до Пчельни можно было пройти за полтора часа, поэтому она решила дождаться темноты: ночью безопаснее появиться в родной деревне.
Наташа свернула с тропы, спустилась в овражек и зашла в густой молодой орешник. Закусила лепешками, положенными в мешок заботливой Ариной.
От долгой ходьбы слегка ныла раненая нога. Стянув сапожки, Наташа опустила горевшие от усталости ноги в ручей. Потом, не надевая сапог, прилегла на шелковистую траву, прислушиваясь к звукам леса и рассматривая в просвет между ветвями небо. Вверху плыли ослепительно белые, озаренные вечерним солнцем облака. Где-то в стороне Неглинного послышался далекий шум моторов. «К фронту, наверно», – решила Наташа.
Чтобы хоть чем-то занять себя, она сорвала колыхавшуюся возле самого лица прошлогоднюю былинку тимофеевки и, взяв стебелек в зубы, стала перекатывать его из угла в угол рта. Это не отвлекло ее от тревожных мыслей о доме, о родных, которые, может быть, живы, а может, и нет, о товарищах по полку, считающих ее погибшей, о моряках, о Сазонове… О нем вспоминать было особенно грустно и тяжело.
В широкой развилке молодой березы Наташа заметила гнездо, из которого воровато выглядывала головка дрозда. Это самка высиживала яйца и втихомолку наблюдала за человеком, готовая чуть что немедленно поднять тревогу. Но соседство, так тревожившее дрозда, успокаивало Наташу: она знала, что птица обязательно почувствует, если кто появится поблизости.
«Помогай мне, помогай, будущая мамаша!» – подумала Наташа, стараясь разглядеть клюв и черные бисеринки глаз птицы.
40
Батальон СС, присланный для борьбы с Дядей, расположился со своим штабом в Воробьеве. В Неглинное была послана полурота и рота – в Пчельню.
Появившись в Пчельне перед самым заходом солнца, эсэсовцы заняли здание пустовавшей школы, а офицеры – дом бывшего правления колхоза. Вся рота не смогла разместиться в помещении школы, и квартирьеру пришлось около взвода растасовать по избам.
Мать Наташи, Елизавета, стояла на крыльце, когда машины с солдатами протарахтели мимо ее избы. Она не отпустила сынишку, хотя любопытство тянуло его побежать следом и посмотреть, кто и зачем приехал. Худая и бледная, с лицом, сохранившим следы былой красоты и величавости, гордая, осанистая, Елизавета долго стояла на ступеньках, задумчиво глядя на медленно заходящее солнце.
Прямая и честная, всегда беспощадная к неправде и несправедливости, Елизавета Быстрова в тяжелые дни оккупации стихла, замкнулась, увяла, разом постарела и, казалось, стала безразличной ко всему. Она не сердилась, не возмущалась, не спорила и никому не высказывала своего отношения к событиям: они словно не касались ее. Она твердо и мужественно решила раз и навсегда запастись терпением, сберечь силы для того, чтобы пережить кошмар оккупации и вынести непосильную для ее гордого и свободолюбивого характера ношу. Ей хотелось перетерпеть, чего бы это ни стоило, черные дни оккупации, чтобы потом, после победы, снова жить для своих детей и ради них. Муж ее, Герасим Быстров, первый председатель пчельнинского колхоза, смертельно раненный в 1930 году из обреза, умирая, завещал ей жить для Натальи, Паши и Николушки. Он завещал беречь их пуще всего на свете и воспитать достойными людьми, чтобы знал он, уходя из жизни, что умирает за будущее, в котором дети его займут почетное место.
Минуло одиннадцать лет. И не так все получилось, как думалось, – грянула война. Тяжестью легла в сердце Елизаветы вечная дума о старшей дочери: где она, жива ли?.. Легко сказать: Наталья – военная летчица, да еще в такое время?! Вторую дочь – семнадцатилетнюю Пашу в прошлом году насильно увезли в Германию. Что могла сделать Елизавета? Девятнадцать человек схватили тогда – почти всю пчельнинскую молодежь. Увезли и Пашу. Только раз написала она, восемь месяцев назад, и как в воду канула. Жила и работала у какого-то помещика в Померании, неподалеку от Дейч-Кране. Он ударил ее плеткой по лицу и выбил глаз за то, что в ведро с молоком во время дойки залетела шальная муха… Так она и написала: «Пишу, глядя одним глазом, – другой перевязала, вытек он. Болит, ломит, всю кидает в жар…»
Лишь четырнадцатилетний Николушка находился при ней. Он уже две зимы не учился – школа была закрыта, читал книжки дома. А недавно новая беда нависла над головой: староста пригрозил, что мальчика придется «сдать» немцам. Берут в обучение. Уверял, иуда, что в Германии из него человека сделают. Обучат в слесари на большом заводе. Будут его одевать, поить и кормить задаром…
– Радуйся, Лизавета! – хихикал дискантом староста.
Но Елизавета не радовалась.
А теперь приехали каратели…
Неожиданно из-за угла избы вышли немецкий фельдфебель, староста – косой Григорий – и трое ражих солдат. Староста еще издали озабоченно крикнул сладким фальцетом:
– Принимай, Лизавета, трех воинов на постой! Доверие и честь тебе делаем; хозяйка ты исправная… Дом в чистоте держишь. Я сам рекомендовал тебя.
Последний огненный кусочек солнца юркнул под землю, и холодная могильная тень набежала на все…
Елизавета без возражений, не показывая волнения, не проявляя каких-либо признаков недовольства, отступила в сторону, давая дорогу.
– Здесь, господин офицер, хорошо будет воинам, – уверял фельдфебеля староста, вытирая ноги о половик у дверей. – Чисто у нее и куда как просторно! Хозяйка с мальцом в сенях поживут. Лето, тепло – одно удовольствие для них… Люди они смирные…
Елизавета молча посмотрела на затылок старосты, на глубокие морщины, избороздившие его сухую длинную шею, и, оставив сынишку на крыльце, пошла следом. Она остановилась у косяка двери и безразлично глядела прямо перед собой.
Немцы обратили внимание на порядок, одобрили и оценили чистоту избы. Фельдфебель бегло осмотрелся вокруг, буркнул солдатам:
– Зер гут!
Солдаты молча, как по команде, положили оружие на стол и сбросили ранцы. Фельдфебель заметил на стене литографию в рамке. Это был известный портрет Лермонтова в гусарской форме. Против света он был плохо виден.
Немец насторожился, повернувшись к старосте, зло спросил на ломаном русском языке:
– Кто такой? Жукофф? Рокоссовский?! Как смейт?!
Григорий хлопотливо вытянул из кармана очки и, нацепив их на нос, сморщился, глядя на портрет единственным глазом. Глаз немедленно заслезился от напряжения, вылез из орбиты, как у рака.
– Лизасета! Кто это здесь? – угрожающим голосом проговорил он.
Елизавета грустно улыбнулась и ответила, не глядя на старосту:
– Лермонтов это, поэт русский…
– Лер-мон-тофф?! А! Пуш-кин! – произнес фельдфебель и успокоился. – Это нитшево, нитшево… но лютше не надо… Надо фюрер!.. Хайль Гитлер! – вдруг истошно крикнул он солдатам, так, что Елизавета и Григорий вздрогнули.
Солдаты громко пролаяли ответ.
Похолодевшими руками Елизавета сняла портрет и тихо проговорила, ни к кому не обращаясь:
– Подождем, когда фюрера подарите. Мы его с удовольствием повесим…
Григорий замер.
– Ты о чем баба-дура? – заикаясь от негодования, спросил он.
– О портретах я, о чем же еще!
– Ошень хорошо! – улыбнулся фельдфебель и, козырнув Елизавете, гремя сапожищами, ушел молодцеватой, бравой походкой.
– Как бы тебе боком не вышло! – покачал головой староста, раскланиваясь перед солдатами, оставшимися на постой.
– Не знаю, боков-то у меня более не осталось…
Она бережно отнесла портрет Лермонтова в чулан и через несколько минут вернулась в избу – стелить постели непрошеным и незваным гостям.
41
Истерзанная и измученная сомнениями Наташа перед заходом солнца пошла дальше.
Пересекая зеленую полянку, она вздрогнула, спугнув сороку, и непонимающими глазами посмотрела, как вспорхнувшая птица полетела к опушке.
На горизонте полыхала заря, похожая на огромное зловещее зарево. Из леса тянуло сыростью и прохладой. Вечерняя тишь ласково разливалась по округе, но мирная на вид природа не могла успокоить Наташу. Минуты, отделявшие ее от того, что она хотела и должна была узнать и увидеть, тянулись беспощадно медленно, выдержки не хватало, нервы переставали подчиняться. К горлу подступали рыдания.
«Куда иду? – спрашивала себя Наташа. – К пустому дому? К горькому пепелищу, где не осталось ни родного родного человека – ни матери, ни сестры, ни брата?»
Тяжелые, кровавые отблески на дальних облаках медленно затухали, и малиновые края их подернулись холодным отблеском свинца и пепла.
Наступали сумерки.
Наташа подошла к Пчельне со стороны реки, чтобы, миновав улицу, зайти в дом через огороды. Берег, травянистый, местами заболоченный, густо зарос кустами ивняка. В тихой глади широкого плёса отражалось звездное небо, зеленеющее на северо-западе. Зеркальная поверхность воды мерно покачивала отражения крупных звезд. Сонная тишина наступающей ночи ничем не нарушалась, хотя сама ночь стояла настороженная, готовая проснуться каждую минуту.
Выйдя из кустарника и перейдя открытую лужайку, Наташа добралась до огородов. Околица деревни сиротливо чернела мрачными, безжизненными силуэтами строений.
Родные, дорогие места! Еще девочкой бегала она здесь с подругами, собирала цветы на лугу. Меж двух заборов по узенькой тропинке когда-то гоняла гусей на реку. Вот и давно знакомый огород, милый и тихий… Сколько на нем росло редиски и сладкой моркови! Какие ядреные репки поспевали здесь и как ярко цвели маки! Было много подсолнухов, огурцов, луку. А как сладко пахло укропом!
Наташа вдруг отчетливо ощутила все знакомые с детства запахи. Казалось, они сохранились здесь до сих пор, воскресив картины далекого счастливого прошлого.
Еле различая в темноте забор огорода, протянувшийся вдоль заросшей тропинки, она разглядела столбы из кругляков, заостренные сверху. Все было как раньше. Только огород теперь густо зарастал бурьяном и крапивой.
«А вдруг и дома так же пусто?..» Эта мысль заставила Наташу остановиться. Она прислонилась к забору, приложила руку к сердцу, словно желая удержать его неистовое биение, и, вглядываясь в очертания избы, едва видимой с задворков в тусклом свете звездного неба, собравшись с силами, медленно и осторожно пошла вперед. Нужно пройти тридцать шагов – и все станет ясным.
* * *
В избе Елизаветы Быстровой сидели за столом три немецких солдата и с молчаливым вниманием наблюдали за хозяйкой, которая готовила им постели. Хорошо, что староста Григорий был чужим, присланным человеком. Знай он, что Наташа в Красной Армии, и доложи немцам, не снести бы головы Елизавете Быстровой от этих вот, что спать любят помягче.
Окончив с постелями, женщина взглянула на солдат:
– Вот… Готово…
– Гут! Данке шён, фрау русс! – ответил один из них.
Немцы раскрыли ранцы. На столе появились хлеб, консервы, бутылка…
– Фрау русс, – покрутил пальцем над столом рыжий.
Елизавета молча подала тарелки, ножи и вилки. Она собралась выйти, когда тот же рыжий солдат задержал ее и пригласил к столу:
– Зетцен зи, зетцен зи… Ферштейн?..
– Нет, спасибо, – наотрез отказалась Елизавета, энергично поведя рукой. – Избави бог!..
Тогда рыжий меланхолично пожал плечами и протянул ей банку консервов:
– Битте!
Елизавета удивленно посмотрела на него и отрицательно мотнула головой.
Рыжий опять пожал плечами. «Как угодно», – сказало его лицо, и солдаты потеряли к Елизавете всякий интерес.
Она подняла с полу матрац и дерюжку, чтобы вынести их в сени и устроить там постель для себя и Николушки.
Когда она вернулась в избу, солдаты играли в карты. Рыжий тасовал колоду. Увидев вошедшую Елизавету, один из солдат показал на грязное белье, брошенное на пол.
– Мыла нет, – поняв, чего от нее хотят, ответила Елизавета.
– А-а! – догадался немец и, порывшись в ранце, подал ей кусок туалетного мыла.
Елизавета показала рыжему забинтованную руку, случайно обожженную три дня назад, и жестами объяснила, что стирать ей трудно.
В ответ эсэсовец что-то сострил по-немецки, и его друзья весело рассмеялись.
– Арбайтен, арбайтен… Работайт… Нитшево…
Дверь избы тихо скрипнула и отворилась – на пороге стояла Наташа.
Увидев немцев, она невольно отшатнулась, но мгновенно поняла – отступать нельзя: показать свой испуг, Даже удивление было бы непростительной оплошностью.
К счастью, Елизавета не узнала дочь. То ли потому, что не ждала ее, то ли потому, что в прокуренной полутьме избы она не могла как следует разглядеть вошедшую.
Плавно ступив вперед, Наташа спокойно и вежливо поклонилась немцам.
– Гутен абенд! – ответил рыжий, мельком взглянув на деревенскую девушку.
Наташа показала на Елизавету, поясняя, что пришла к ней.
– Битте, битте! – ответил немец, раздавая карты.
Наташа строго посмотрела матери в глаза. Сердце Елизаветы дрогнуло: она узнала дочь, хотела крикнуть, броситься к ней, заплакать, обнять, но сила разума заставила ее промолчать и замереть на месте.
Она поняла строгий взгляд дочери. Ни одним движением не выдала своего волнения, ни одна морщинка не шевельнулась на ее внешне безучастном ко всему лице. Только глаза странно заблестели и в глубине их затаились счастье и ужас, радость и скорбь.
– Соседка, я за спичками, – тихим и спокойным голосом сказала Наташа. – Кончились у нас, а надо самовар поставить…
– Идем, я в сенцы перебралась. Здесь военные живут…
– Идемте. Зачем мешать? Пусть отдыхают, – так же спокойно и мягко проговорила Наташа.
Дрожащими руками Елизавета подобрала грязное белье, и обе женщины неторопливо вышли.
Немцы, увлеченные картами, не обращали внимания на забитых русских баб.
В сенцах, озаренных слабым светом коптилки, Елизавета швырнула белье и бросилась к дочери. Наташа испуганно и предупреждающе подняла к губам указательный палец, сверкнув в сторону дверей полными слез глазами.
Без единого слова, без единого звука они обнялись и горько, беззвучно заплакали.
Елизавета гладила плечи и волосы, целовала лицо дочери и, ослабев от пережитого волнения, опустилась на колени и стала торопливо и горячо целовать ее руки. Наташа неподвижно стояла и плакала, роняя крупные слезы на голову счастливой и страдающей матери.
В открытую дверь со двора вошел Николушка и, увидев мать на коленях перед незнакомой женщиной, остановился в недоумении. Неизвестная стояла спиной к слабо мерцающей коптилке; ее лица мальчик не мог рассмотреть. Не понимая происходящего, он оробел, попятился было назад. Может быть, мать не хотела, чтобы он видел такое ее унижение перед чужими людьми? Не вымаливала ли она чего-нибудь от отчаяния и нужды?
Взявшись рукой за скобку двери, он услышал очень тихий, но такой знакомый голос сестры:
– Николушка, молчи… А то пропадем… Это я… Узнаешь?
Он бросился к Наташе.
Обхватив его голову, она крепко поцеловала брата, а тот неотрывно смотрел в сестрино лицо, словно не веря себе – она ли это?
Губы мальчика задрожали. Он уткнулся носом в ее грудь. Худенькие, неокрепшие плечи подростка затряслись, горячее влажное дыхание припекало грудь сквозь кофточку.
Наташа молча гладила Николушку по мягким шелковистым волосам.
– Вырос ты, братик, – шептала она. – Как давно мы не виделись. Ты и позабыл, поди, меня? В сороковом лишь три дня дома побыла. А о Паше что ж молчите?
– Паша у немцев… Угнали ее в Германию…
Николушка вдруг встрепенулся:
– Пойду я… Посмотрю, как бы кто чужой не зашел. Предупрежу тогда.
Осторожно скрипнув дверью, он вышел на крыльцо.
Мать и Наташа остались в сенцах одни.
Как ни хотелось им продлить радость свидания, Наташа понимала, что ей надо скорей уйти из деревни. За дверью играли в карты лютые враги, готовые растерзать ее, доведись им узнать, кто она такая…
– Как же так, маманя? У вас полно немцев, – шептала она, – а мне говорили, в Пчельне их нет.
– Сегодня перед вечером прибыли.
– Значит, мне нельзя оставаться здесь. До рассвета я должна уйти, пока они не огляделись.
– Не из плена ты?
– Сбили меня в бою над станцией. К своим теперь пробираться буду.
– Куда же ты идти-то должна? – обомлев, спросила Елизавета.
– К партизанам. У вас тут никого нет, чтоб повидаться?
– Нету, родимая! Не знаю об этом…
Материнское сердце затосковало. Елизавета поняла, что Наташа должна поступить именно так. Но материнская любовь вопреки всему спорила с очевидностью, заставляя думать о том, как хорошо было бы оставить Наташу здесь, надежно запрятать где-нибудь и терпеливо ждать прихода своих.
– Куда же ты пойдешь? Запрятать бы тебя? – нерешительно намекнула Елизавета, садясь рядом с дочерью и обнимая ее.
– О чем ты, мама? Дезертиром предлагаешь быть?
– Не сердись. От любви я. Сама не знаю, что говорю. Тебе видней… Не пропади только. Ты, погляди, расцвела-то как! – рассматривала Елизавета дочку. – Красавица стала.
– Не надо, маманя, до того ли сейчас?
– В деревенском-то как подходит тебе. Раньше все в гимнастерочках с петлицами да с портупеями. Вроде и не к лицу было. Деревенская красота подюжее городской, квелой. Ты бы на всю округу славилась… И бровь у тебя густая, и поведена хмуро, как у отца… Печальная ты да серьезная не в меру. Может, несчастье какое?
– Ты о чем?
– На женщину похожа стала. Посуровела… Может, говорю, обидели, обманули или еще как?
– Девушка я, – рассеянно ответила Наташа, снисходительно поглядывая на мать и прощая ее вопросы.
Елизавета поднялась и с тяжким вздохом начала собирать валявшееся под ногами немецкое белье. Наташа заметила повязку на ее руке.
– С рукой-то у тебя что?
– Обожгла малость.
– Тогда тебе, милая, стирать нельзя. Разболится…
– Сказала им, что не могу, – смеются только.
– Я постираю. Ставь самовар.
– Бог с тобой!
– Успею. Буду стирать и разговаривать с тобой.
– Чем же мне угостить-то тебя? Живем по-нищенски. Нет ничего.
– Вон мешок. Покушайте… Там есть кое-что… А я не хочу.
Наташа сняла платок и жакет. Засучив рукава кофточки, она подняла мыло, посмотрела на этикетку. Мыло оказалось итальянским.
– Белье пораньше на солнышке высушишь, погладишь и подашь… Пусть довольны будут и не обижают попусту…
Замачивая рубахи в корыте, она бодро говорила матери:
– Еще малость потерпите. Скоро им конец. К осени наши непременно будут здесь. Тогда и отдышитесь.