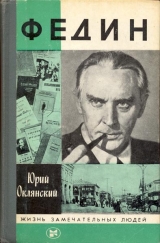
Текст книги "Федин"
Автор книги: Юрий Оклянский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
А рассказывает о всяких разностях… О том, например, как больше месяца ездил по городам Урала. «Самое интересное из поездки – добыча калийных солей в Соликамске, дело новое, второе в мире… Спускался я на 72 километра под землю, в бадье, с ветерком… А под землей, по высеченным в соляной толще штрекам гулял… когда все гудит и вздрагивает…»
Еще о разных диковинах, совершающихся на глазах; о строительстве в Ленинграде образцовой газетной типографии, оснащенной сверхскоростными ротационными машинами, о новом помещении писательского клуба, о парке культуры, который собираются создать всем на удивление на Невских островах и т. д.
Вообще же живет обычной писательской жизнью, в Детском Селе, через две улицы от Толстых, поблизости от живописца Петрова-Водкина, все в том же кругу совместных друзей, где теперь недостает его, Федина. Писал очерки по следам уральской поездки, выступал на заводе «Красный выборжец», рассказывал о рудниках в Соликамске. И рядом в письме – вот оно, заветное:
«Работаю над окончанием и отделкой „Угрюм-реки“… Работа весьма приятная, но выматывающая, потому что имею дело с 200 действующих лиц… Чтоб ярко представить себе всю эту сложную жизнь и держать все вожжи крепко, приходится сильно напрягать душу, отсюда – бессонница, усталое сердце, насмарку 5 лет жизни. Ну что ж, жизнь на то и дана, чтоб, пройдя другие жизни, не прожить свою».
Вот как живет этот человек!
И все они живут, каждый по-своему, пусть часто изнурительно и сложно, но неунывающей, полной веры, надежд, целеустремленной жизнью. Толстой, Горький, Ваня Соколов с его неугомонной компанией кочующих путешественников, бородатый, мудрый Шишков… Каждый не существует особняком, только для одного себя, но вольно или невольно сопрягает свои усилия со стремлениями других людей, ощущая себя частью потока народной жизни.
Нет, ему было для чего жить, зачем выздоравливать! Федин ощущал постоянные связи с людьми, с любимыми и близкими и с чужими и незнакомыми, но тоже объединенными с ним общими усилиями, надеждами; с прерванными делами, которые только ждали его возвращения; е Волгой и Невой, с Ленинградом, Москвой и Саратовом, о которых он тосковал. «Очень, очень много – в смысле ил и бодрости – дали мне за последнее время все эти сконечные выражения дружбы, участия и – часто – любви, – писал Федин жене 1 января 1932 года. – Я чувствую себя „нужным“ человеком, и поэтому хочется скорее встать с постели и скорее начать работать. О, да, Дор… Во всяком случае, мне хочется поправиться, чтобы работать, чтобы быть с тобой и с Ниной, чтобы снова почувствовать среду товарищей…»
Бессчетные, неуловимые связи с Родиной, поддержка друзей давали уверенность, вливали силы, были большой моральной опорой.
С половины января 1932 года у Федина в течении болезни стали намечаться изменения к лучшему.
Благоприятную картину давали рентгеноснимкн, в анализах исчезали палочки Коха, стих кашель, повысился аппетит. Начались короткие самостоятельные прогулки по Давосу.
Поворот на поправку, если только это был он, дополнительно, кажется, выразился еще и в том, что в его комнату зачастил владелец и шеф санатория доктор Штёклин.
Как-то в одно из таких инспекторских вторжений Штёклин увидел на столе у Федина ворох бумаг.
То были стопки писем, что перечитывались на досуге, а также материалы и заготовки к роману «Похищение Европы», которые он извлек из чемодана и разложил для просмотра, намереваясь понемногу возобновлять работу.
– А это что такое?! – сокрушенно всплеснул руками Штёклин, будто заметил следы самого непотребного разгула. – Разве вы не знаете, что бумаги скапливают пыль! Уберите, уберите, пожалуйста! Для вас же это, дорогой герр Федин, – летучий яд! А кстати, что это за канцелярия, если дозволите?
– Да так… Знаете ли, я пишу роман…
– Что?! – всполошился Штёклин. – Ра-а-а-бо-тать! Нет, писать рекомендуется только письма, если угодно. И то предпочтительно краткие, самое необходимое… – И тут же круто изменил тон: – Право же, милый герр Федин! Чем не угодил вам наш «Гелиос»?
– Да нет же! Все великолепно. Просто мне хотелось немножко поработать…
– О, умоляю вас! И берлинский коллега, доктор Кюне, может, слегка либерал, но и он подтвердил бы. – И, наблюдая, как Федин неохотно сгребает со стола бумаги, продолжал вдогонку ласкать словами: – Спасибо вам!..
– …Эмоции – злейший враг больного, – поучал шеф санатория, сладко улыбаясь, в другой раз. – Гасить и гасить их надо, герр Федин. Советовал это вам доктор Биро? Я добавлю – жить, как часы: тик-так, тактик! Единственная забота – ваш режим, единственная заповедь – распорядок дня… Только так можно что-то гарантировать…
Впоследствии, размышляя над здешним житьем-бытьем, Федин окончательно понял, что преувеличенная заботливость Штёклина заключала в себе и расчет. У выздоравливающего требовалось с самого начала взять в прочную узду пробуждающийся норов, отбить чрезмерные желания и хотения. И тем прочнее и верней закрепить, как собственность, за санаторием «Гелиос».
Федин написал Конраду Кюне. Ответ из Берлина не замедлил прийти. Риск, конечно, есть, высказывался Кюне, но если творчество повышает настроение и вообще способствует душевному равновесию, то при обозначившемся улучшении можно позволить некоторую свободу в выборе занятий. Значит, попробовать и писать. Все дело, однако, в дозах, в осторожности. Это должно быть не изнурение нервов, а душевное удовольствие, игра избыточных сил, что-то вроде трудотерапии.
С таким решением вынужден был смириться и Штёклин.
С февраля Федин возобновил работу над прерванным без малого год назад романом «Похищение Европы».
…Первая книга романа сосредоточена на делах и буднях лесоторговой фирмы голландских промышленников ван Россумов, чьи суда бороздят моря и океаны от Индонезии и Скандинавии до Советского Севера. Чтобы воссоздать широкие картины эпохи, автор своеобразно использует жанр «романа-путешествия»: многое дано глазами советского журналиста Рогова, переезжающего из страны в страну, размышляющего, оценивающего то, что он видит.
Главное содержание книги – разоблачение буржуазного образа жизни, среды капиталистического предпринимательства. Ярко и сильно выписаны художником характеры династии «лесных королей» ван Россумов – старейшины рода практичного и осторожного торгаша Лодевийка, внешне обаятельного и волевого Филиппа, знатока культуры и искусства, старательно вытравливающего из себя любые человеческие чувства, если они мешают процветанию фирмы; его опустившегося племянника Франса и энергичного зятя – директора машиностроительного завода в Гёрлице Крига…
При всем разнообразии этих характеров и лиц есть главное, что их объединяет, – алчность, хищничество, душевная пустота. Таково тлетворное воздействие капиталистического предпринимательства. Писатель нередко прибегает к сатирическим краскам. В широко поданных картинах фондовой биржи в Роттердаме он классифицирует завсегдатаев «почти по Дарвину», ибо здесь господствует «закон взаимного уничтожения». У таких людей, как ван Россумы или их коллега «нефтяной король» Гейзер, цифры лицевого счета в банках и есть подлинная «рентгенограмма» их душ.
Запечатлены на страницах книги и трудовые люди буржуазного общества, испытывающие на себе тяготы надвигающегося кризиса, безработицу, нищету, вступающие в борьбу за свои попранные права. Живописно и сочно нарисованы картины амстердамского базара, которые впоследствии выделял Горький. «Ку-пи-те, ку-пи-те!..» – тщетно взывает изможденный торговец раскрашенных безделушек.
Безрезультатную попытку вырваться из жизненного тупика предпринимает безработный кочегар Рудольф Кваст. У него только что умерла жена, для которой не на что было купить лекарства, теперь за долги в квартплате его грозят выкинуть из жалкой комнатушки. Он неумело протестовал, но был избит фашистскими молодчиками. Вернувшись домой, чтобы прекратить страдания, Кваст кончает самоубийством.
Сила рабочих – в организованном отпоре, единстве, в ясности классового сознания. Это понимают дружно бастующие члены профсоюза шоферов, приводящие в бессильную ярость самоуверенного Филиппа ван Россума. Это хорошо сознает молодой моряк Джон, прибывший на голландском судне в северный порт СССР, когда от имени своих товарищей говорит на встрече с советскими рабочими: «Я счастлив, что ступил ногой на вашу землю».
Два мира предстают со страниц романа, изображающих картины буржуазного общества, – люди капитала и люди труда. Зримой внешней символикой этих миров в книге как бы являются «ослепительное, беззвучно мчащееся шестнадцатицилиндровое чудовище – „роллс-ройс“ „нефтяного короля“ Гейзера и „черный Амстердам“ – трущобы и рабочие окраины города. Амстердам, где формируются классовое сознание и солидарность пролетариата, где зреют „гроздья гнева“…
…Хотя писание романа едва ли походило на трудотерапию, таило в себе азарт, а значит, мучения, сбои, перепады настроений и состояний, включая нарушение сна и аппетита, и на первых порах позволило вроде бы убедиться в правоте тусклых пророчеств Штёклина, ущерба поправке оно не нанесло. Напротив, работа каким-то странным и непонятным образом способствовала общему приливу сил у Федина.
Особенно это стало ощущаться с приходом весны. Теперь уже почти не было сомнений – случилось! Снова жизнь, он выздоравливает. Это было главное. Конечно, понимал: весенние взлеты обманчивы, коварны для туберкулезника, и в любом случае это только начало, а впереди трудноисчислимые месяцы лечения… Но по сравнению с тем, каким был еще два или три месяца назад, он видел себя чуть ли не здоровым.
На дворе, на улице был чудесный месяц март, полный света, пора всеобщего обновления. Федин ковылял по снежно-голубой дороге в тяжелом черном пальто на меховой подкладке, сгорбленный, опираясь на палочку, и когда заходился в кашле, тащил из кармана темный с крышечкой стаканчик… А перед глазами все пестрело яркой россыпью красок, полнилось обещанием счастья, ожиданием перемен.
„…Март оправдывает себя с самого начала, – записывал Федин. – Нынче уже вода журчит в канавках, и запах весенний, такой наш,русский – верхний слой снега на дорогах стаял, колеи углубились, пожелтели, и пахнет нашими дорогами – испариной навоза, лошадьми. От этого еще больше хочется уехать. Здесь вообще много „русского“. Все делает снег, зима. Когда колют лед на тротуарах кирками и осколки льда летят веером по сторонам, тогда такое чувство, точно идешь по Фонтанке… Сосульки висят громадные, с аршин, а когда срываются с крыш, звенят и рассыпаются серебряными зернами. Но все-таки общий вид этой зимы (или этой весны) какой-то ненастоящий, декоративный… У меня, перед балконом, поют и свистят синицы и скворцы, с каждым днем сильней, продолжительней, беспокойней. Дело не только в календаре, в том, что на бумаге напечатано самое обещающее на свете слово – март– дело вот в этих чудесных маленьких признаках весны“.
Радость возвращения к жизни, повышенная восприимчивость ко всем краскам бытия, настойчивые переходы мысли от окружающей действительности к далекой Родине, поэтическая игра воображения, раздумья, тишина одинокого затворничества, лирика… За всем этим незримо обозначается то, что называют иначе еще – жаждой творчества, искусством.
И не случайно именно в марте – апреле Федин не только еще активней входит в мир образов романа „Похищение Европы“, выстраивая и развивая его, – на этом рубеже своим чередом зреет у него замысел другого произведения. То, что было писательским любопытством к встретившейся „натуре“, неопределенным чувством материала для творчества, все более настойчиво перерастает в рабочее намерение – создать по теперешним жизненным впечатлениям крупное произведение, скорее всего – роман,
22 марта 1932 года датировано письмо к А.М. Горькому, где, сообщая о возобновлении работы, Федин решается уже объявить „заявку“ о своем желании написать произведение, перекликающееся с „Волшебной горой“ Т. Манна.
Намеки сделаны как бы между прочим и вскользь, но высказаны высокому авторитету, лицу, перед которым негоже было бросаться словами. В письме заново возникают люди, чьи черты отобразятся в некоторых основных героях будущего романа, – владелец санатория Штёклин и доктор Биро.
„Словом, – писал Федин, – мое состояние наилучшим образом выражается небезызвестной формулой: „Оп-ля, мы живем!“
Но живем мы пока довольно странной жизнью, т. е. главным образом, в горизонтальном положении, под надзором ревностных глаз, испытующих не только здоровье, но и кошелек.Тут решительно ничего не поделаешь: санаторий – это аппарат, выделывающий из коховых бацилл швейцарские франки. Сделать можно, пожалуй, только одно: к скандальной славе Томаса Манна(„Zauberberg“) прибавить если не славы, то скандала.Мне в этом смысле повезло: владелец санатория, в котором я лечусь, превзошел по лицемерию, ханжеству, подлому стяжанию самого Иудушку. Представьте себе этакое созданиена фоне нынешнего кризиса – красота?Не потому ли он меня старательно удерживает от работы, что ждет от нее „возмездия“?Впрочем, речь только о нем – собственнике санатория. Лечит же меня не он, а превосходный врач и тонкий человек. Мой здешний быт зависит, конечно, больше от него, а не от Иудушки“. (Выделено всюду, кроме слова „кризиса“, мной. – Ю.О.)
Выделенные строки не только полнятся слегка замаскированным помыслом – писать. Но в них пробивается уже пафос рабочего намерения, каким он представлялся в начальной поре писателю.
День и час, когда „произведение следовало вынуть из чернильницы“, у Федина вызревал, как правило, медленно.
Чаще всего к написанию романа он приступал не раньше чем через три, четыре, пять и более лет после того, как пережиты были основные события, просившиеся в книгу, и затевалось их всестороннее обдумывание. Роман „Санаторий Аркгур“ создавался в 1937–1940 годах.
…Маленький давосский санаторий „Арктур“ – во многом литературный близнец реального „Гелиоса“, не исключая благостно-украшающего оттенка обоих названий („Гелиос“ – „Солнце“; „Арктур“ – это звезда первой величины, самая яркая в северном полушарии, и арктур также – архитектурный термин немецко-австрийского происхождения – ряд арок, нечто ажурное, сводчатое). В романном названии более приглушен визг рекламного зазыва, которым старались перещеголять друг друга владельцы реальных санаториев; оно более утонченно, многозначно, философично.
Общая атмосфера действия вобрала в себя многое из того, что представлено в уже известной нам переписке. Главный герой произведения попадает примерно в сходные с Фединым житейские обстоятельства. Этот единственный советский пациент во всем швейцарском Давосе – молодой инженер по приему промышленного оборудования для новостроек, сотрудник торгпредства. Фамилия у него тоже в чем-то похожая, восходящая корнем к короткому русскому имени – Лёвшин.
Читатель на страницах романа встретит и лечащего врача-швейцарца Штума, и ассистента „фрейлейн доктор“ Гофман, и владельца санатория Клебе, и разнообразных узников „давосской болезни“, и подпольную возмутительницу порядка – книгу Т. Манна „Волшебная гора“, и т. д. Но те сложные превращения и изменения, которые претерпевают при этом автобиографические впечатления, подчинены главному – лепке характеров, развитию художественной идеи.
Пафос своего первоначального замысла Федин в письме к Горькому формулировал так: „Санаторий – это аппарат, выделывающий из коховых бацилл швейцарские франки“. Такая направленность многосторонне развита в произведении. Причем в поле зрения романиста теперь уже не только определенного типа курортные врачи – „копилки в пиджаках и черных шляпах“. Показана и неизбежная ответная реакция, которая возникает там, где охрана человеческого здоровья обращена в сферу наживы.
Погоня за дивидендами с несчастий ближнего, финансовая заинтересованность в том, чтобы больной продолжал болеть, извращает тончайшие и интимные отношения между врачевателем и врачуемым.
И если Клебе, дельный врач, культурный человек, любящий Грига, даже манерами становится похож на лавочника из-за сочетания внешнего пресмыкательства перед пациентами с закулисными махинациями в медикаментах, которые вредят здоровью тех же самых людей, запутывается и погрязает в этом настолько, что сам противен себе (лишь бы маленький его санаторий мог выжить и уцелеть в конкурентной борьбе), то не слишком привлекательны и его состоятельные буржуазные клиенты. Ежедневные высокомерные капризы майора Пашича, деревянный деспотизм пасторской английской четы или садистские выверты миллионерши мадам Риваш, „королевы“ венгерского токайского, которая бесцеремонно бросает согбенному перед ней Клебе: „Вы берете с меня самую высокую плату… за эту плату я вправе требовать все, что хочу… включая ваши нервы, господин доктор“.
Таков ответный счет на прейскурант улыбок медицинского персонала – беспардонное унижение чести и человеческого достоинства врача. Двоедушие Клебе и бездушие состоятельных пациентов предполагают и как бы дополняют друг друга.
Образ доктора Клебе, обрисованный крупно и ярко, – один из центральных в романе. Если его отдаленный предшественник Штёклин, пользуясь словами Федина, „превзошел по лицемерию, ханжеству, подлому стяжанию самого Иудушку“, то для Клебе приобретательство не самоцель. Это фигура куда более сложная и к тому же трагическая. Судьба мелкого хозяйчика в пору экономического кризиса прослежена на личности по-своему незаурядной.
Единственный из медицинского персонала санатория, кто уже давно и тяжко страдает туберкулезом (среди персонала реального „Гелиоса“ таких людей было трое), – это сам его владелец и шеф – доктор Клебе. Он заболел десять лет назад и тогда же придумал лукавый ход – приобрести небольшой санаторий в Давосе. „Арктур“ был задуман как лекарство, как гарантия, как хитрость, – читаем в романе. Он должен был лечить и оплачивать лечение, он должен был стать вечностью и в то же время ценою, которой приобретается вечность. А он стал пожирателем здоровья доктора Клебе, стал пагубой».
Превратившись в собственника лечебницы, Клебе не выздоровел, но потерял право болеть. Жестокая трагикомедия положения мелкого буржуазного хозяйчика состоит в том, что, чувствуя себя совсем не лучше некоторых из своих богатых клиентов, Клебе наряду с исполнением повседневных дел обязан вдобавок рекламировать собственное превосходное состояние и выказывать безмерный оптимизм.
Клебе дерется за жизнь из последних сил, как затравленный хорек. Против него весь свет, каждый новый день, судьба, пациенты… Исход этого жалкого, вихляющего единоборства, этого отвратительного и по-своему героического поединка, конечно, предрешен. Клебе кончает самоубийством.
«Я иногда мечтал о чуде, которое меня спасет. Но чуда не случилось… Я сдаюсь», – пишет он в предсмертной записке.
«Он был неплохой человек, потому что не мог быть лучше, даже если бы хотел», – прочитав записку, говорит о нем Лёвшин. «Он был просто несчастный», – добавляет Гофман.
Выявление человеческого в существах, загнанных, исступленных жизнью, жестоко перековерканных несправедливыми социальными порядками, – вот своеобразное решение темы гибели мелкого хозяйчика в пору экономического кризиса, которое дано в романе.
Морально-психологическая атмосфера «клубка змей», которую напоминают подчас внешне благопристойные отношения на швейцарском курорте, – это лишь один художественный полюс произведения. Но есть и другой.
«Санаторий Арктур» в той же самой мере – книга о выздоровлении, о радости бытия, о торжестве жизни над смертью. Не случайно многие эпизоды произведения развертываются на фоне весеннего пробуждения и обновления природы.
Одна из главных сюжетных линий – выздоровление Лёвшина. Этому персонажу переданы в романе те социально-нравственные опоры, понятия и представления, которые помогли в свое время выстоять и справиться с недугом самому автору. У Лёвшина тоже есть жизненный шанс, прочный тыл, связь с родиной, поддержка друзей, вера в будущее. И он не мыслит себя вне потока общенародной жизни, продолжающейся вдали от швейцарских гор.
Даже письма инженер Лёвшин получает по характеру весьма сходные с теми, что получал писатель. Он так же с благодарностью думает о «друзьях, освободивших его не только от денежных забот, но и от сомнений в успехе». И так же жадно читает случайно добытые советские газеты, в одной из которых, например, рассказано о пуске гиганта первой пятилетки Днепрогэса: «…Лёвшин до усталости держал полотнище московской газеты, по которой с полосы на полосу проступали устои плотины – титанический гребень, расчесывающий букли Днепра, и сквозь туман панорамы угадывал контуры знакомых по проекту подробностей, отдаленные воплощения чертежей. Усилия, работа инженера Лёвшина… были вложены в какую-то крупицу этих воплощений. И тогда его опять с закаленной силой охватило решение: выздороветь, выздороветь, выздороветь и вернуться туда, домой, к смыслу и цели своего будущего!»
Можно спорить, конечно, во всем ли убедительно обрисован Лёвшин в романе, но нельзя не признать, что основное для него содержание – заряд социального оптимизма, поэзию возвращенного бытия, ликующую многокрасочность жизни, обновления души и тела, лирику приобщения к природе, энергию жизнетворчества – это художественное содержание – образ молодого советского инженера до читателя доносит. Да и не один Лёвшин, разумеется, воплощает в романе общественно-нравственные идеалы Федина в противовес миру буржуазной бездуховности, корысти, стяжательства и наживы…
Судорожно отстаивает свое право на глоток счастья и немногие знаки человеческой солидарности умирающая, изуродованная болезнью Инга Кречмар, одна из самых ярких и трагических фигур романа. Взлетая душой вслед за льющейся музыкой, тешит себя безумной грезой о том, как он заживет праведно и славно, замордованный, изолгавшийся доктор Клебе. С незаживающей тоской постоянно вызывает из глубин памяти тень своей умершей жены непроницаемо добропорядочный доктор Штум, тоже жаждущий человеческой теплоты и участия. По беспечному влечению натуры, как сама природа, дарит любовью своих избранников игривая и неунывающая поломойка Лизль… Даже майор Пашич, обратившийся, казалось бы, уже в медицинский экспонат, вдруг, будто заслышав трубную зорю, предпринимает попытку вырваться из тисков давосского плена…
Томления, мечты, поступки, линии поведения… Что все это, как не различные выражения тех же самых победных сил жизни, их напора и токов, взламывающих окостенение одиночества, развязывающих энергию, извечную тягу людей к любви, счастью, содружеству, освобождению, крушащих всякую неподвижность и мертвечину? И разве не принадлежит все это так или иначе к кругу тех же самых гуманистических ценностей, ради которых в конечном счете и строился Днепрогэс и лишь одним из художественных воплощений которых является сам образ рядового советского инженера Лёвшина?
Так широко и философично, с остротой и тактом социального зрения решает свою художественную задачу Федин.
…Характер произведения сказался, по-видимому, каким-то образом и на некоторых внешних условиях его написания. Во всяком случае, завершался роман в обстоятельствах необычных.
Писание романа растянулось. Требовательный художник все никак не мог окончить роман, который, по его словам, «окончить… было необходимо, иначе я просто погибал». Завершающие главы писались уже зимой 1940 года. По воспоминаниям Федина, «в ту жестоко-суровую зиму, которая побила сады, которая заносила дороги, которая останавливала поезда. И – чтобы было понятнее – речь ведь о той зиме, когда расписание ломалось не только заносами, но и войсковыми передвижениями Красной Армии, вызванными Финской кампанией. Часть души была уже далеко от романа. Тем труднее было его окончить».
Требовались повышенная самоуглубленность, чувство «внутренней тишины». В те годы Федин, переживавший волиу увлечения Львом Толстым, близко познакомился с С.А. Толстой-Есениной. Внучка Толстого убедила писателя приехать в Ясную Поляну. Необходимую обстановку творческой отрешенности романист неожиданно для себя нашел там.
«…Я стал посещать Ясную Поляну, – рассказывает Федин. – Особенно запомнился один из первых приездов – зимой. Был страшный мороз. На станции Засека меня встретил закутанный в овчину кучер толстовских времен. В доме ждала внучка Софьи Андреевны – тоже Софья Андреевна Толстая-Есенина. В доме все поддерживалось, как при хозяевах, даже электричество не проводили. Кухарка, которая готовила Толстому, подала ужин при свечах – молоко и хлеб. Ночью я слушал тишину. Другой такой тишины нет. Фантастическая тишина. И была удивительная сосредоточенность. Там, в Ясной, я жил полтора месяца и окончил „Санаторий Арктур“.
Пока же в настольном календаре писателя была обозначена весна 1932 года. И сам он едва-едва возобновил литературную работу.
В апреле 1932 года в советских газетах было напечатано постановление ЦК ВКП(б) „О перестройке литературно-художественных организаций“, обозначившее крупные перемены в литературной жизни. Сжатые формулировки партийного документа, очерчивая дальнейшие перспективы строительства социалистической художественной культуры, отвечали умонастроениям и воле подавляющей массы советской творческой интеллигенции.
Существование особых пролетарских организаций в литературе (РАПП) имело основания, как отмечалось в постановлении, когда „налицо было еще значительное влияние чуждых элементов“. Эти организации сыграли роль в собирании и выращивании новых творческих сил молодой советской культуры. Однако чем дальше, тем больше политическая линия РАПП расходилась с жизнью. Она не учитывала возросшей классовой однородности советского общества, где к 1932 году развернутое наступление социализма увенчалось решающими успехами. Социалистическая форма производства стала безраздельно господствующей в городе, завершалась сплошная коллективизация в деревне, что подняло на новую качественную ступень союз рабочего класса и трудового крестьянства. Не считаясь с крепнущим духовным единством творческой интеллигенции, сплотившейся на основе преданности идеалам социализма, рапповские теоретики продолжали цепляться за уже исчерпавшие себя подразделения писателей на „пролетарских“, „крестьянских“, „попутчиков“. Узкосектантские лозунги „союзник или враг“, „ударник – центральная фигура литературного движения“, требования „одемьянивания“ поэзии и пр. мешали объективным оценкам живых явлений культуры, насаждали групповщину.
Основным способом руководства литературным движением для РАПП оставались администрирование, команда, искусственное выискивание „идеологических уклонов“, наклеивание ярлыков и критические проработки. Наскоки рапповской критики испытали на себе даже Горький, Маяковский, в разряд „буржуазных“ писателей был занесен А. Толстой… Сходным образом действовали и родственные РАПП организации в других видах искусства.
„Это обстоятельство, – отмечалось в партийном документе, – создает опасность превращения этих организаций… в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству“.
ЦК ВКП(б) постановил ликвидировать РАПП; „объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей“; произвести подобные же изменения по линии других видов искусства.
Партийное постановление Федин оценил в публицистическом отклике для ленинградских газет под названием „Обладать отвагой Бальзака“. „Предъявляя к писателю большие требования, – писал Федин, – пролетарская общественность поддерживает его, как товарищ, окружает его вниманием, радуясь его достижениям и помогая ему преодолевать трудности роста“. Постановление ЦК, „объединившее разрозненные отряды советской литературы для общей работы“, писатель назвал „глубоко знаменательным“.
В апрельском письме 1932 года Горький сообщил Федину, что договорился с Роменом Ролланом о встрече того с Фединым. Горький находил, что во внутреннем облике обоих писателей есть много сходных черт и „свидание… будет приятно и полезно для обоих“. Федин к тому времени был знаком со многими крупнейшими писателями Запада – Стефаном Цвейгом, Леонгардом Франком, Иоганнесом Бехером, Мартином Андерсеном-Нексе… Но Роллан занимал среди них особое место.
В мае с разрешения врачей Федин выехал на Женевское озеро, в крохотный городок Вильнев – к Ромену Роллану. По собственному выражению, „глядел в самое ясное и одновременно самое доброе око Европы“; разговоры – о музыке, о Ганди, о русской революции, о Горьком…
Встреча эта, положившая начало долголетним отношениям, произвела на Федина неизгладимое впечатление. „Среди многих европейских писателей, с которыми я встречался, и среди тех, которым внутренне обязан, – признавался Федин, – Роллан кажется мне величественным… Подобно горьковскому, его темперамент абсолютно искренно отдается общественности. Это – учитель от природы. Пример его жизни, не менее его романов, раскрывает великолепие духа передового европейца. И я уже не мог бы писать о Европе, не имея в виду людей этого склада“. В Западной Европе начала 30-х годов, по выражению Федина, „никто другой из писателей не видел с такой болью трагедию, навстречу которой стремительно мчится Запад“.
К началу июня здоровье Федина улучшилось настолько, что согласно плану Кюне, приняв последние здешние пневмотораксы, писатель распрощался с Давосом и спустился в германский Шварцвальд, в курортный городок Сан-Блазиен – дышать воздухом сравнительно более низинным. Туда же в июне на лето приехала Дора Сергеевна с Ниной; началась жизнь семейная, вперемежку с процедурами и строго исполнявшейся ежедневной нормой – работой над романом.
![Книга Первый всесоюзный съезд союза советских архитекторов, №2, 4-9 ноября 1934 года [Сборник документов] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pervyy-vsesoyuznyy-sezd-soyuza-sovetskih-arhitektorov-2-4-9-noyabrya-1934-goda-sbornik-dokumentov-439768.jpg)







