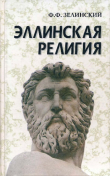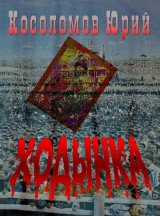
Текст книги "Ходынка"
Автор книги: Юрий Косоломов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
– Нитше, один Нитше у всех на уме – прошептала Надежда Николаевна.
– И ведь разве мало русские себя в церквях жгли? – продолжал Бокильон. – Да что там жгли! Ругаться и водку пить целыми волостями бросали – и навеки. А это потруднее гарей будет. А что до Нитше, то он мальчик у Достоевского на посылках, и ничего больше.
– А вы не допускаете, что люди спешат за любовью? – спросила Надежда Николаевна. – За своей порцией царской любви? Есть ведь люди, которые любят царя и хотят взаимности? Которые готовы и дальше давать и давать в долг этой монархии? А в ответ хотят лишь знак внимания, сувенир?
– Допускаю. Такие люди обязательно есть, их даже много. Жертвовать собой и не желать наград – это самый христианский из всех мыслимых поступков. Но вот любви царя к народу не существует. Такая любовь просто не в природе монархии, понимаете? Любое государство – всего лишь меньшее зло, как, например, полиция – меньшее зло, чем смута, бунт. Вы можете представить полицейского, влюбленного в толпу на Сухаревском рынке?
– Чем же это все обернется? – спросила Надежда Николаевна.
– Даже образцовая нация способна мгновенно деженерировать, превратиться в первобытное племя – ответил Бокильон. – И более того – в стадо. А уж толпа – тем более. Потому я и прошу вас остаться в городе. Давайте, я все же провожу вас домой.
– Ни-ко-гда! – Надежда Николаевна встала со скамейки и одернула юбку. – Я должна это увидеть. Баста.
* * *
Вес, без кружек, одних только „народных лакомств“ – орехов, фиников, инжира, изюма, разложенных в бумажные пакетики с инициалами их величеств – составил восемь тысяч пудов. Расфасовка подарков заняла целый месяц, для этой работы использовали помещения бывшей Электрической выставки в доме Малкиеля на Садовой. Там гостинцы и разложили по пакетам на специально сконструированных для этого столах.
Ежедневно изготовлялось двести пятьдесят пудов колбас, а всего для раздачи на гулянье ее было сделано пять тысяч пудов. К колбасе и фруктам прилагались пряник и „вечная кружка“, всё это завязывалось в оранжевый платок с портретами царя и царицы. Полукопченая колбаса хранилась лучше любой другой, хлеб же – сайки – решено было выпечь в последние дни и выдавать отдельно, вместе с узелком. Туда же, в узелок, вкладывалась и брошюрка с программой гуляний.
Изготовление подарков оказалось выгодным предприятием. Заказы получили самые именитые предприниматели – Клячко (кружки), Григорьев (колбаса), Филиппов (сайки). Платки изготавливались на Даниловской мануфактуре, пиво и мед – на Хамовническом заводе, которым управлял тогда Григорий Эренбург – „Гри-Гри“, приятель журналиста Гиляровского и отец будущего писателя Ильи Эренбурга. Биржевая артель Чижова безвозмездно – „в надежде заслужить благодарность начальства“, как показывал впоследствии артельный староста, – взяла на себя выдачу подарков из будок, построенных купцом второй гильдии Силуяновым.
Гостинцы начали доставлять на Ходынское поле 13 мая, но лишь спустя четыре дня привезли последний ящик. В каждую будку вошло от двух до трех тысяч узелков. Чтобы разложить узелки на полках внутри, артельщики работали по двенадцать часов в день. Раскладывали гостинцы неравномерно – где побольше, где поменьше. На то были особые причины. До четырех часов дня в канун гулянья разложили все гостинцы, включая подвезенные на фургонах филипповские сайки.
* * *
Солнце уже село за Всесвятской рощей, когда артельщики собрались, как и было условлено, на поле внутри гулянья – в углу, образованном буфетами возле шоссе, и их рядом, идущим к Ваганькову. Было артельщиков человек восемьсот – как людей из Чижовской артели, так и их знакомых, каждому из которых в награду за помощь была обещана коронационная кружка. Чтобы артельщики не соблазнялись гостинцами, их кружки остались на подворье Чижовской артели. Оказались среди них и люди небедные, в том числе торговец мануфактурным товаром Михаил Федорович Москвин со своими приказчиками, сын известного книгопродавца Сытин и другие более или менее состоятельные молодые люди, пожелавшие осмотреть, главным образом, толпу и наблюдать за ее поведением.
Тем временем купец Лепешкин – один из начальников Народной охраны, и крестьянин Московской губернии, староста Чижовской биржевой артели Максимов, лично осмотревший содержимое каждого из сотен ящиков с гостинцами, вышли из театра в центре Ходынского поля. Там они впервые за этот день позволили себе присесть и выпить чая, а теперь направлялись к собравшимся – в „боевой угол“, как называл это место Максимов.
– Почему „боевой“? – на ходу вытирая платком лоб, а заодно и картуз изнутри, переспросил спутника староста. – Да потому, Василь Николаич, что там ребятам труднее всего будет. Шут его знает, кто эти будки углом построить удумал. А только в ту коронацию их кругом ставили. Тут и думать нечего было. Ясно же, что народ на поле из Москвы пойдет, да по дороге. Значит, возле угла этого народ раньше всего соберется. А там и другие подоспеют, так что больше всех там народа и будет, с самого начала до самого конца. Так и будут липнуть к одному месту, как пчелы к матке! „Где тесно, там и место“ – так-то в народе говорится. Слыхал? Сперва там, а уже потом в других местах. Нет, чтобы кругом, как в тот раз!
– Видать, лучше прежнего сделать захотели! – поделился догадкой Лепешкин.
– Горячих бы ему всыпать, умнику такому! – в сердцах сказал Максимов. – Чего тут лучше? Ладно бы, в тот раз плохо вышло… Так и сделал бы лучше. А то ведь хорошо выходило. Одно дело – немцы. У них там немец на немце, у строителей этих. Небось, в Неметчине своей привыкли строить, только народ у нас другой, а они не видят. Нет, Василь Николаич, ты мне скажи: где полиция?
– Полиция? – удивился Лепешкин. – А зачем она? Наша охрана есть, народная.
– Да заешь ее комар, охрану вашу! – в сердцах крикнул Максимов. – Свой ведь брат, кто ее боится? К вам, прости Господи, народ за кружками бесплатным сбежался, больше ни за чем. Как сбежались, так и разбегутся, оборони Бог, в случае чего. Полиция нужна, чтобы страх был. А еще б лучше солдаты, как в ту коронацию. Они в тот раз перед будками рядами, как на грядке, построились, и всех гуськом пропустили. Никто обижен не остался. А тут? Небось, государя везут, так полиция везде стоит. А нынче она где? Бывало, идешь по Москве, что в праздник, что в будень – на каждом углу городовой торчит. На рынок придешь – и того больше: кто в мундире, кто так просто, ну, да все равно уж в лицо всех знаешь – Москва ведь, не Питер. А тут? Я за весь день всего одного, одного-единственного пристава видел! Слыхал я, начальник ихний специально полицию ставить не велел. Чтоб праздник настоящий был. Чтоб народ не огорчать! Тьфу ты, немчура окаянная!
– Да ладно, Фаддей Федорыч! Обойдется – неуверенно произнес Лепешкин.
– Обойдется? – переспросил Максимов. – Погоди-ка!
Он остановился и придержал Лепешкина за рукав праздничного полосатого пиджака. Стал слышен доносившийся со стороны Москвы и, одновременно, откуда-то с неба странный, мощный и зловещий гул.
– Слыхал? Я вот сорок три года на свете живу, а такого не слыхал никогда! В Крым раз ездил, там на море буря случилась – и то по-другому было. Днем это еще началось. После полудня, а может, раньше.
Дорогу товарищам перешли несколько девиц с узелками в руках. При виде мужчин они нарочито отвернулись.
– Глянь-ка, батюшка, вокруг – продолжал Максимов – одни бабы да девки.
Лепешкин огляделся. По внутренней части гулянья – полю с театрами, каруселями и прочими сооружениями, заключенными в образованный будками квадрат – расхаживал народ. И действительно, это были преимущественно женщины.
– А почему, знаешь?
Лепешкин пожал плечами.
– Да из толпы с той стороны ушли. Тесно там, понимаешь? Неровен час, давка случится – затопчут. А главное, до ветру сходить некуда. Тоже ведь не подумали. В рощу-то все не набегаются, далеко.
– А вон эти? Вроде, мужики – протянул руку Лепешкин.
– Василь Николаич, глаза-то разуй! Это ж мои ребята. Эх ты, народная охрана!
В это время раздался колокольный звон. Максимов и Лепешкин оглянулись: на звонницу, сооруженную недалеко от главного входа на гулянье, забрались несколько мальчишек. В колокола ударили снова. Подслеповатый Лепешкин перекрестился. Вдалеке показался городовой, решительно шагавший к звоннице.
– Во-во… Давай милок… – проговорил Максимов. – Бог знает, где тя черти-то весь день носили!
Но вот заскрипела карусель, стоявшая недалеко от звонницы, и раздался женский визг. В сгущавшихся сумерках замелькал, кружась все быстрее, хоровод пестрых платьев. Послышался удалой матюжок щуплых, узкоплечих подростков, крутивших карусель. Полицейский остановился, обернулся и махнул рукой. Показались два казака на рыжих лошадях.
– Небось, опять честью просить будут – праздник все ж – вздохнул Максимов. – А надо бы плеткой да по харям неумытым… – Ладно, Василь Николаич, пошел я. Ребята заждались.
Артельщики встретили Максимова тревожным гулом.
– Знаю, знаю! – издалека замахал староста руками. – Устали. Ну-ка, десятники, сюда подойди, с вами сперва потолкуем.
Терпеливо выслушав десятников, – народа мало, да и тот с ног валится, некормлены-непоены, спать охота, а вся ночь впереди, – Максимов откашлялся, погладил окладистую, с проседью, бороду и заговорил так, будто не слышал всех этих жалоб:
– Значится, мужики, перво-наперво всех баб и девок по домам отправить! Духу их чтобы тут не было! Эка толпища-то собралась, того и гляди бока намнут.
– А не согласятся, Фаддей Федорыч? – спросил Василий Трещалин, земляк Максимова. – Моя Верка из одной ревности не уйдет. Как тогда быть?
– Гнать в шею, хоть кулаком – раздраженно ответил Максимов. – На крайний случай отправим их в те будки, что у Всесвятского. Там народу почти нет, хотя и ночь уже скоро. Значит, и дальше больше не станет. А здесь опасно, Василий. Ой, опасно становится! Самых упрямых к Ваганькову пошлем, но это уже на крайний случай. Хоть бы и Веерку твою, шут с ней. А тут им нечего делать. Одни мужики чтоб остались, и точка.
Как будто в подтверждение этих слов с поля за чередой будок донесся надрывный женский крик.
– Чего тут толковать! – вздохнул Максимов. – Дальше что? Дальше так: здесь, в боевом углу, народ попроще поставите, который испугать труднее. Но из чистой публики чтобы по одному в каждой будке все ж таки остался. Конторщик он, или приказчик… За ребятами будет приглядывать, чтоб не ели, не крали, чтоб за деньги продавать не начали. Понятно ли?
Десятники молча закивали.
– Чем от этого угла дальше, тем, мужики, легче будет. К Ваганькову поближе пусть эти… рябчики наши где? Москвин Михаил Федорыч как появится, пусть туда с товарищами своими идет. Интеллигентные люди все ж… Ну, а сами вы, ребята, в будки не пойдете, а станете за ними с улицы приглядывать. Соберите себе каждый в помощь человек по несколько. С Богом, родимые, время не теряйте…
Максимов опять снял свой синий картуз и стер со лба чайную испарину. Он хотел сходить к будкам, чтобы оттуда еще раз взглянуть на поле, но передумал. После того, что он увидел час назад, отраднее картина стать никак не могла. Разве что уже порядком стемнело, и вместо голов в картузах, плотно замостивших необъятное поле перед буфетами, он увидел бы лишь темные, сосредоточенные лица ближайших гостей, подступивших к буфетам на расстояние в сорок-пятьдесят шагов, и смиренно сложивших спереди руки с узелками. Из-за этих узелков казалось, что люди специально принесли их с собой, чтобы иметь возможность держать руки не по швам, или в карманах, или как-то иначе, но именно так, как они их держали: слегка согнутыми, с локтями, расставленными на ширину тела, – не больше, но и не меньше: помни, сосед, свое место, и на мое не зарься. Никто из стоявших лицом к буфетам не мог видеть, что такую позу приняли все без исключения, и каждый считал, что только он нашел такой способ оградить занятое им пространство. Но так вели себя все. Каждый будто опять стал младенцем, которого свивали до двух лет, пока ему срок не наступил гусей пасти.
Максимов все же бросил взгляд на проход между буфетами: как стояли, так и стоят. На мгновение ему стало жаль этих дураков: ведь со всей России в Москву съехались в надежде на удачу и счастье. Не потому ли и приехали, что тайком каждый верил в чудеса, которыми так богаты бабушкины сказки? И то сказать: бабушка и от пьяного отца спрячет, и от вечно брюхатой, злой матери защитит, и сахара кусок внучку припасет… Кому ж еще верить? И чего только они не рассказывали друг другу о подарках, которыми собрался одарить их царь-батюшка! (Видел его Максимов в коронацию четыре дня назад: плюгавец, прости, Господи, на белом коне, – а рядом кавалергарды верхом, богатыри, как на подбор). День и ночь за просто так простоять готовы, вместо того, чтобы, скажем, за то же время полтину, а то и рубль заработать, либо ремеслу поучиться, или грамоте. Тесно? Так это их опять в свивальники замотали. На то царь с царицей им и батюшка с матушкой.
Предчувствие никогда не обманывало Максимова, еще ни разу в жизни не обмануло. И сейчас оно говорило ему: быть беде. От черта крестом, от медведя пестом, а от дурака ничем не оборониться. И там, где дураков собралась такая прорва, дурь их сама по себе не уйдет. Видал Максимов, и не раз, задавленных – да хоть в любой почти крестный ход, али на встрече чудотворной, где сами же калеки, сирые и убогие давят друг дружку, потому что боли уже не чувствуют, – так их жизнь отделала!
В таких тяжких случаях Максимов привык искать что-нибудь отрадное, не то давно уже пропал бы, как многие, предавшиеся греху уныния. Да по совести, не многие, а все почти его ровесники, из которых мало кто и до тридцати доживал.
Нашел отраду Максимов и сейчас. Как ни заискивали перед ним артельщики, он все же был человек маленький, отвечал всего лишь за гостинцы, и больше ни за что. А вот начальству придется несладко. Хотя вины начальства перед Богом, может, и нет вовсе. Народ-то ошалел! Давно ли в деревнях своих с голоду пухли, а нынче в Москве каждый голодранец булки белые ест! Диво ли, что им большего захотелось?
Но, по правде сказать, многого в начальственных мыслях Максимов понять никак не мог. Разве что самим чином начальственным да богатством эта особость мечтательная и объяснялась. Вот он, маленький человек, знал, что с прошлой коронации народа в Москве стало вдвое больше. Он это каждый день собственной шкурой чувствовал. По тесноте на Мясницкой и гвалту базарному убеждался. По тому, как денег в Москве много стало, а товара дешевого не стало совсем.
Да и чугунок таких раньше не было, по которым народа приехать может видимо-невидимо, только помани. Не вдвое, а в двадцать раз больше прежнего – и всё за день-другой. Но этого начальство разве могло не знать? Почему же тогда буфетов не в двадцать раз больше поставили? И даже не в два? Поскупились? Почему вовсе не отменили угощенье, раз понятно (не может быть, чтоб одному ему, Максимову, это было понятно), что на всех не хватит, и что давиться из-за этого народ будет?
Что ж выходит? Знали, а все ж таки сделали, как сделали. Значит, так и надо. И не его мужицкого ума это дело – господские загадки разгадывать. Может, и над теми господа поважнее есть, да эти, ближние, того не знают. Не ведают, что их руками расправу учинить решили… Вот только зачем? Бог их знает… Только Максимов, мужик весьма грамотный, читал в книжках, как такие же вот благородные господа рубили, случалось, самодержцам своим головы… Ладно… Он, Максимов, с какого боку ни глянь, ни в чем не виноват. Ни перед царем, ни перед Богом!
Максимов уже твердо знал, что не было на свете силы, способной остановить беду. Оставалось лишь делать свое дело до конца. Но послушать начальство Максимов всегда был готов. Он знал, что начальство, если оно хотя бы раз до заката успело увидеть толпу, настроено сейчас примерно так же, как и толпа. Начальство тоже мечтает о чуде, только о своем. И поэтому хватается за соломинки, в том числе и за такие, как староста Чижовской биржевой артели. Максимов вздохнул, перекрестился и зашагал к царскому павильону.
* * *
Официант или, по-старому, половой, переставил с подноса на стол графин, тарелки и замер в выжидательной позе. Полковник Власовский жестом не то отпустил, не то прогнал его. На мгновение дверь открылась и послышался шум зала. Но вот снова наступила тишина.
В кабинете стало тесно и темно, как в чулане с ненужными вещами. С потолка отдельного кабинета спускалась лампа, а под ней был светлый круг размером ровно со стол – большего и не требовалось.
Власовский наполнил рюмку, поднял и, затаив дух, опрокинул коньяк в рот. Горячий поток хлынул в недра полковничьей плоти и, описав фигуру, похожую на перевернутый вопросительный знак, перешел в спокойный и торжественный прилив радости. Гримаса отвращения сошла с маленького, невзрачного личика Власовского. Полковник разгладил усы и вздохнул. Полегчало.
Из зала снова донеслись приглушенные звуки – запел хор; голос цыганки выступил соло и принялся точить вековечные свои слезы. Власовский отщипнул и кинул в рот виноградину, одобрительно покивал. Музыку он не любил, но полную тишину не любил еще больше, потому что от нее в ушах начинали не то что раздаваться, но как-то назойливо приходить на память звуки, обычные для минувшего дня, как и для дня грядущего, впрочем, тоже: стук копыт по булыжной мостовой, крики „Смирно!“, плач и крики арестованных, обворованных, избитых, стук телеграфа в секретарском кабинете, звон телефонных чашек, электрический зуммер, которым полковник вызывал запасного рядового Лукашева, своего камердинера, пьяный рев, но прежде всего – глухие голоса, сливавшихся в сплошное „Сволочь! Сволочь! Сволочь!“
Вслед за звуками в тишине начинали вспоминаться и запахи, ощущать которые наяву полковник почти разучился, как перестал он ощущать и вкус еды. Про звуки полковник никому на рассказывал, ибо понимал, что это дело политическое, – тем более, что звучать они в последнее время стали все громче, и к ним стал добавляться шум пронунциаменто – гул набата, противудинастические клики и ропот фабричных, – которого полковник наяву уж никогда не слыхал. Что же до запахов и вкуса, то врач как-то велел ему на пару недель отказаться от спиртного, соленого и острого. Но Власовский от своих привычек отступаться не торопился. Их и без того было немного: носиться по делам службы, сидеть в „Яре“ и спать. Обычно полковник спал не дома, а в рабочем кабинете, сидя за столом и не раздеваясь, по три-четыре часа в ночь. Время от времени он к тому же просыпался, чтобы полистать „паскудку“ – свою знаменитую записную книжку, в которой умещались ежедневно пополняемые досье на каждого полицейского, извозчика, дворника и домовладельца Москвы. Где ж еще, как не на службе, и можно было так долго и блестяще выдавать за добродетель свой порок, обычный равно и среди гениев, и среди прирожденных палачей, – ограниченную потребность во сне!
Нижнюю часть огромного, во всю стену, окна закрывали шторы, через верхнюю виднелось темневшее небо. Полковник покосился на луну, медленно тонувшую в черной туче, взял вилку с ножом и придвинул к себе блюдо, на котором только что перестал шипеть жир, отрезал кусок сочного, с кровью, мяса, налил еще коньяку и еще выпил, и вот теперь закусил. Власовский, наконец, разобрал слова песни, доносившейся из зала, и, продолжая жевать, замурлыкал:
– Матушка, матушка, что во поле пыльно…
– Странно, полковник, – раздался в темноте низкий, хорошо поставленный голос. – Сколько ваши песни ни слышал, вы одни только женские партии исполняете.
В светлый круг протянулась рука. Она взяла с тарелки Власовского метелку сельдерея и тут же исчезла.
– Опять ты? – буркнул полковник. Он хорошо знал этот голос и эту четкую, рассыпчатую речь. – Ну, что на этот раз?
Скрипнуло кресло. Собеседник поставил на стол локти, крутанул сельдереем и, наконец, показал лицо – темные и слегка раскосые живые глаза, улыбка одним уголком рта, залысины, расширяющие и без того крупный лоб.
– Нет, все же ответьте – сказал пришелец. Он откусил листок сельдерея, пожевал, поднял к потолку глаза, и произнес:
– Полезная дрянь, а все к ней не приучусь. Нафталином отдает. По мне так наша, русская петрушка лучше и здоровее.
Полковник привстал, кошачьим взмахом кисти вырвал из чужой руки сельдерей и положил его обратно на тарелку.
– Наглых не люблю, а ты, братец, наглый. Давай выкладывай, с чем пришел, да уходи подобру-поздорову… Надоел…И лицо твое надоело, и обхожденье.
– Александр Александрович, батюшка! Наглых они не любят! Уж чья бы собака рычала… Помните, на коронации московские обыватели с вашего ж дозволенья места на трибунах заранее занимали, а потом публике заграничной да приезжей их продавали? А вы деньги собрали, да публику и выгнали! Таких господ нарядных – и вместе с дамами взашей проводили! Помните? Крику-то было! Ругани двунадесятьязыковой! Слёз! Не помните… Забыли-с…
Полковник молча продолжал управляться с мясом.
– Стешины куплеты перепеваете – ну, да Бог вам судья, оно многим нравится, тем паче с коньяку. Не хотите ответствовать, так и ладно. Я вот тут намедни по Москве катался…
– Небось, еще социалистов наловили? – перебил его полковник. – Теперь мне тыкать пришел, что не наше ведомство?
– Сочтемся! – махнула белая рука, покрытая редкими, но длинными угольно-черными волосами. – Я о другом. Катался, говорю, намедни по Москве, на молодцев-городовых смотрел, что ваше превосходительство набрать и к службе приставить изволили. Диво дивное! Эк он, думаю, наш Питер-столицу умыл! Где ж, думаю, батюшка Александр Александрович столько гвардейцев взял? В Преображенском полку и то меньше будет! Все как на подбор усачи, грудь колесом, каждый с елку ростом! Лебеди-красавцы писаные!
Власовский перестал жевать.
– Нешто, думаю великому князю Сергею Александровичу потрафить решили? – продолжал незваный гость рассыпать свои зернистые „др-тр“. – С одной стороны, да. Но с другой-то, ваше превосходительство, с другой! Господин ведь обер-полицмейстер и сам песни поет, мужеской стати неподобающие, а при том не женат и никогда не был. А ведь неловко барану-то без ярочки, ха-ха-ха!
– У, сволочь! – прорычал Власовский.
– Зато немки бордельные в Риге, где мы прежде полицействовали, очень господином полковником недовольны остались. Один, говорят, такой только и был, что девицами не прельщался, а все серебром да златом бирывал. У нас государь, долгие ему лета… – пришелец поднял глаза к потолку и величаво, не торопясь, перекрестился – … сам божьей милостью государь-император по сию пору не знает, чем это господин полковник их высочеству так глянулся, что они их к себе в Москву взяли. Каждая блядь остзейская знает, а государь – нет! Воистину, скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным…
– Ах ты ж, сучонок! – крикнул Власовский.
Он пошарил на столе и, не найдя ничего лишнего, сорвал с груди салфетку и швырнул ее в Гостя. Тот исчез на миг, но сразу же вынырнул из темноты обратно, скаля жемчужные зубы.
– Экономия… Уморили-с, ха-ха! Экономия, господин полковник, – вот секрет примерного благочиния и благолепия стогнов святорусских! Это ж надо – такую статью расхода упразднить! Ха-ха-ха! Иной полицмейстер, чтоб содержанке последние платья из Парижа выписать, губернию по миру пустит! А московские купидоны городовые сами же в казну и приносят! По денежке, по целковому… Ан, и мостовые уже рублями мостим! То-то Москва из деревни в города вышла при господине нашем обер-полицмейстере…
– Подлец, подлец! – ёрзал Власовский.
– … да при светлой памяти градоначальнике Алексееве, упокой, Господи, душу раба твоего Николая! Даром, что тоже великанского образа был и красавец притом!
Полковник вдруг обмяк на своем стуле.
– Что, батюшка, свет Александр Александрович, встрепенулись? Жалко Колю?
Полковник молча смотрел в тарелку.
– А куда ж ваши лейб-павлины смотрели, когда изобретатель Василий Андрианов к Николаю Александровичу, градоначальнику, на прием пришел с револьвером? Сами, батюшка, куда смотрели?
– Темное это дело осталось – проговорил, наконец, Власовский.
– Осталось! – согласился Гость. – Тогда осталось. А когда Васю-дурачка в скорбном доме бездыханным нашли, только темнее стало.
Полковник поднял голову и с изумлением, даже испугом взглянул на Гостя.
– Да-да, господин исправляющий дела обер-полицмейстера. В Петербурге, в Преображенской больнице для умалишенных. А вы и не знали? Ну, так он всего два дня, как преставился. До него ли вам, батюшка, с московской-то беготней! Да, темна вода во облацех. Поди ж ты: три года прошло, больше даже, а вот надо было Господу его именно сейчас прибрать! С чего бы это, а? Умом слаб был, а телом куда как крепок. И вдруг нате, все с ног на голову перевернулось! Тело в прах – за неделю полысел, иссох, рассыпался. Зато ум до того окреп, что сотворил Василий Семенов Андрианов, мещанин Новохоперского уезда Воронежской губернии, покаянное письмо, в коем подробно описал причину, подвигнувшую его на убийство незабвенной памяти московского градоначальника.
– Помню я его причину – сквозь зубы произнес Власовский. – Денег на мотыгайку не дал. Ветровую, что ли?
– Воздушную-с, ха-ха-ха! Презанятную штуковину наш Вася-Василек выдумал, право же! Столь же, однако, занятную, сколь и дэ жюр-с. Под таким-то предлогом кто ж нынче не убивает? Но мы-то с вами, батенька, не суд присяжных, чтобы бредням верить. Вот я, например, не поверил. И расспросил господина Андрианова по новым способам.
Пришелец тихо засмеялся. Он снова взял с тарелки сельдерей и оторвал губами еще один листик вместе с жестким волокном, не сразу отделившимся от ствола.
– Читывал я когда-то сочинения маркиза де Сада, но тогда за сказки принял. Очень уж невероятно все казалось, а к тому же с „Тысяча и одной ночью“ в дедушкином шкапу они вместе стояли. Признаться, до последнего в сказочность их верил и надеялся. И жизнь моя эту надежду подкрепляла. Но Андрианов, батюшка! Андрианов! Глаза мне ваш убивец блаженный открыл, не меньше! Даром, что Москва блаженными всегда изобиловала, и цари их на людях слушались, хотя по ночам и резать посылали.
– Ну, и что он тебе открыл? – спросил Власовский.
– Пружину, Александр Александрович! – снова засмеялся Гость. – Да не ту, что он в мотыгайки свои вставлял, нет. Пружину, что в каждом человеке сидит и его в движение на самом-то деле и приводит, хотя он о ней ни малейшего представления не имеет. Вот что он открыл.
– Так-таки и пружину?
– Не „так-таки“, господин мой хороший в сапогах, – обиделся Гость. – Пружину я называю в роде иносказательном, даже улыбательном. Это ж мое изобретение, а не Андрианова. А его только рассказы были, подробные, со всеми словами, вскриками и рыданьями. Куда там маркизу! Эх, слушал его, слушал, и сокрушал свое сердце до пролития слез, что не ученого я звания. Что там Дарвин! Что телефон! Что Маркс! Тут таким открытием пахнет, что весь мир изменить может.
– Что ж за открытие?
– А нет ничего тайного, что не стало бы явным, и я к этому знанию ключ теперь имею – выложил пришелец. – Все о человеке по его повадкам сказать могу. По лицу, по голосу его, по манерам. Не характер, заметьте, назвать могу, а улики добыть. Конкретные и неопровержимые. Точную лужу без ошибки назову, в которой любой бог и герой гваздался, только пальцем покажи, и ни одной не пропущу. Я ведь, когда со Стеши начал, самый только краешек, самый уголок показал. А у вас вон, уже правое веко от страха моргнуть так и норовит, да все не дотянется.
– Бил ты его! Мучил! – шепотом прокричал Власовский.
– А вы никого не мучили, невинный вы полковник полицейский? А нигилисты лягушек не резали? Как же иначе знание добудешь? Как?!
– Грех убогих обижать, братец мой! – проговорил Власовский. Полковника бил озноб, о котором он и понятия прежде не имел, считая себя человеком без нервов (да и как было не поверить, когда все в глаза снизу вверх говорили, пожимая два полковничьих пальца).
– Чтоб грех вышел, надо, господин полковник, верить в убожество, то бишь святость. Я же не поверил. Я, знаете ли, сторонник просвещенья.
– От нечистого твое просвещенье. И сам ты от нечистого.
– От нечистого… Бертильонову мерку вам с меня снимать не приходилось, а на глазок это про каждого сказать можно. Да хоть и про ваше превосходительство. Андрианов как раз о том и толкует. И слово его последнее, потому как назад взять уже не сможет-с. Его слова только я взять назад могу. Взять и предать совершенному забвению…
Полковник молчал.
В зале заиграла скрипка и опять послышался одинокий голос цыганки. Теперь она была гораздо ближе. Верно, артисты ходили между столиков.
– Экой вы недогадливый, Александр Александрович! – вздохнул Гость.
– Чего надо? – проговорил, наконец, Власовский. – Денег? Дело какое прекратить? С Москвы кого выгнать?
– Денег не надо. А надо, чтобы рвение свое служебное умерили – объяснил пришелец. – Всего-то на день, даже меньше.
– Точнее давай – прошептал Власовский.
– Делайте по службе, что должны делать, и не больше – сказал Гость. – Но и меньше тоже не делайте. Это все, о чем мы вас просим. Время нашей просьбы начинается немедленно, а заканчивается завтра в полдень, во время народного праздника. То бишь с началом молебна на Ходынском поле. После молебна, как известно, последуют бесплатная выдача пива и представления. С начала молебна вы свободны от нас навсегда. Соглашайтесь! Пусть и для вас тоже праздник будет. Меньше суток осталось.
– Навсегда свободен? – измученно усмехнулся Власовский.
– Подчеркиваю особо, господин, полковник: навсегда. Мы, как вам известно, свои обещания выполняем неукоснительно, и по форме, и по духу. Вы знаете, почему мы позволяем себе такую роскошь.
– Закон вам не писан, вот и позволяете – проговорил Власовский.
– Закон изустный – тоже закон – сказал Гость. – Только блюдут его крепче писаного. Ибо справедливость выше закона, милость выше справедливости, любовь выше милости, а охранение государственной безопасности выше любви.
Он подошел к окну и раздвинул тяжелые шторы.
Петербургское шоссе проходило под окнами ресторана, разделяя Петровский парк и Ходынское поле. Именно в этом месте бесконечный людской поток, сгущавшийся в глубинах Москвы, начинал терять силу. До буфетов и площади гулянья отсюда уже было рукой подать. Достигнув этого места, люди будто успокаивались – расходились по полю, садились на землю, или, если они приезжали издалека, выпрягали из телег и стреноживали лошадей, раскладывали костры для чая. Из окон ресторана поле с его бесчисленными кострами могло бы показаться отражением звездного неба, если бы майская ночь не была такой светлой. Солнце, давно уже севшее за Всесвятской рощей, оставило белое зарево на краю небосклона, и было ясно, что темнее здесь не станет.