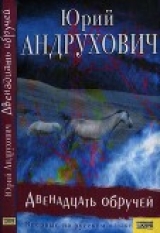
Текст книги "Двенадцать обручей"
Автор книги: Юрий Андрухович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Бравурные уверения врачей в том, что все идет к лучшему, уже на следующий день уступили место неприкрыто паническим заявлениям о внезапном ухудшении ситуации. Театр почти молниеносно отреагировал на это новым поворотом мысли: да, операция на слепой кишке была действительно успешной, здоровье поэта неуклонно улучшалось, однако тут его изнуренному организму выпало новое испытание – воспаление легких. О том, что это не совсем типичная для начала июля болезнь, авторы фальсификации не слишком беспокоились. Как все посредственные беллетристы и вруны, они вынуждены были дополнять и развивать сюжет разнообразными побочными оправдательными обстоятельствами, на скорую руку замусоривая его и без того не слишком стройную конструкцию. Отсюда же – идея больничных сквозняков, на которых, мол, поэту судилось лежать несколько дней, что и вызвало осложнение. При этом резко запротестовали их сообщники-врачи: образ вечного сквозняка, гуляющего не только по коридорам, но и по палатам клиники, никак не совпадал с представлениями о добросовестности и стерильности персонала. Выдумщики вынуждены были додумывать дальше: нет, условия лечения вполне отменны, но всем ведь известно, насколько этот Антоныч болезненное и чахлое существо – как панически боится он именно сквозняка, пусть и самого незначительного, во Львове знали даже воробьи. Именно тогда появляются известные свидетельства о хронических простудах Антоныча, насморках и сердечных недостаточностях – что явно должно было стать вершиной сотворения образа – о его привычке перевязывать полотенцем измученную мигренями голову. И вся эта, лишенная любого элементарного смысла, суета над телом умирающего поэта должна была служить крайне важному, по мнению ее участников, делу спасения его моральности.
Антоныч оставался один в своем умирании, по высшему счету уже недостижимый для всех на свете спасателей. Ни одно из их тщетных усилий не могло вернуть его туда, где он чувствовал себя мимолетным гостем, понимая, что его настоящий дом не здесь. За несколько лет до того, в стихотворении под ироничным названием «Ars Poetica», он предвидел и эти свои последние часы, написав «а ты останешься один – и все забудешь». Забыть прежде всего о тех, что так старательно привязывали его к земле, суетливо и небрежно пытаясь опутать и приручить.
Его смерть настала в ночь с 6 на 7 июля. Кто-то увидел в этом очередную проделку разнузданных знаков – танец леса и купальских огней вокруг последнего ложа, приглашение в бурлящую круговерть зеленого. Зеленое пришло за ним, чтобы забрать и растворить в себе.
В действительности там была шестичасовая агония, за рубежи которой нам все равно не заглянуть, ибо мы можем судить лишь о самых нижних ступенях этой метаморфозы, связанных с вещами вполне физиологическими, такими как кровообращение, сердце, мозг, почки и начало разложения.
На следующий день его отвезли домой на Городоцкую, где силами театра была устроена вся соответствующая таким событиям и сурово отцензурированная процедура. Добрая половина присутствующих так и не могла осознать, что это действительно произошло. Некоторые из них приходили прощаться, уверенные в том, что здесь совершается очередной перформанс – возможно, и дурацкий, но тем не менее весьма типичный для этого жертвенного шутника. Казалось, через миг он просто встанет в гробу и начнет читать свои лучшие, обязательно ямбические строфы, а потом поведет всех в «Вавилонскую Святую» или еще куда – отгулять свой день рождения номер два. Он так и лежал – одетый в черное с белым, то есть празднично, с легким макияжем, немного искусственный в своем овосковении, но все это всегда пребывало в его арсенале, все эти фокусы с гримом, переодеваниями и пантомимами. Вот только присутствие близкой и далекой родни, приглушенные до полушепота разговоры, деловитые манипуляции с венками, свечами, бумажечками и ритуалами, а сверх того оцепеневшая в дальней комнате тетушка (с того дня и до самой смерти она уже не промолвит ни слова) убеждали в том, что это произошло на самом деле, ибо ни одна забава не могла зайти уж настолько далеко.
Его похороны сопровождались кое-какими странными явлениями. Так, Оксана Керч вспоминает о долгих и безрезультатных поисках Ольгою Олийнык его последних рукописей. Невеста помнила, что Антоныч недавно работал одновременно над двумя сборниками, первый из которых – «Зеленое Евангелие» – фактически завершил, второй же – «Ротации» – был готов где-то чуть больше, чем на треть. Но она ничего не могла найти! Неоднократное и все более нетерпеливое перетряхивание шкатулок и шкафов подбрасывало ей лишь всяческую ерунду в виде старых счетов, газетных реклам и, что обиднее всего, множества откровенных фотоснимков с уличными красавицами. Кусая губы и чуть не плача, Оля готова была поверить, что никаких рукописей просто не существовало, а все, что он время от времени порывался ей прочесть, озираясь на чуткие уши присутствующих рядом надзирательниц, было фикцией и сном. За час до выноса тела она внезапно покорилась внутреннему зову (тень тюльпана? шелест савана? полет шмеля?) и порывисто кинулась к его письменному столу (тому самому, расшатанному, по словам Ласовского), где на самом видном месте, педантично сложенные страница к странице, лежали обе рукописи, оконченная и неоконченная. Как они там очутились? Ведь она тысячу раз смотрела на этот стол раньше и их там не было! «Это он, – говорила она Оксане Керч, – это кто-то, кого он оставил вместо себя, только что положил на стол его рукописи».
Другую странность вспоминает поэт Гаврилюк. По дороге к Яновскому кладбищу, куда он двигался не в общей процессии, а по пешеходному тротуару, постоянно делая заходы во встречные заведения, чтобы укрепиться очередной чарочкой, ему несколько раз мерещилась фигура Богдана – если не в людской толпе, то в подворотне, а раз даже во главе процессии – так, будто старый приятель и вправду вел их куда-то за собой. «С того дня я начал думать о наших отражениях, – записал Гаврилюк через несколько месяцев (sic!) в дневнике, – и когда, перечитывая со временем его „Три перстня“, я наткнулся на строчки „и вновь с портрета, с тусклых рам // рисованный на полотне // ко мне взывает мой двойник“, я понял, что нет ничего реальнее поэзии».
Его скрипку решили похоронить вместе с ним, чтобы таким образом, по идее распорядителей похорон, ответить на его пятилетней давности слова «Господь кладет меня в футляр, подобно скрипке». Таким образом, ее вместе со смычком действительно уложили в футляр – немало свидетелей наблюдали за этим ритуальным жестом – а потом и в гроб. Как могла эта скрипка снова оказаться в квартире на Городоцкой, когда заплаканное и убитое горем общество вернулось с кладбища на поминальный чаёк? Неужели похоронили только пустой футляр?
Эти и другие необъяснимые вещи, посеянные в самую благоприятную почву львовского середовища, не могли не получить развития. В ходе ближайших месяцев и лет городом снова и снова овладевали истории о виденном Антоныче. Он являлся, как правило, в человеческой толпе и в ней же растворялся при первом приближении. Говорили чаще про спину, кое-кому удавалось уловить мгновенный полуоборот головы, но после того все таяло. Только один раз Святослав Гординский увидел его не среди толпы, а в одиночестве, впрочем, с расстояния не менее трехсот шагов – он стоял на холме у леса, чуть выше Подголоско[77], надвинув на глаза свою шляпу и зябко сутулился, держа руки в карманах застегнутого на все пуговицы пиджака. День был мглистый и промозглый, кажется, 13 марта. Постояв какое-то время неподвижно, он вынул руки из карманов и несколько раз взмахнул ими, будто крыльями. Написавший об этом Гординский уверяет, что этот жест мог быть адресован лишь ему, единственному в той ситуации зрителю. Невольно ему захотелось позвать снизу этого несомненного Антоныча, когда тот развернулся и какой-то поистине невесомой походкой двинулся к лесу, где исчез среди стволов, хлопьев тумана и посеревшего снега на ветвях.
Разговоры о нем постепенно угасли только под конец тридцать девятого, когда новая власть начала решительно выбивать из голов местного общества всяческие метафизические глупости, а многие из тех, кто знал его лично, просто навсегда покинули Львов, как в западном, так и, к сожалению, в восточном направлениях. Общественный театр был развален почти до основания – оставались разрозненные блуждающие по миру обломки, которые так и не нашли в себе сил для нового полнокровного возрождения. Дальнейшие годы с их военными и репрессивными кошмарами тоже не способствовали его возвращению – хотя бы в воспоминаниях или видениях. Был, правда, издан в Кракове сборник стихов, но в нем почтенный составитель, профессор литературы ограничился только текстами. Еще позже, во времена бездумного уничтожения исторической памяти, бригады анонимов в куфайках взялись переоборудовать Яновское кладбище – тогда и сравняли с землей его могилу, одну из сотен нежелательных.
Поэтому, когда в начале 60-х нечаемое товарищество его новых двадцатилетних адептов, руководствуясь кладбищенскими книгами и надписями на уцелевших надгробиях, определяет место его захоронения и сооружает там для него новое надгробие, никто из них уже даже не догадывается, что тем самым они поступают наперекор утраченной легенде о том, будто на самом деле он не умер, а жил во Львове все эти годы, будто бы он и дальше где-то в нем живет и однажды эта тайна будет обнародована.
7
Еще до полудня в тот же день, а возможно, уже и на следующий, вся компания все-таки собралась на завтрак в большей столовой. Большей была та, что располагалась в северо-восточном крыле пансионата, на втором этаже, с видом из окна на полонину; та, где на стенах фламандские натюрморты, оленьи рога и тарелки разнообразного вида и предназначения – от керамических до медных, памяти неизвестного духового оркестра.
Пожалуй, стоит уточнить, кто из них где сидел. Значит так: во главе прямоугольного стола засел, ясное дело, достопочтенный профессор Доктор, а напротив него почему-то видеомейкер Ярчик. По левую руку от профессора (соответственно по правую от Волшебника) сидело в полном составе семейство: пани Рома, Артур Пепа и их дочь Коломея. По правую профессорскую руку – все прочие, то есть Карл-Йозеф Цумбруннен (напротив пани Ромы, так уж получилось), а также Лиля Черная и Марлена Белая.
Были там еще два типа из персонала – разумеется, коротко подстриженные, оба в черных гольфах и с мобильняками на поясах. Ими мы можем вообще-то пренебречь, поскольку они только то и делали, что по очереди молча выносили из кухни всяческие тарелки с кушаньями, кофе и чай, а потом исчезали с подносами использованной посуды.
Хозяина, как всегда, не было, однако это уже никого из присутствующих не удивляло. Кто-то из них, правда, один раз проявил ленивый интерес к этому вопросу, но ответ молчаливого слуги прозвучал совершенно исчерпывающе: «Они еще будут». На том тему и сняли.
Молчаливую атмосферу дома невольно усвоили все гости. Карл-Йозеф, которому охоту говорить о чем бы то ни было отбивал языковой барьер, ловил взгляды пани Ромы и незаметно для всех трепетал, принимая от своей визави очередную тарелку или салатницу, касаясь на мгновенье ее ладони, запястья, рукава. Довольно уверенная в себе и оттого невыразимо сексуальная, с еще мокрыми после ванны волосами пани Рома заодно исполняла свою работу переводчицы, всякий раз объявляя специально для Цумбруннена «Wurst!» или «Käse!», или «Frühlingssalat!»[78] – будто он сам их не видел. Опередившая свою лучшую подругу Лиля первой умостилась рядом с иностранным фотографом и теперь напряженно думала, как бы приступить к его соблазнению. Марлена не думала ни о чем, зато потихоньку радовалась, что у подруги ни фига с этим соблазнением не выходит. Коля, исподтишка наблюдая за ними, язвительно критиковала в мыслях их ужасный макияж. Но вскоре ей надоело, и она ушла так глубоко в себя, как это только могут делать девочки ее возраста. Режиссер Волшебник много ел. Артур Пепа сосредоточенно скрывал свою нетрезвость, отчего выглядел весьма ироничным, но его нож, словно нарочно, всякий раз соскальзывал со шляпки маринованного гриба и неприятно скрежетал по тарелке, заставляя пани Рому бросать косые раздраженные взгляды. Один лишь профессор Доктор, ласково улыбаясь, иногда нарушал эту немногословную трапезу размышлениями вслух такого рода:
– Прошу уважаемое общество обратить внимание на присутствующие здесь предметы. Какая удивительная и целостная изысканность! Да, еще у наших дедушек и бабушек был «дом», был «колодец» знакомая им башня, наконец, их собственная (он произносил «суопстенная», но почти все понимали, что «собственная») одежда, их пальто. Едва ли не любая вещь служила посудой, из которой они брали человечье и в которую складывали человечье про запас. И вот из Америки вторгаются к нам пустые, равнодушные вещи, вещи-призраки, бутафория жизни. Восуществленные, пережитые нами вещи, вещи – наши сообщники – сходят на нет, и ничем невозможно их заменить. Мы, возможно, последние, кто еще знал такие вещи.
Или:
– Неслучайным в этом смысле выглядит обращение Ницше к образу праиранского пророка Заратустры. Творческие индивидуальности Редьярда Киплинга и Джозефа Конрада породили целый всплеск так называемой «экзотической культуры» в Великобритании. Совершенно особую разновидность символистской экзотики явил нам выдающийся ибероамериканский поэт Рубен Дарио, чье творчество является прихотливым переплетением античных, средневековых и аборигенских, то есть индейских и афроамериканских мотивов.
Или внезапно:
– Богдан-Игорь Антоныч – и это совершенно ясно – также не мог оставаться в стороне от этих симптоматичных для его времени поисков. Когда читаешь некоторые его строки, в воображении невольно предстают старинные морские карты, где из глубин и волн океанских просторов показываются отвратительные химерические создания, ужасные монстры и уроды, ехидны, драконы, «морские епископы» – весь тот водяной бестиарий, служащий прологом не только для фантазмов сюрреалистической живописи его современников, но также для запатентованной со временем в Голливуде кинопродукции ужасов.
– Вобще пиздец, – неожиданно отреагировал на это Пепа, фыркнув над своей тарелкой.
– Уже успел? – осуждающе покосилась на него пани Рома, которой сделалось жуть как неудобно за мужа.
– Успел? – переспросил ее разоблаченный Артур. – Что ты имеешь в виду, ласточка?
– Нализаться с утра, – пояснила пани Рома, которую сравнение ее с ласточкой вовсе не переубедило, а скорее обеспокоило.
– Да нет, что ты, я еще тут не лизал никого, – со всею, как ему казалось, гамлетовской ироничностью заявил Пепа и подмигнул Лиле – так уж вышло, что она сидела напротив.
Лиля не смутилась, подумав, что этот мужчинка тоже так ничо.
– Вы совершенно правы, – улыбаясь теперь уж персонально Пепе, заговорил профессор, – когда опровергаете мой предыдущий тезис. Я нарочно прибегнул к нему как к своего рода интеллектуальной провокации. Ваша реакция – именно то, чего мне недоставало для радикализации нашей дискуссии. Но разве возможно отрицать тот факт, что Антоныч удивительно часто оперирует океаническими образами?
– Да никто и не отрицал, пан профессор, – насколько сумел иронично отбился Пепа. – Вы, наверное, сестры? – спросил он одновременно и Лилю, и Марлену.
– Banusch, – несколько громче обычного объявила пани Рома, – ist eine typisch huzulische Speise, eine Spezialität sozusagen, etwas wie italienische Polenta…[79]
– Гаварит па-испански, – прокомментировал Пепа гнусаво.
– Я знаю бануш, – поспешил уверить Карл-Йозеф, которому иногда удавались некоторые фразы на украинском.
– Сестры? – переспросила Лиля.
– Типа того, – согласилась Марлена.
Пепа поймал ее за руку, которую она как раз протянула над столом к кофейнику, и, присвистнув, воскликнул, почти что икнул:
– Вот это ногти! Зачем тебе такие черные ногти, ласточка?
– Артур! – властно прикрикнула его жена, рукавом льняной сорочки сбивая стакан из-под сока, на этот раз пустой.
– Артур? – переспросил Пепа, а потом согласился: – Да, я Артур. Я уже тридцать семь лет как Артур.
«Уже старый, а еще ничо», – подумали одновременно и Лиля, и Марлена, причем второй удалось выдернуть руку.
– Не обращайте внимание, – холодно сказала ей пани Рома вместо приличествующего подобной ситуации извинения.
– Внимания, – поправил ее Пепа. – Родительный падеж – внимания. Винительный – шею. Не выворачивайте шею. Симпатичные девочки, правда же?
Пани Рома сделала вид, что вопрос не к ней и шумно начала выбираться из-за стола. И правда – сколько можно завтракать? Она подошла к окну, за которым в тот на редкость прозрачный день виднелась немалая часть горной страны и покрытые снегом вершины на украинской стороне.
Обе подружки понимающе переглянулись, а профессор Доктор оказался тут как тут.
– Это прекрасно, что вы так внимательны к слову, пан Пепа, – восторженно промолвил он. – Это выдает в вашей персоне неординарного поэта. Помните у Антоныча: «Слова отточенно-простые, // как лезвия, скрещу с громами»?
– Что вы, что вы, сударь, – скромно не принял Пепа его похвалы. – Куда уж там! С какими громами? Хотя сами по себе скрещивания меня иногда интересуют, должен признаться…
Но на этот раз ему не удалось поймать ни Лилиного, ни Марлениного взглядов: поняв, что этот вмазанный чудак всего лишь поэт, они мысленно выговорили в унисон «свабоден». Поэтов их заставляли выучивать наизусть в школе, и то было не по кайфу. «Ну и пошли вы, кобылы, в трещину, рагулихи дурные», – подумал в ответ Пепа и закурил совершенно брутальную «прилуцкую»[80], надеясь на еще большее обалдение или, иными словами, расширение сознания.
Карл-Йозеф смотрел в сторону окна, потому что сильнее всего ему хотелось подойти к Роме и увидеть что-то такое, что может видеть только она.
– Es ist heute so unglaublich sonnig, dass wir dort auf der Terasse sitzen konnten[81], – провозгласила пани Рома, не думая о последствиях.
Но слово Terasse расслышали и все прочие. У Лили и Марлены оно легко ассоциировалось с их фантастически открытыми купальниками. Артур Пепа подумал, что неплохо бы завалиться в шезлонг и дососать половину припрятанной под ванной ореховки прямо из бутылки. Коля еле удержалась, чтобы не сказать вслух: «Четвертый обруч – это объятья теплого ветра, кружение энергий». А Ярчик Волшебник, профессионал, сделав себе седьмой большой бутерброд с холодной телятиной, сыром, кружочками помидоров, листьями салата, майонезом, сардинами и кетчупом, спросил вдруг профессора Доктора:
– А вы… это самое… говорили, что смотрите продукцию Голливуда?.. У меня тут есть кассета с моим… ну, новым клипом. Про этого вашего… «Старый Антоныч» называется… Посмотрим?
– Я всего лишь сказал, что каждая картина должна быть отражением глубокого чувства, – с доброжелательной улыбкой ответил ему профессор, – а «глубокое» означает «удивительное», тогда как «удивительное» означает «неведомое» и «незнаемое». Для того чтобы произведение искусства стало бессмертным, необходимо, чтобы оно вышло за границы человеческого.
– Ага, – кивнул режиссер, – это правильно. А вы, пан Артур? Мне ваше мнение тоже… ну это самое…
– Обращайся ко мне на ты, старик, – позволил ему Пепа.
А потом все снова умолкли, даже профессор Доктор – видимо, чтобы не раздражать суровых типов из персонала, не отвлекать их от размеренно-отстраненного убирания со стола всего, что полчаса назад еще могло называться завтраком.
На экране огромного плоского «Телефункена» мелькали черно-белые, главным образом под коричневую сепию, кадры, которые должны были бы ассоциироваться сразу с несколькими популярными стилистиками, прежде всего с ретро и андеграундом. Сам по себе этот технический выверт никакой новацией не был, ведь им уже успели донельзя попользоваться целые легионы киноделов – начиная с Бергмана и Тарковского и вплоть до недавнего «Мулен Ружа». Новым было то, что все это творилось во Львове: каждая секунда являла какой-то новый кадр с очередным закоулком, старым двором, мусорником, подвальным лабиринтом; однажды резко наклонилась, почти упав на зрителей, ратуша с трубачом, в другой раз – разлетелась в щепки взорванная Пороховая башня, потом какой-то дельтапланерист сломя голову падал на промышленные руины Подзамче, а его искусственные крылья отрывались и осыпались по частям, ударяясь о фабричные трубы и скелеты кранов. Это следовало понимать как знаки: дух катастрофы царил в этом мире, привкус апокалипсиса и конец концов.
Видеоапоклип Ярчика Волшебника был снят к песне «Старый Антоныч» в исполнении группы «Королевская Крольчиха»[82] – хита местного значения с налетом типично львовской индепендизации на грани всех возможных в последнее время музыкальных трендов и течений. Поэтому на экране в основном мелькали сами музыканты, предводительствуемые каким-то двуполым фронтменом с терново-пластмассовым венком на голове; музыканты появлялись то с инструментами, то без, то в ободранных комнатах какой-то покинутой виллы, то на ступенях разрушенного костела, то под расписанной англоязычными ругательствами средневековой стеной. И пели они примерно такое:
старик антоныч до сих пор живет
раб аритмии глух на оба уха
имеет джез и много-много пьет
его любофффь сладка что твоя шлюха
После этого шестнадцать раз повторялся рефрен всего из двух слов – «старый антоныч!». На экране целовались всяческие уроды, запудренные добела шлюхи толпами втискивались в неведомые затемненные лимузины, пенилось шампанское, кто-то ширялся на кафельном заплеванном полу общественного туалета, раз промелькнул фасад «Гранд Отеля» с немыслимыми трещинами и лианами, ватага бомжей танцевала вокруг костра перед Оперой. Этот кадр особенно развеселил Артура Пепу, который как раз в паузе между завтраком и просмотром приложился к бутылке с ореховкой и теперь энергично топал ногами в такт музыке, улавливая только отдельные слова о том, как:
старик антоныч шастает в ночи
из бара в бар но зенок не смыкает
лет триста кряду совы и сычи
над ним летают кто его не знает
Получалось, что там и вправду был как бы Антоныч – какой-то долговязый старикан в шляпе и плаще, с сережками в ушах, этакий урбанистический фантом; он бродил по городу, открывая ногою двери подвальных забегаловок и погружаясь в их пекло, словно исполнял свой собственный патрульный обход («а этот актер, как его фамилия?» – вполголоса спросила пани Рома, исполняя просьбу Карла-Йозефа), а потом он занимался любовью, не снимая шляпы и даже плаща, с какой-то полумертвой татуированной красоткой, и вокруг нее вился титр «MY NAME IS FANNIE – I’M REALLY FUNNY»[83]; сравнительно интересной находкой остроумного Волшебника можно было считать отдельные вкрапления цвета в общую черно-белую грязную картину; так, когда Антоныч пил из высокого бокала вино, эта жидкость была красной; так же красно текла она по пищеводу его прозрачной любовницы; были еще желтые цветы на задымленной куче мусора под чьим-то задрапированным памятником; была там также золотистая звездная пыль, сыпавшаяся на темный город, словно снег, но это началось позже, когда одинокий уже Антоныч исчезал в лунном луче («вы его все равно не знаете, это любитель» – так же вполголоса ответил клипмейкер).
Тем временем акция подходила к завершению – отовсюду прибывали потоки подземной воды, город со всеми его грешниками и грешницами погружался в черные глубины, в пене вод кружились мертвые птицы, кондомы, шприцы, старые граммофонные пластинки; оставались только музыканты на сцене вымершего то ли клуба, то ли оперного театра, фронтмен сдирал с головы и в отчаянье швырял в воду свой временный венок, камера стремительно отдалялась, создавая вполне метафизическую пространственную перспективу с малюсенькой точкой сцены над всемирным потопом; последние слова были пропеты в сплошной темноте под глухой виолончельный аккомпанемент – как будто из полузатопленного помещения или с испорченной временем магнитной ленты:
старик антоныч бороздит валы
святого града проклятого места
и девочки его еще малы
и смерть его еще глядит на месяц
Пришел конец. Все присутствовавшие на просмотре вздохнули с облегчением. Артур Пепа не мог не заговорить первым, ведь у него первого зачесался язык, поэтому он сказал:
– Знаешь, Ярик, все было бы прекрасно, если б не последняя рифма. Ну что это за «места – месяц»? Куда лучше прозвучало бы «сиська – писька»…
Но вместо гомерического хохота всей компании, на каковой был его расчет, он получил лишь замечание от Ромы: «Весьма остроумно!»
– Тут на кассете есть еще… это самое… кой-какие разъяснения, ну… как бы комментарий, – ответил ему Волшебник и, немного прокрутив пленку, остановил на сюжете, где он лично, развалившись в кресле посреди студии, рассказывал какой-то телевизионной аудитории о своем замысле.
– …ищо другое. Я несколько лет шел к этой работе, – говорил экранный двойник Ярчика, благодаря тщательному телевизионному монтажу лишенный всех своих «это самое» и «ну». – Меня притягивала какая-то такая универсальная история о вечно живом идоле, например поэте. Сейчас нашей работой уже интересуются продюсеры с энтэвэ и эмтиви. Я очень рад, что «Королевская Крольчиха»… Как бы это сказать (тут безвестные монтажники позволили себе расслабиться)… Нашла для меня этот образ.
Тут на экране возник фронтмен «Королевской Крольчихи». Он оказался девушкой с бутылкой пива и сигаретой в руке. Ее отсняли где-то в старом городе, на фоне той самой размалеванной английскими словами стены.
– Нас всех в детстве пугали старым Антонычем, – рассказывала она, перебивая саму себя частыми затяжками и глотками. – Помню, мои родители, решив, что я веду себя неприлично, обычно говорили: «Вот придет старый Антоныч и заберет тебя к себе в темный подвал». Будто бы когда-то в нашем городе такого человека похоронили, а он потом всюду появлялся. Эту историю знали в каждой семье. Он жил по каким-то подвалам, собирал пустые бутылки, макулатуру там всякую и ходил в таком длинном плаще. И говорил на таком довоенном языке, со всеми теми фишками. Я иногда в самом деле боялась его, а иногда не очень. Однажды я рисовала на песке около нашего дома секретные знаки, я их сама придумывала, а потом уничтожала, ну то есть стирала с песка. Я нарисовала один такой знак и уже хотела его стереть, но тут почувствовала, что надо мною кто-то стоит. Это был он, человек в длинном плаще. Я сначала испугалась, потому что он сказал: «Вот, сиим знаком ты вызвала меня. Чего тебе надобно?» Тогда я стала сильно извиняться, молоть всякую фигню, мол, я случайно, ничего не знала и тэ дэ, а он вздохнул и пошел себе дальше. Теперь мне кажется, это все мне приснилось. Но все равно не могу его забыть. Название нашего второго альбо…
На этом запись оборвалась, экран заполнился серо-белой шипящей массой, но все остались на местах – отчасти потому, что пани Рома все еще переводила Цумбруннену через пятое на десятое содержание только что рассказанной истории. Хотя история для него и не имела значения – главное, она, Рома, обращалась к нему. И этого было довольно.
«Интересная коза, – подумал Артур Пепа о девушке с пивом. – Не моргнула и глазом. Надо бы как-нибудь…» – он поленился фантазировать дальше, как они будут знакомиться, курить и пьянствовать, говорить о поэзии, музыке, мистике, сексе и так далее – да ну ее, неинтересно.
– Ну, это, как оно… вам как, пан профессор? – напомнил о себе Волшебник, выколупывая кассету из плеера.
– На мой скромный взгляд, именно тут мы имеем в общем тактичное проникновение в мир архетипов, – с удовольствием заговорил Доктор, отчего Волшебник сразу пожалел о том, что зацепил его. – Именно из них согласно Юнгу состоит содержимое так называемого коллективного бессознательного. Их непосредственный вид, поражающий нас в сновидениях и кошмарах, несет много индивидуального, непонятного и даже наивного. Архетип являет собой, в сущности, бессознательное содержание, которое заменяется в процессе его становления сознательным и чувственным, и притом в духе того индивидуального сознания, в котором он проявляется.
– Очень вам благодарен, – затряс кудлатой головой Волшебник.
– Этот удивительный лунный любовник, – не унимался профессор, – этот таинственный незнакомец в плаще является безусловным архетипом, постоянно присутствующим на грани бессознательного и сознательного в фантазийном мире каждой полурасцветшей женственностью девочки, как раз оказавшейся на этапе своего индивидуального трепетного ожидания.
Последние слова профессор Доктор промолвил, скользнув улыбчивым взглядом по, как всегда, предельно открытым ногам Коломеи и остановив его на ее слегка вспыхнувшем лице. И на этот раз не выдержала она.
– Не лучше ли продолжить на террасе? – энергично спросила пани Рома, которой что-то во всем этом не понравилось.
Но на террасе никто и ничего уже не продолжил – всех разморила та непреодолимая и безбрежная лень, что одолевает только под весенним солнцем. Отсюда – сползание в сон и осоловение, сонливая размягченность душ и тел, блаженно-нирванное зависание, которое, начинаясь где-то в тончайших структурах костей, овладевает всеми без исключения тканями, замедляет кровь и сердце, но зато мобилизует рецепторы – чувствительностью кожи и ноздрей мы уподобляемся теплым животным: так много касаний и запахов, и ни одному из них нет названия!
Что вообще творилось с погодой? Почему это место, известное главным образом своими циклонами, неустанно-пронзительными ветрами, борьбой стихий и атмосферных фронтов, сегодня было таким нагретым, ясным, смирным и прозрачным? Почему температура воздуха достигала на солнце двадцати двух? Почему ветер был не ветром в полонинском смысле этого слова, а – одним лишь отечественным поэтам дается это сверх всякой меры красивое слово – леготом[84]? Почему все вокруг – и скалистые зазубрины хребта, и белые вершины двухтысячников, и каменистые недеи[85] – было таким выразительным, очерченным и исключительно хорошо видимым? Почему изо всех возможных звучаний и перезвонов, сложенных на дно этой тишины, осталось только гармоничное стекание и капель тающей воды? И ни единого птичьего крика? Как такое могло случиться? Как могло случиться, что даже профессор Доктор не промолвил вслух: «Тишина – это язык, на котором говорит с человеком Бог»?
Как бы там ни было, но длиться вечно такое не могло. Молчание мира нарушило увесистое сбегание по ступеням отпущенного на свободу мужского тела – явился Артур Пепа с большой шахматной доской в руках.








