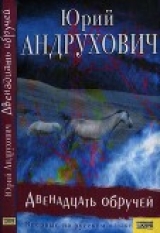
Текст книги "Двенадцать обручей"
Автор книги: Юрий Андрухович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
– Ты сильно храпишь, – сказала пани Рома, тронув его плечо. – Ты всегда храпишь, когда засыпаешь на спине.
Она уже была в своей фланелевой пуленепробиваемой пижаме и как раз собиралась лечь рядом, на неизведанную Пепой часть постели.
– Ага, так вы пришли? – уразумел ее муж обстоятельство времени и места. – Бутылка есть?
– Никакой бутылки, спи, – отрезала Рома, ибо меньше всего ей хотелось рассказывать этому дурню, как тот дурень открыл на нее пасть посреди леса и как она, обиженная, пошла от него назад, пускай теперь блудит хоть до утра по бедным селам, кто там ему среди ночи хоть что продаст.
Но Дурень Первый на диво смирно принял эту весть: обрадовавшись случаю, он заторопился к известному только ему и нам дереву, порывисто перелистывая все промежуточные страницы меж явью и сном (коридор, лестничная коробка, что дальше?), но так и не отыскал необходимой ему главы.
Зато попал в хвост какой-то краеведческой экскурсии, состоявшей из нескольких десятков людей, большей частью Пепе не знакомых. Они заполнили весь вестибюль, группируясь около стендов со всяческими древними фотками, кременевыми пистолями, шляпами, с разных сторон рассматривая ткацкие станки, прялки и макеты доменных печей. Пепа уже давно хотел спросить кого-нибудь из них: «А где тут черешня, дерево такое?» – но все не решался: что-то, видимо, удерживало его – то ли плохая акустика помещения, где звуки словно вязли в пустоте, теряя всякую выразительность, то ли опять это лунное размытое освещение, которого и тут хватало («Мы ведь на Луне!» – догадался Пепа). Не теряя надежды на возможный шанс, Пепа вынужденно двигался следом за всеми, попутно узнавая из экспозиции всевозможные ранее плохо известные ему подробности, касающиеся истории карпатского лесосплава, особенностей местного овцеводства, гончарства и янычарства, о дако-фракийских корнях в названиях большинства здешних оронимов («Дзын-н-н-дзул» – смачно промолвил Пепа одно из таких названий), о методах, с помощью которых преследовали мольфаров и ведьм польско-иезуитские клерикалы и советско-большевистские карательные органы, о связанных с этим демографических, межконфессиональных и гигиенических неурядицах; напоследок Пепа узнал, что буковые орешки славятся особенным влиянием на животные и людские организмы, близким к наркотическому. В целом было интересно.
Правда, бросалась в глаза некоторая хаотичность, а то и путаница в подаче материала. Скажем, стенд с названием «Динамика добычи нефти на Чертопольщине. 1939–1985 гг.» представлял палеолитическую стоянку первобытных людей; под вывеской «Принудительная коллективизация края в поздние 40-е и ранние 50-е годы» можно было осмотреть несколько пулеметов, противопехотную мину и насквозь простреленный красный мундир; что касается стенда «Лучшие люди нашего края», так там почему-то демонстрировались фотографии овец разных пород, главным образом карпатских мериносов. На это Пепа только пожимал плечами и продолжал двигаться дальше среди рассеянного мелькания и гомона – насколько неразборчивого, настолько же и неумолчного.
Так продолжалось уже не первый час, и Пепа даже начал привыкать к окружающей его странной атмосфере, тем более что сумел разглядеть среди присутствующих несколько знакомых лиц. То были персоны, на чьи похороны ему приходилось являться в течение недавнего времени: прежде всего, тот дотошный пролаза-журналист, выброшенный в ночь из вагонного тамбура; были также сосед из квартиры этажом выше, найденный с двумя пулями в затылке в своем частном такси, а также одна редакционная секретарша, задушенная цепями в лифте; куда правду денешь (почему-то Артуру этой ночью очень нравилось это выражение) – куда правду денешь, были тут и другие персоны из семьи и окружения, умершие, что называется, своей смертью – за всеми ними на протяжении последнего времени Пепе приходилось выносить венки, кресты и гробовые крышки. Отдельно ото всех стоял двадцатилетней давности веснушчато-стриженный мертвец – товарищ по армейской службе, который однажды среди бела дня, только-только заступив на свой третий пост, без предупреждений и пояснений пустил себе в лицо калашниковскую очередь.
В общем, Артур Пепа обрадовался, увидев снова этих людей. Оказалось, с ними все не так уж и плохо и никуда они на самом деле не исчезали. Хотя где-то на донышке Артуровой души оставалось малюсенькое место для смятения: беспокоила мысль о том, что – раньше или позже – их все равно придется хоронить, то есть опять всякий раз переживать все те депресняки и бездны.
Интересно, что значительная часть присутствующих (а именно это слово казалось в отношении их самым точным – присутствующие) занималась всякими полезными делами: вестибюль полнился гудением и жужжанием веретен и прялок, здесь же вращались гончарные круги, жернова, центрифуги невиданных Артуром лесопильных станков; кое-кто из людей сосредоточенно трудился, вырезая разнообразные причудливо-райские узоры, а иные выстругивали деревянных лошадок или, наоборот, лепили их из овечьего сыра. «Артель» – припомнилось Пепе из каких-то учебнических времен, где это слово десятилетиями припадало деревянно-стружечной пылью в ожидании своей минуты, совсем неподалеку от «артериосклероза» и «артиллерии».
Тем временем внимание Пепы привлек ничем особенным кроме худобы и пшеничных усов не приметный тип в костюме, явно пошитом еще в семидесятые на какой-то чуть ли не коломыйской швейной фабрике. Да, привлек – но вовсе не медалью отличника наробразования и не университетским ромбом на своем сером семидесятническом пиджаке, а скорее тем, что слишком часто мелькал где-то поблизости, в поле зрения Артура. А впрочем, даже не этим, но скорее своими покашливаниями да отхаркиваниями в гигантский, измятый и несвежий платок, который извлекался из кармана брюк, а потом, нервно комкаемый, снова прятался туда же. Впрочем, главным казалось то, что усач несколько раз нехорошо зыркнул на Пепу (тот боковым зрением видел все) и каким-то гнусаво-простуженным голосом позвал: «Ты!» Так Пепа приобрел возможность убедиться в справедливости своей предыдущей догадки, что этот тип тут является чем-то вроде распорядителя.
«Ты, ты», – невежливо повторил распорядитель и поманил Артура пальцем, на что тот попытался обидеться, но вовремя понял, что здесь это неуместно. Поэтому лишь удивленно поднял брови и, тыкая пальцем себе в грудь, переспросил, будто фатально вызванный к доске двоечник: «Кто, я?» «Иди за мной», – не оставил ему ни сомнений, ни времени на размышления пшеничноусый. И, не оглядываясь, поплыл через весь вестибюль (что за слово такое вестибюль, отчего это вестибюль, если там был зал, настоящий зал, равный своими размерами самым большим приемным мира!), а Пепе не оставалось ничего иного, как пуститься вслед за ним. «Но почему я?» – хотелось ему крикнуть в распорядительскую, несколько сгорбленную худющую спину, маячившую в десяти шагах впереди. Правда, тут опять явилась новая аттракция: они как раз проходили вдоль длинных столов, за которыми группа присутствующих самозабвенно трудилась над писанками, попеременно погружая яйца то в посудины с красками, то в горячий воск, а потом напряженно орудуя писаками и счищая с идеальной яичной поверхности все лишнее; ароматы разогретого воска и самодельных минеральных красок напомнили Пепе о близкой Пасхе; готовые писанки катились по столу в специальном наклонном желобе, успевая при этом обсохнуть, а потом попадали в просторный, выстеленный ватой сундук – каждая в свое собственное углубление. И только одна из них – с оранжевыми крестами и звездами на потустороннем черном фоне, да еще и с двумя золотисто-волнистыми поясками – так в свое углубление и не попала, в последний миг украдкой ухваченная из желоба Артуром Пепой и опущенная им в просторный карман плаща. «Вот и для Ромы есть праздничный подарок», – удовлетворенно констатировал Пепа, совершенно уверенный в том, что никто ничего не заметил.
Но вот они подошли к какой-то высоченной двери в конце зала и там, указав на дверь рукой и сухо кашлянув, распорядитель отдал приказание: «Прочь! Прочь немедленно отсюда!» «Но почему я?» – вспомнил о своем вопросе Пепа. «Потому что ты не имеешь права», – пояснил распорядитель. «Как это так, все имеют, а я нет?» – не согласился Пепа. «Ты с моей женой живешь? – распорядитель начинал не на шутку нервничать. – Прочь отсюда – и немедля!» Особенное ударение он сделал на слове живешь, превратив его в пароксизм шипенья.
Ах вот оно что, понял Пепа. Вот каков этот бывший Ромин Lebenspartner![93] И пока он с утроенным вниманием всматривался в раздраженное, землистого цвета, с опущенными книзу усами лицо распорядителя, тот сыпанул новыми обвинениями: «С женой спишь, девок портишь, водку хлещешь?» Артур молчал, поскольку возразить было нечего. «Возвращайся же к ним и не вертись тут, как говно в полынье!» – попытался повысить свой простуженный голос пан Вороныч, но надолго зашелся кашлем. «И сейчас же отдай писанку!» – потребовал он через минуту, смачно отхаркнув в свой, вышитый еще Ромой, платок. «Вот я сейчас проснусь, – сказал, наконец, Пепа, с которого уже было достаточно, – а я могу хоть сейчас проснуться – и мне ничего не будет, а ты просто исчезнешь!»
Как ни удивительно, угроза оказалась действенной: Вороныч явно поник, его колючие глаза испуганно забегали, и он начал – буквально – отступать, пятясь в необозримую глубину зала, где поспешил смешаться с остальными присутствующими. Празднуя исподтишка свою маленькую победу, Артур Пепа снова, погрузился в окружающий размыто-лунный шелест и шепот. Его уверенность в себе в результате последнего эпизода выросла настолько, что он уже собирался выяснять у здешних личностей, где все-таки можно увидеть… только вот что он хотел увидеть? Этого Артур Пепа уже не помнил, заброшенный волнами своих ночных странствий слишком далеко от той майсладчайшей черешни. И так он все напрягался, вспоминая и – куда правду денешь – с каждым разом все сильнее запутываясь в домыслах.
Но потом он увидал (все тем же боковым зрением, иногда доводящим нас до того, что мы даже самих себя удивленно не узнаем в зеркалах), как распахнулась другая, до того не замечаемая им дверь на противоположной стороне зала – дверь и вправду была довольно узкой и небольшой, что-то вроде запасного либо служебного хода, как сострил бы Пепа в иных обстоятельствах. И в эту боковую, увиденную боковым зрением дверь так же точно боком протиснулся Карл-Йозеф Цумбруннен – с ему лишь свойственным растерянно-нездешним лицом. Кроме того, на нем не было очков и он только подслеповато щурился, нерешительно поглядывая на зал и присутствующих. И хотя уж настолько боковое появление должно было бы сойти ему с рук вполне гладко, в тот же миг откуда-то напомнил о себе распорядитель Вороныч, на весь зал прогнусив свое: «Готово! Начинаем!» Впрочем, этот носовой призыв мог и не иметь отношения к явлению австрийца, удовлетворился вялым предположением Артур Пепа.
Отовсюду забренчала музыка – та, которую никогда не удается вспомнить проснувшись. Артур Пепа не знал ни нотной грамоты, ни специальной терминологии, но музыку ужасно любил, особенно ту, что звучала в его снах. Еще он жалел, что в свое время не научился игре ни на одном инструменте, поэтому иногда оставлял себе надежду на будущее воплощение. И тут, завороженный отчаянно богатым, просто-таки пышным звучанием громадного невидимого оркестра (куда там Вагнеру!), он увидел, как двинулся в обоих направлениях театральный занавес (похоже, до поры исполнявший в этом зале функцию одной из стен), за ним открылся безграничный простор сцены: там рос дремучий сад, биологическое стихотворение в двух склонениях – на пологом холме, захламленный вьющимися растениями и всеми оттенками зеленого, запущенный и удушливый сад, целый соловьиный город с двенадцатью реками и звездным небом, и в этом змеино-истомном пространстве, меж седьмою да восьмою водами, возвышался обвитый мохом и поросший липкими дурманными цветами постамент, который обвивали две женские фигуры (Артур Пепа сразу узнал и блондинку, и брюнетку).
Да ведь он узнал и режиссера: поводя плечом все с той же на нем видеокамерой с ее неусыпным красным оком, Ярчик Волшебник вертелся вокруг них, отходил и снова приближался почти впритык, ползал на животе и на коленях по густо-непролазной траве, по склону и зарослям – это позволяло Артуру видеть их танец в мельчайших подробностях, режиссер находчиво менял и чередовал планы, вырывая из неохватной целостности невозможные фрагменты гримас и поз, а потом снова собирая все это купно.
Впрочем – куда правду денешь – с другой стороны, все это напоминало весьма дорогой и роскошно декорированный стриптиз: танцовщицы и в самом деле постепенно освобождались от своих цветастых одеяний, летели во все стороны перья экзотически-птичьей одежды – пояса, ленты, блестки – только теперь Артур Пепа догадался, что обе выступали в одеяниях невест, со знанием дела подобранных свадебных убранствах, поэтому им было что распутывать, расшнуровывать, развязывать, распускать и медленно разбрасывать вокруг (Артур сосредоточился на названиях отдельных деталей одежды, но в голове вертелись только «плахта» и «спидныця» с ударением на «и» – в то время как «лифчик» был совершенно ни к чему); зеленое моментально поглощало каждую из деталей, словно за каждым кустом и деревом и впрямь караулил какой-нибудь ошалелый от нетерпения зверь-фетишист; впрочем, когда уже и нижние сорочки были отброшены ему, многоголовому, на поругание, выяснилось, что дурят нашего брата – и там, где у аутентичной живой невесты уже не оставалось бы ничего, кроме ее собственного непочатого сокровища, обе актрисы все еще были прикрыты золотистыми треугольниками на серебристых завязках!
Что творилось с музыкой? Да, ее напряженность возрастала, добавились стоны. Танцовщицы змеями поползли вверх по постаменту, тут Пепа вспомнил сразу целых два слова – серпентарий и серпантин, режиссер Ярчик Волшебник в мохнатом свитере то и дело выныривал где-то рядом, брызгая во все стороны экстазом и потом, все трое почти одновременно всползли наверх, где их уже ждал разбуженный на своем ложе любовник. «Профессор?» – не поверил было своим глазам Артур Пепа, но опять успокоился, напомнив себе, что это сон и, таким образом, все это следует воспринимать скорее на уровне символическом.
Вызвавшие старика из темниц анабиоза девушки накинулись на него с экстремально экстремальными ласками, одна из них делала это как Джина Вильд, ночная мечта всех самцов, другая как Дорис Фант, ненасытная тигрица страсти (Ярчик Волшебник недаром два месяца шарился по интердебрям порно-сайтов!), они содрали со старика покрывало и, захлебываясь собственными стонами, довели самих себя вместе с музыкой до одурения; они погружали свои чувствительные верткие языки в его старческий посиневший пах, наощупь находя необходимейшие зоны и центры; за считанные минуты меняющий на глазах личину профессор начал превращаться в весны певучей юного князя, и тот наконец спазматически зашевелился и, расплывшись в безотчетной улыбке сатира, начал неожиданно бодро и алчно любиться с ними обоими – губами, носом, ладонями, головою, членом, всем, что имел, – пока, доведенный до предела, не брызнул на все сорок четыре стороны света, на ложе, на цветы, на мох, на ветви, на их искаженные наслаждением лица и – куда правду денешь — на видеокамеру длинной и черной струей облегчения, после чего в последний раз заревел на всю горную страну, будто одержимый ископаемый ящер.
Тогда уж повсюду воцарилась тишина, а после занавес снова съехался, Артуру еще удалось услыхать триумфальное восклицание режиссера «Снято! „Бальзам Варцабыча“ снят, спасибо всем!» – и вовремя как раз, ибо уже через секунду ему бы этого не расслышать сквозь овацию. Она возникла так стремительно, что в зале поднялся резкий, пронизывающий ветер, он толкнул Артура в живот и грудь, да еще и швырнул ему в лицо тучи песка, колючек и отвратительной саранчи, так что тот, зажмурив глаза, полетел кувырком в лишенную каких-либо проблесков тьму, изо всех сил пытаясь не потерять ни волоска со своей бедной забинтованной головы.
А когда снова их продрал, то настал день и он лежал одетый под одеялом, Ромы на ее половине, как водится, уже не было, и он, возможно, даже бросился бы ее искать, чтобы рассказать обо всех тех видениях – правда, через минуту допер, что ничего не помнит, оставалось разве что выдумать.
III
Карузо ночи

9
Да, Ромы уже не было – ни рядом в постели, ни вообще в комнате: только перед рассветом забывшись в мимолетном двухчасовом карауле меж сном и действительностью, она в конце концов решительно перешла на сторону последней. Оказавшись в коридоре, убедилась в том, в чем и без того была уверена – Карл-Йозеф Цумбруннен до сих пор не вернулся. Словно ее подслушивание под его дверью, а потом осторожный (все более требовательный) стук мог что-то изменить! Еще через четверть часа она решилась нажать на щеколду, дверь подалась – конечно, никакой ключ не запирал ее после вчерашнего и никакого Цумбруннена там со вчера не водилось.
Все прочие еще спали, пансионат молчал.
Тогда Рома Вороныч пошла в большую столовую, откуда могла видеть через окно полонинские подступы к дому. Там она разбила чашку и испачкала подоконник остатками кофе. «Сегодня вряд ли будет тепло», – решила она. Вчера вечером ей пришлось ужасно долго продираться сквозь заросли можжевельника в странных холодных сумерках, стремительно переходящих в темноту ночи (куда, куда его понесло, этого недотепу?), Цумбруннен, верно, рванул вниз, как подстреленный, она обеспокоено взглянула в сторону трамплина, но отбросила мысль о последнем полете; только у леса она его наконец догнала, и они двинулись по тропке вместе. «Я пойду с тобой», – сказала она, переведя дух. Sounds cool[94], – согласился он. Всегда, как только что-то было ему не по нраву, звучали эти дурацкие английские фразы. Какое-то время он шел, опережая ее на несколько шагов. «Взгляни, какая луна – и фонаря не надо», – сказала она. Но это не подействовало. «Почему ты молчишь?» – спросила, пройдя следом еще шагов двести. «Ты должна наконец кого-то выбрать», – ответил Цумбруннен, решительно выбираясь из раскисшей грязищи. Он, остановившись перед одним из шлагбаумов, обернулся к ней лицом. «К чему это сейчас?» – наигранно удивилась она, сосредоточенно глядя под ноги. Ей не хотелось оказаться испачканной до колен, а то и выше. «Ты должна выбрать из нас двоих», – выдохнул он все, чем был полон. «Это не может длиться вечно, – сказал через минуту, глядя, как она вертит головой во все стороны, примеряясь к следующему шагу. – Мне казалось, тебе со мной хорошо. Ты просто притворялась, что тебе хорошо?» Не дождавшись ответа, он продолжил: «Я думал, это что-то большее. Я до сих пор так думаю. Тебе следует обо всем ему рассказать – и всем нам сразу станет легче». «Ты решил все за меня? – отозвалась она, с ужасом чувствуя, как правая нога проваливается в вонючую весеннюю жижу. – Благодарю!» «Не я. Ты сама все решала. Мне казалось, ты все решила еще тогда, в первый раз, в том отеле. И каждый следующий раз. Я помню каждый из тех разов. Я думал, ты тоже помнишь. Если это не так, то ты просто…» «Кто, договаривай», – потребовала она, услыхав недоброе болотное чавканье теперь уже и под левою ногой. «Тебе так этого хочется?» – спросил он, опираясь обеими руками на тот гнилой шлагбаум. «Мне хочется, чтобы ты договорил, – не оставила пути для бегства она. – Ты требуешь от меня столь многого, а сам?» Он стоял в лунном свете совершенно бледный. «Если это было всего лишь такое себе, – его губы никак не складывались в циничную тонкую ухмылку, – такое себе мимолетное приключение с иностранным подопечным, значит ты просто курва, шлюха – и ничего больше – вот, я договорил!» Она его еще раз поблагодарила, а потом сказала: «Подай, в конце-то концов, руку! Не видишь, как мне тут…» Тогда он подал свою ледяную руку и, больно стиснув ей запястье (она почувствовала этот холод даже сквозь куртку и свитер), вырвал ее из болотной западни, но не отпустил, а резко дернул на себя, вторая его рука скользнула по ее спине до того места, где начиналась выпуклость ягодиц, и жадно протиснулась в узенькую лазейку между колготами и трусиками, он стал искать губами ее губы, неловко тычась то в щеку, то в шею, она изо всех сил упиралась («ах, значит я шлюха, да?»), наваливаясь на нее всем телом, сдавив ее плечи своими, шаря руками под свитером и повсюду и, очевидно, вожделея впереть ее прямо на этом сраном шлагбауме, он дышал на нее застоявшейся орехово-спиртовой смесью, но как только вцепился пальцами в молнию на ее джинсах, она сумела («ну нет, уж такого удовольствия тебе не будет!») освободить руку и влепить ему сбоку по щеке наотмашь, сбивая к чертовой матери эти его очки. Разумеется, она не была бы Ромой Вороныч, если бы все не кончилось их головокружительным совместным падением через тот самый scheissener Schlagbaum[95]. Он оказался под ней, внезапно присмиревший, поэтому она поднялась первой. «Ты животное», – сказала она чуть погодя, поправляя на себе одежду. «Забери свои очки и не смей ко мне больше прикасаться», – добавила насколько могла твердо. Он нацепил очки (правое стеклышко треснуло) и так же твердо ответил: «Иди прочь. Я не хочу, чтобы ты шла со мною». «И шуруй себе, – сказала она по-украински. – Сваливай! Пьяное животное!» Она еле удержалась, чтоб не зареветь во весь голос, и пустилась прочь от него прямо по грязи. Сейчас польются глупые слезы – не хватало еще, чтобы он это видел. Карл-Йозеф взглянул ей вслед, махнул рукой, словно пугало пустым рукавом, и чуть хромая побрел в своем направлении.
А теперь его не было. Меж десятью и одиннадцатью в столовой собрались остальные, не все, правда, а только трое из них: Артур Пепа, Волшебник и Коломея. Разговор не клеился, звяканье чашек и вилок делало ситуацию еще более несносной («Неплохо же ему там сидится, на том тринадцатом», – ясно, это был Артур, всегда что-то скажет, лишь бы не молчать), режиссер молча сооружал себе еще более крупные бутерброды, типы в черных гольфах – сегодня, кажется, другие – циркулировали между столовой и кухней, Пепа затянулся четвертой с утра «прилуцкой» («У нас новый сосед?» – спросил он, лишь бы не молчать).
Профессор, похоже, уехал еще перед рассветом («Так что, мы теперь без Антоныча?» – Пепа скорбно уставился на оленьи рога на стене. «Я его это самое… проводил, – сказал Ярко Волшебник. – Просил передавать всем приветы». «Что же он так внезапно», – вздохнул Пепа, стряхивая пепел в керамический сапожок.) Потом поймал Ромин отсутствующий взгляд, снова перевел взор на режиссера («А твои классные девицы сегодня что, не завтракают?»), убедился, что таким образом ему сейчас Роминого внимания не отвлечь, пустил парочку дымовых колец. Волшебник завершил строительство съедобной пирамиды листиком салата («Они тоже… как бы это… уехали. Снялись – и до свиданья. Бюджет такой…»), после чего взял свое новейшее произведение за края обеими руками и с наслаждением впился в его многоэтажную структуру. Пепе эти дела были до глубокой дыры, но невозможно же вот так все время напряженно молчать под птичьи крики снаружи («Так они что, вместе со стариком поехали?» – «Ну, как-то так», – ответил Ярчик, пережевывая). Артур представил себе, как сопровождаемые нескладным профессором – пускай придерживает на ветру шляпу обеими руками! – Лиля и Марлена в турецких куцых кожанках впархивают внутрь геликоптера, потом подтягивают за руки немощного деда – и как в последний миг его шляпа, снесенная ветром с головы, отлетает в сторону плотной трансильванской тьмы. Могло так и случится, подумалось Артуру.
Коля вышла на террасу, постояла рядом с неведомым кудрявым парнем (тот рассказывал что-то веселое, потому что они вдвоем немножко посмеялись), снова заглянула в столовую («Седьмой обруч – это когда с кем-то прежде не знакомым чувствуешь себя легко и свободно, будто сто лет знаешься»), начала перебирать в вазе яблоки («У нас новый сосед?» – повторил недавний вопрос Пепа). Коля выбрала два самых больших и красных («Ага, тоже из Львова, приехал на выходные» – «С компанией?» – «Кажется, один»), стерла с них салфеткой водяные капли И снова пошла на террасу («Шампунь в вашей комнате, ма? Я хочу помыть голову»). Пани Рома проводила ее взглядом («Делай что хочешь там в ванной на столике увидишь») – и снова глазами за окно, где ничего, кроме надоевшего неповторимо дивного пейзажа: переменная облачность, прояснение, ветер, большая тень на соседнем хребте, километровая, речными, что ли, камнями выложенная, надпись КАРПАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА: СВОЕГО НЕ ГНУШАЕМСЯ («А это откуда взялось: вчера еще не было – и как это на такую высоту столько камней притащили?»). Но вчера – не сегодня, подумалось ей. Вчера было еще одно, а сегодня уже совсем другое.
Где-то между первым и вторым часом начали вслух высказываться предположения. Первое – он мог заблудиться в лесу. Там даже днем иногда заплутаешь среди сосен, а ночью и подавно. Лес – это такой кошмарный лабиринт, большое зеленое чудовище, особенно этот, не посаженный человеческой рукою, а девственный, он впускает в себя легкомысленных венских шаркунов, привычных разве что к вальцеру на дворцовом паркете, и ни за что не хочет их выпускать. Но тут им не Вена и даже не Венский лес, где все тропки заасфальтированы. Лес – это зеленое, а зеленое поглощает. Однако ночь была лунной, протестовала пани Рома, и я могла даже видеть трещинку на стекле его очков («О, правда?» – Артур почесал бинт на голове), но главное, он такой опытный путешественник – за ним сотни километров, да уж в одних только этих наших Карпатах им исхожено десятки сложнейших маршрутов, и костер он разводит с одной-единственной спички. В конце концов, неужели он до сих пор не выбрался бы из этого леса, не такого уж и дремучего? К тому же столько ориентиров: деревянные щиты, просеки, старая железнодорожная ветка, кучи металлолома, шлагбаумы. И прочее, сказал Артур Пепа, хороня навеки версию о заблудившемся в трех соснах венском ротозее в черном цилиндре и надушенных перчатках.
Дикие звери, сказала Коля, войдя в столовую с полотенцем, наверченным на ее голове в тюрбан. Да, саблезубые тигры и пещерные медведи, поддержал ее папа. Не обязательно, возразил ему Волшебник, встречаются здесь и волки, и рыси, и эти самые – кабаны. Сам ты кабан, хотела сказать пани Рома, однако вслух лишь заметила, что они ведь взрослые люди и что-то нужно решать вместо этих пустых разговоров. Однако Волшебник продолжал: вы же видели кое-где среди леса эти оленьи черепа, челюсти, огрызки ребер и позвонков! Кто-то ведь – как бы это сказать – задрал тех оленей! Или, например, лавина. Вы видели, как сходит с гор лавина? Надо поднять служебных собак, таких здоровенных, решительно закончил Ярчик.
А я думаю, он просто пьет водку на тринадцатом камэ, пытался всех успокоить Пепа. Или просто где-нибудь отрубился по дороге и теперь спит, ему много не надо. Хотите, я пойду и приведу его оттуда? Заодно и бухла наберу, а то пропадает день впустую, к тому же праздник на носу. Но пани Роме его идея не понравилась, особенно когда она представила, что и этот дурень уйдет да точно так же исчезнет. Хуже, что он мог быть прав в отношении Цумбруннена. На какое-то время ею всецело завладела версия неслыханно тяжелого алкогольного отравления, галлоны технического спирта, паралич, коматозное состояние или, по меньшей мере, самогонный амок. На протяжении нескольких лет газета «Эксцесс» множество раз писала о таких вещах.
В три пятнадцать его все еще не было, а в четыре двадцать семь на склоне показалась фигура, поднимавшаяся к пансионату по старой военной дороге. Человек передвигался крайне медленно, то и дело останавливаясь, осматриваясь по сторонам, описывая странные петли среди валунов и карликовых берез и тем самым все еще оставляя Роме надежду. В четыре тридцать восемь он подошел достаточно близко для того, чтобы Роме стало понятно, что это возвращается с прогулки, неся в руках охапку синих и белых крокусов (угадайте, для кого?), новый жилец пансионата.
В полшестого Ярчик Волшебник явился с донесением, что побывал в комнате Цумбруннена и что все его вещи, включительно с персональной фотокамерой «Nicon F5» и несколькими отснятыми кассетами, остались на своих местах. Это означает, что он намеревался сюда вернуться, мудро заметил Артур Пепа, частный детектив. Коля набрала в вазу воды и унесла к себе в комнату, подумав, что восьмой обруч – это когда сжимается сердце.
Тогда Волшебник предложил пойти поискать планетницу. Г од назад мы тут неподалеку одну такую снимали на первый канал, для «Тахикардии», рассказывал режиссер. «Тахикардия» – это название такой программы про – как оно – аномальные явления. Я знаю, кивнул Пепа, хотя и не смотрю. Первый вообще не смотрю, попутно вставил он. Так вот, не обиделся Волшебник, тут есть одна такая планетница, она – это самое – как бы телепатка, уж нею и телепает, за пять баксов может – к примеру – кому-то овцу отыскать, если отбилась, ну там заблудилась. Так эта планетница как только чары-мары и тэ дэ, так сразу и говорит, где овца находится, они все туда, а там эта овца и находится. Ну, Цумбруннен у нас не овца, осадил режиссера Артур Пепа, комиссар полиции. И то таки правда, опять не обиделся Волшебник, за пять баксов не найдет, он у нас на все пятьдесят потянет. Перестаньте, сказала пани Рома, держась руками за виски.
В шесть двенадцать Артур Пепа констатировал, что у него осталось две сигареты и в любом случае надо отправляться на 13-й километр.
Тут есть еще такая версия, сказал на это Ярчик Волшебник в шесть тринадцать. Когда выходишь из леса по дороге, там немного выше, где-то так на полкилометра, перед мостом, видно цыганский этот самый. Несколько халуп, мусорник и пара буржуек. Ну, там еще сральник какой-нибудь. Про них тут ходят всякие разговоры, будто это на самом деле цыганский король со своей семьей, ну там слуги, гарем, детей немеряно. Потому что это ж не то что там кодерари какие-нибудь или ловари, это самые что ни есть плащуны[96]. Специализация – убийства по заказу, главным образом священников, нет, не по заказу священников, а убийства священников по заказу. А также грабежи и разбой. Так вот, король. Там с ним такая история, что он-то король, но в этой самой – в диаспоре. В эмиграции, поправил Артур Пепа. Ну да, в изгнании, нашелся с точным словом Волшебник. Весь его двор с дворцом, ну там это самое – золотой запас, камушки, оно все у него за бугром, в Пенсильвании. Трансильвании, поправил Артур Пепа. Да хоть бы и в Трансваале – какая разница, продолжал Ярчик Волшебник. Да, значит, там по их религии такое дело выходит, что они не могут до своего добра назад дорваться, пока не принесут людской жертвы. Кровь там, сердце, органы. Ясно, что жертва должна быть из чужого, ну то есть из нашего. Я имел в виду, из белого, ну только чтоб не цыган. Вот они тут и засели – между лесом и Речкой. Местные жители, скажем, про такое дело давно знают и десятой дорогой обходят. А если кто чужой не знает, так они могут заманить к себе в халупу и…








