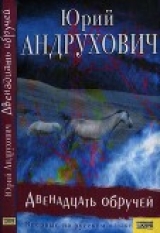
Текст книги "Двенадцать обручей"
Автор книги: Юрий Андрухович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Глянь, вдруг обернулся к Роме Артур в быстро темнеющем лесу. Она ловко перепрыгнула через изрытую людскими следами и вновь застывшую колдобину. Что там, спросила она. Посмотри на этот шлагбаум, показал Артур, смотри, он почему-то сломан. И что тут такого, изобразила она непонимание. Шлагбаумы тут повсюду поломанные, сто лет назад. Нет, как раз этот был целый, уверил ее муж. Вчера перед обедом я дошел до этого места и тут распил бутылочку, утверждал Артур все уверенней. То-то и оно – бутылочку, сбивала Рома его со следа. Но он не поддался. Я присел на этом шлагбауме и курил одну сигарету за другой, целых пять, а то и шесть. О, видишь, продолжал он, бычок, а там еще один, и тут еще. Он поднял окурок с земли и, внимательно разглядывая его в меркнущем лесном свете, сказал: прилуцкая. И что такого, упрямо не сдавалась Рома. Я хочу сказать, что этот шлагбаум был сломан совсем недавно, твердо заявил Артур. Это могло произойти в результате какой-то борьбы, шлагбаумы не ломаются просто так. Рома на это промолчала. Нет, неразумно было бы подбрасывать ему в качестве версии ветер. Сломанный ветром шлагбаум какая глупость!
О, видишь, через минуту снова заговорил он. И что теперь, чуть настороженно спросила она. Трава за шлагбаумом очень сильно примята, сообщил Артур, знаменитый следопыт. В этом лесу полно примятой травы, в третий раз взялась она перечить. Нет, ты не понимаешь, терпеливо пояснял Артур. Здесь примятость выглядит совсем иначе – тут так, будто кто-то лежал в этом месте на траве или даже – как это сказать по-украински – катался по ней. А крови не видно, подкинула Рома следопыту свежий фальшивый след. Артур немного походил вокруг, поприглядывался со всех сторон. В верхушках деревьев уже пронеслись два-три мощных ветровых порыва. Небо в просветах меж деревьев показалось почти черным.
Нет, крови не видать, сказал Артур. Значит, и борьбы не было, как бы пошутила Рома. Артур еще некоторое время обдумывал увиденное. Если тут лежало человеческое тело, показал на траву, то позже его должны были куда-то оттащить. Но следов не вижу. А если оно само поднялось и пошло себе дальше, чуть не засыпалась Рома. Тогда и нам надо дальше, согласился с нею муж, и, постояв еще пару минут на том же месте, они двинулись по лесной дороге вперед.
И только Тогда, почти единодушно, но каждый по-своему, почувствовали, как над ними склоняется, сгущаясь, вся таинственность нашего мира.
Немного позже, когда они уже выходили из леса, сосредоточенно приближаясь к Речке, над их головами впервые блеснуло, потом еще и еще раз. Этого только не хватало, сказала Рома, плотнее закутываясь во все, что на ней было, и набрасывая на голову капюшон. Сейчас как жахнет, отозвался Артур и обеспокоенно обозрел вмиг почерневший ландшафт. Поэт, как всегда, оказался пророком: стоило ему договорить эти слова, как и вправду жахнуло, то есть смачно загремело во всю небесную ширь. Святой Илья везет калачи, промолвил Артур Пепа и взял жену за руку, отчего в небе прогремело вновь и вновь, с каждым разом громче и нещаднее.
Когда они бежали по мосту, посыпался мокрый снег. Точнее, был короткий миг, на протяжении которого он сначала был просто холодным дождем. Но где-то на середине моста они заметили, что дождь начинает белеть. Поэтому, достигнув противоположного берега, они что есть духу побежали по обочине шоссе вверх – к развилке над тем местом, где в Речку впадает Поток. К тому моменту уже стало все совсем бело – по всей земле.
Спустя несколько минут Артур подумал, что это бегство ничего, кроме изнеможения, не даст: в груди бесилась такая же пурга, как и снаружи, над головами угрожающе взблескивало, громы лупили со всех сторон с такою силою, что глохли уши; до потенциального приюта на тринадцатом километре оставалось полтора-два часа пешего хода, до железнодорожной станции не меньше, но в противоположную сторону. Тут и только тут, повторял в ритме бега Артур, тут и только тут, и только тут, и только тут. И только тут – пристанище для нас!
Таща Рому за руку, он – выбоина на выбоине – пересек шоссе и, пробежав вперед еще сотню метров, перемахнул (Рома следом за ним) через ограждение над обрывом, а тогда – да свершится Божья воля – кое-как, то на ногах, то на спинах, на животах и задницах, на сломление головы, резко вниз, в присыпанные свежим снегом серые прошлогодние лопухи, нет, еще ниже, с молнией и громом – на дно, на самое дно этого мира, где царит автомобильная смерть.
Извалянные в снегу пополам с грязищей, будто клоуны в опилках, они наконец приземлились среди всех тех поломанных и раздавленных «мерседесов» да «опелей»; носясь по коридорам этого отчасти лабиринта, отчасти кладбища, среди все прочих «фордов», «ситроэнов» да «волг», они все-таки нашли кое-что покрупнее и не слишком разваленное; можно было и в салон протиснуться, лишь чуток повозившись с расстроенными дверями, и вот уже – крыша над головой, собственное укрытие за пределами пурги. Пурга, кстати, как раз в тот миг набрала такие обороты, что все пространственные координаты были утрачены – только белый хаос вокруг и белая пустота за вытянутой рукой.
Итак, теперь им необходимо отдышаться – Артур на разодранном в клочья сиденье водителя (руля, правда, уже не было – только остатки мяса), Рома рядом с ним, на чем-то подобном. Самое время позволить им отдышаться.
Среди удивительнейших коллекций мира могла бы не затеряться и эта – неведомо с какой окончательной целью накапливаемая владельцем окружающего ландшафта Варцабычем. Скупаемые, а чаще просто взятые на демонстрационных штрафных эстакадах, мертвые автомобили регулярно свозились к этой пропасти, где за несколько лет их насобиралось около сотни. Одним из почетнейших экспонатов средь них вполне заслуженно мог бы считаться тот, в нутро которого проникла запыхавшаяся чета.
То был межвоенных времен «крайслер империал»[99] – одно из чудес автомобилестроительной мысли прошлого, да, тот самый, который позже оказался более символом, чем реальностью. Разумеется, каждый из вас в этом месте имеет право на кривую усмешку. Как так – снова призраки молодости, ползучие повторы и самоповторы?
Но разве мне до них? Меня волнует прежде всего правда этой истории. А для нее требуется, чтобы это железное искалеченное тело, каковым еще десять лет назад эта крепость на колесах уж никак не была (ибо именно тогда ее видали во всполохах фейерверков на чертопольских улицах), чтоб именно это тело, а точнее его оболочка, именно ныне, после никому из нас не известных дорожно-транспортных и просто происшествий последнего десятилетия, обнаружилось в этой пропасти, приютив в себе двух близких и далеких людей.
Но если этот «крайслер империал» был и не тем же самым, то в любом случае он был чем-то чрезвычайно ему подобным. Артур Пепа попросту не мог выбрать иного убежища. Оно должно было оказаться чем-то самым большим, самым мощным и, наконец, самым заметным.
Вот так они и сидели теперь в темноте огромного салона, молча уставившись в нервные вспышки посреди густой непролазной белизны за уцелевшими стеклами. С их одежды стекала вода, казалось, они и сами были готовы растаять.
– А если попадет в машину? – наконец спросила Рома, кивая головой на очередной сполох во внешнем мире.
– Тогда, пожалуй, сгорим, – не очень уверенно ответил Артур и все-таки раскурил сигарету. – Хотя я не большой знаток физики.
– Конец апреля, – горько констатировала она.
– Горы, – пояснил он. – Погода ужасно переменчивая, рай для синоптиков.
Они помолчали ровно столько, сколько курилась его влажная сигарета. Потом, потушив окурок, он сказал:
– И снова Антоныч. Куда ни обернешься, этот Антоныч.
Рома непонимающе взглянула на него.
– Я имею в виду «Мертвi авта», – сказал Артур. – В тридцать пятом году, еще когда этот драндулет был новой шикарной суперколесницей, поэт Антоныч описал одно из своих очередных видений. Там присутствовало такое кладбище, на котором свалены автомобили. «Кусками звезд разбитых спят на кладбищах машин немые авто…» – ну и так далее…
– Ничего удивительного, что здесь всякое такое случается, – повела плечами от первого озноба Рома.
– Это ты про австрийца? – обернулся он к ней лицом.
Рома подумала, что теперь уж должна рассказать ему обо всем – как было. Иначе они загнутся в этом металлическом мешке – ну хотя бы от холода.
– Знаешь, там около того шлагбаума… – начала она.
Но в небе грохнуло так, что ей пришлось начинать сначала. Артур повернулся к ней не только лицом, но и всем своим телом.
– Около того шлагбаума, – в третий раз начала она и дальше выпалила все одним залпом: – ты еще обратил внимание, что он поломан – ночью я догнала его, потому что хотела, чтоб он никуда не шел, такой пьяный после той ореховки, не знаю, помнишь ли ты, как вы с ним поупивались, ну, в крайнем случае, думала, буду его сопровождать, чтобы чего не случилось, он ведь, в общем, и до сих пор еще беспомощен в наших обстоятельствах, так вот, около того шлагбаума я его догнала… дай прилуцкую!..
Она долго прикуривала от его зажигалки, потом затянулась раз, второй и закашлялась. Артур деликатно забрал у нее сигарету и стал курить сам.
– Ну вот, – заторопилась она, – тогда он стал ко мне цепляться, всюду руками лезть, я сопротивлялась как могла, но он всем телом навалился, чуть не раздевал и так припер к тому шлагбауму, но я из последних сил упиралась, и тогда мы его поломали…
– Кого? – спросил Артур, сверкнув огоньком сигареты.
Вопреки окружающей темноте, он почувствовал, как у него – вне связи с нею – темнеет в глазах и до истомы хочется тут и сейчас стиснуть ее или хотя бы впиться губами в губы.
– Да нет, не то, что ты подумал, – поясняла Рома, – нет, тот шлагбаум, вот почему он сломан, потому что он на меня наваливался, а я упиралась, потом он полез рукой мне между ног…
Артур застонал, потроша в воздухе наполовину недокуренную прилуцкую. Тьма в глазах сгустилась гуще всех теменей на свете.
– …потому что он хотел меня… ну ты понимаешь… прямо на том шлагбауме, а я не давалась, и тогда мы сломали шлагбаум, и упали в ту траву, я была сверху, стиснула его изо всех сил коленями – ты же сам заметил там, что ту траву кто-то примял…
– Дальше, – сказал Артур из предпоследних сил.
– Дальше ничего, – пожала плечами Рома. – Я оставила его в лесу одного и вернулась на гору. Ты уже спал, когда я пришла.
От всего этого она едва не стучала зубами. Но ей стало лучше – она рассказала все, что должна была рассказать. Неужели от любви?
Артур почувствовал, что внутренняя тьма не отпустит его, пока этого не случится.
– Я все видел, – сказал он. – Я побежал за тобой следом. И стоял чуть поодаль. В лунном свете было прекрасно видно. Потом я пошел назад.
На самом деле он действительно шел той ночью следом – но не за нею. Он соврал, ибо должен был соврать. Неужели от любви?
– Так ты был там?
Она подалась всем телом ему навстречу. Это было единственным спасением для них обоих – иначе можно было околеть в этом металлическом гробу. Они начали дико и больно целоваться, подобного не случалось уже несколько лет – она перелезла к нему на колени и очутилась так близко, что все поплыло и завертелось: это было жадное и отчаянное барахтанье и немного покусываний, разгребание тяжелой намокшей одежды в надежде прорваться к теплу, к коже, какие-то тряпки полетели на заднее сиденье, он наконец отыскал под десятым свитером и живот, и ложбину между грудями; хватаясь свободной рукой за карман плаща (осторожно, осторожно, повторял единственное, что знал), он случайно нажал на какой-то рычаг и – слава конструкторам-империалистам! – спинка откинулась назад со ржавым скрежетом…
Только теперь они слегка успокоились и продолжили уже совсем по-другому – плавно и умело, найдя силу давления и ритм. Ее чуть вытянутое от нежности лицо качалось над ним в сполохах, она зажмурила глаза, разряды молний гвоздили по крыше, крыльям и бамперу великанского драндулета, но, не причинив им зла, с шипением отскакивали, все выглядело почти так же, как в первую после их знакомства ночь – его волосы так же были мокры (правда, теперь немного мешала марлевая геройская отметина, но она лишь прибавляла любви), снаружи так же сыпал мокрый весенний снег, раскладушка на кухне так же предательски шаталась и трещала всем каркасом, как это древнее облезшее сиденье, Рома так же прикрывала рукой уста, давясь стонами и охами (да, тогда это было вполне объяснимо: сон Коли в комнате, – но зачем сейчас-то?), а он так же восторженно и удивленно прибывал необъятными струями радости.
(Поэтому, когда откуда-то с горного хребта к ним на самое дно пропасти слетело бледное, облепленное белым существо с опущенными заснеженными усами и скорбно прижалось снаружи к стеклу, они так ничего и не заметили, занятые исключительно самими собой. А Мольфар, раньше носивший Ромину фамилию Вороныч, побыл около них лишь недолгую минуту – и бессильно отошел, развалился на белые снежные хлопья.)
Только тогда их прорвало слегка охрипшим и невыносимым завершением, после чего, как всегда, они надолго и счастливо замерли. Как ни удивительно – но громы и молнии вскоре замерли тоже. Точнее, они двинулись прочь, пропадая в каких-то отдаленных мирах. Только остатки мокрого снега еще сеялись из небесных резервуаров, но все нежнее и медленнее.
– Так хорошо, – сказала Рома только тогда, когда уже можно было снова что-то говорить.
– Но ты могла раздавить яйцо, – пробормотал Артур, зашуршав плащом.
Она начала смеяться, вздрагивая у него на груди.
– Это была бы ужасная потеря, – сказала она и снова зашлась смехом.
– Ты не о том подумала, – возразил он.
И снова прошуршав, вынул из кармана плаща писанку – с оранжевыми крестами и звездами на черном потустороннем фоне, да еще и с двумя золотисто-волнистыми поясками вверху и внизу. Теперь ее можно было разглядеть в лунном свете, вдруг заполнившем собою все ущелье вкупе с автомобильными скелетами и потрохами и беспрепятственно проникшем внутрь их приюта на колесах.
– О, а это откуда? – спросила Рома.
– Сам не знаю, – он потерся забинтованным лбом о ее плечо. – Но оно для тебя. Подарок к празднику.
Она бережно взяла писанку и подержала ее в желобке ладоней. Потом поблагодарила, коснувшись губами своей любимой ямки у него под адамовым яблоком.
– Подаришь мне завтра, – сказала она и уложила писанку в тот же карман. – Сегодня еще не праздник. Пусть будет сюрпризом. Как это я и впрямь умудрилась не раздавить?
Она снова начала смеяться, вспомнив, как он это произнес, котяра-воркотун.
– А вообще-то я знаю, как это случилось, – совершенно серьезно сказала она через минуту. – Просто я перестала быть неуклюжей.
– Это с каких же пор? – Артур изобразил беспокойство.
– С этих, – гордо сказала она.
– Но мне нравится, когда ты неуклюжая, – приподнялся он на локте.
– Правда? Никогда не поверю! – Она лизнула его в нос. – Ну ладно, специально для тебя я еще немного побуду неуклюжей.
Перелезая на свое сиденье, она задела коленом его бок. Он притворно охнул. Но решил, что шутку про яйцо повторять не стоит.
– Вот видишь – все в порядке, – захихикала она. – Я снова неуклюжа. Давай покурим одну на двоих?
Он долго щелкал зажигалкой, потом сделал первую затяжку и, передавая ей сигарету, продекламировал:
Бывает, мертвецов железных люди,
как шакалы, потревожив,
товар своих желаний, жажд и нужд,
как на базаре, выставляют,
и тулова машин в синюшной тьме ночей
скрипят, сходя за ложа
бездомных ласк кривляк и шлюх,
в которых звезды зла свой чад вливают.
– Это тот Антоныч? – спросила она. – Интересно, где он сейчас.
(Она промолвила последнюю фразу невольно – возможно, только потому, что как раз в тот миг ее дочь впустила в себя самого первого любовника, ибо одиннадцатый обруч – это когда двое становятся одним.)
– Я думаю, в своей корчме на луне, – ответил Артур. – Где же ему еще быть?
– Так как там у него о бездомной любви? – она начала натягивать один за другим свои свитера.
– Бездомная любовь кривляк и шлюх, – напомнил Артур.
– Ну да. Подходит, но не совсем, – согласилась она. – Потому что ты ужасный кривляка.
Он не поддался на ее вызов, только состроил противную и веселую гримасу. Артур Пепа не мог быть обезьяной по году рождения, но иногда бывал по жизни.
– Знаешь, – сказала она, – я намерена перелезть на заднее сиденье и немного поспать. Все равно нам никуда отсюда не выбраться. Ты не разделишь со мною ложе?
– Если оно греховное, разделю, – пообещал Артур.
– Все в наших силах, – уверила она. – Разрешаю разбудить, как только захочется.
Он тоже примостился – аве Крайслер! – на том широченном и двусмысленном, как оттоманка декана, кожаном сиденье, а там и обвил руками ее бедра.
– Разрешаешь разбудить? – замурлыкал по-своему где-то около ее уха. – Согласен. Если не просплю утреннюю эрекцию.
Они еще немного посмеялись, а потом еще немного поговорили, соревнуясь в глупостях, а потом еще вместе покурили, ибо – ничего не поделаешь и куда правду денешь – когда после секса случается беседа, чаще всего случается и любовь.
И только позднее, через неопределимый никакой хронометрией отрезок времени, Рома Вороныч выскользнула из его объятий, завела древний автомобиль и пустилась ездить на нем по неисчислимым помещениям пансионата, врезаясь в стены и сбивая с постаментов урны и огнетушители. Что снилось Артуру, неизвестно – всему своя тайна.
Но когда ему начала сниться собачья стая, бегущая вдоль берега Речки, настало утро. Погода в надцатый раз поменялась – все, что ночью было снегом, теперь ускоренно таяло, стекало, капало, нестерпимо теплый ветер пытался посрывать все головы с плеч, даже тут, на дне пропасти.
Увиденная во сне стая оказалась на деле одним-единственным псом, правда, довольно крупным, каким-то овчарочным ублюдком, и он самозабвенно заливался лаем, привстав на задние лапы и тычась пастью в оконные стекла крайслера. Вне всяких сомнений, ему не могла нравиться эта застуканная во сне и вспугнутая пара двуногих. Какого хрена они тут делают? Что это вообще задела?
Разъяренный пес не был одинок в своем возмущении. Он прибежал сюда в сопровождении целых трех ментов, из каковых один держал наготове калашника. Другой – судя по ряду золотых зубов и в целом по физиономии, старший – жестом приказал им вылезать. При этом еще один, третий, со знанием дела взял пса на поводок, отчего тот стал захлебываться еще отчаянней.
Жмурясь от ветреного света, тепло и болезненно резанувшего по глазам, чуток растерянные и сильно заспанные, Артур Пепа и Рома Вороныч после нескольких глуповато-неудачных попыток открыть двери «крайслера» все-таки сумели вылезти – через переднее сиденье. Только ступив на плывущую под ногой землю, Артур почувствовал, как бездарно и позорно он отлежал ногу. Стоять сейчас приходилось фактически на одной. А тут еще вдобавок: ужасный ветер, от которого раскалывается голова, шум талой воды, боль в глазах, трезубцы на фуражках, дошедший до осатанения лай, мерзость во рту, полунацеленный калашник и все эти вопросики типа кто такие? откуда взялись? что делаем? удостоверения?
Артур Пепа смог ответить на первые три из них. Документов при себе они, понятно, не имели, даже умудренная Рома. Туристы, сказал Артур Пепа (третий из ментов наконец прикрикнул на пса, и тот вмиг заткнулся, старый шланг), туристы мы из Львова, отдыхаем в Карпатах.
Туристы мы из Львова, в Карпатах отдыхаем, во Львове проживаем по адресу, сказала Рома. А тут прятались мы от бури, такие промокшие, что йой.
Пани, вас не спрашивают, оскалил все свои зубы главный. Дойдет очередь — и вас опрашивать будем.
Так я же и говорю, продолжил Артур Пепа. Вышли под вечер из пансионата прогуляться (спросонья он выговорил прогулетысы), а тут – сами знаете – буря с громом и спрятаться негде, так мы збиглысьмо сюда та й тут сы сховалы[100].
Слышите, сказал на это своим хлопцам главнюк. Слышите, за кого нас держат – за имбецилов придурошных. Слышите, они от грома в железе поховалыся!
Услыхав такую голимую чушь, менты как один захохотали, даже пес хохотнул, подлиза на службе.
Ну чего вы смеетесь, хлопцы, по-доброму к ним Рома. Чего вы, хлопцы, смеетесь? Мы, как в эту машину от бури прятались, ни о какой физике даже не думали – только бы спрятаться. А вы, хлопцы, смеетесь, потому что не понимаете.
Пани, снова к ней камандующий, но резче. Пани, бросьте ту свою физику! Потому как мы вам, пани, пока еще никакие не хлопцы – вы еще под нами, пани, не лежели.
Старшина, сказал на это Артур Пепа. Старшина, перестаньте таким тоном с женщиной. Она моя жена, старшина.
Но тот ему еще круче: если она тебе жена, так чего по машинах ебётесь? Может, она курва тебе на самом деле, а не жена? Может, она со всеми по машинах ебётся, курва?
Тогда Артур Пепа, кавалер ордена Шляхетных Меченосцев, проваливаясь в свою самую глухую внутреннюю темень, затекшей ногою – вперед, заехать в золотозубое рыло засранцу в погонах, чтобы не смел никогда прекрасных дам обижать. Но навстречу ментяра так от души приложился – от слова приклад – к нему калашником, что только искры во все стороны, и удивительно, как еще бинт с головы не слетел.
Увы, Артур только плюхнулся беспамятно на остатки снега, разбрызгивая серые фонтаны вокруг себя, а Рому они от него силой оттащили, чтоб не голосила так, будто тут похороны. Да и пес не в меру разволновался из-за казла львовского.
Только она все равно рвалась и называла их, курва, бандитами и убивцами, даже главнокомандующий стал было подумывать, как бы ее тоже по темени шлепнуть, чтоб, курва, затихла и не мишела по рации докладуватъ. Так они ее и повели – с плачами, криками и голошеньем, а потом вдруг затихшую и упокоренную – в сопровождении того, который держал на поводке пса.
Так они ее и вывели наверх из ущелья, резко в гору, по скользким камням, с камня на камень – ее ступни скользили всякий раз опаснее – но как-то все-таки выкарабкалась и была посажена в «уазик» и отвезена в неизвестном ей направлении.
Ясное дело, пока могла, она озиралась и видела, как двое других – калашник и гавнокамандующий – с обоих боков приковались к Артуру Пепе наручниками (Артурова голова в грязных бинтах безвольно колыхалась над плечами) и потянули его силой между ржавых бамперов и каркасов туда же – на выход.
И только отъехав километров пять-семь, когда мимо ее зарешеченного окна промелькнули целых две встречных милицейских машины, она поняла, что это они по Артурову душу и что в жизни не бывает страшнее.
11
Так досадно, гадко и горько ему еще не бывало – Карл-Йозеф Цумбруннен готов был вылезти из собственной кожи и долго топтать ее тяжелыми безжалостными башмаками. Почему так получилось? Почему он так повел себя? Почему сейчас он один в этом белом от лунного света лесу?
Weil ich die unglückliche Liebe habe[101], хотелось ему пояснить своему старому гимназическому ментору, глянувшему на него в эту минуту с требовательным и немым укором откуда-то то ли с луны, то ли из ближайшего совиного дупла. У ментора был пунктик, он был двинут на галантности, он целых тысячу лет вдалбливал им, своим ученикам, что галантность в действительности является синонимом европейскости и для того, чтобы достойно репрезентовать австрийскость, необходимо об этом помнить всегда и повсюду, в любых обстоятельствах. Ментор умер много лет назад, но сейчас он смотрел на Карла-Йозефа, на одного из тысяч своих воспитанников, и хотел хоть что-то услышать от него в оправдание.
Weil ich die unglückliche Liebe habe, повторил Карл-Йозеф чуть жестче, чтобы тот отвязался. Последние два слова чуть ли не рифмовались. Они надолго завладели его прихрамыванием – спустя время, уже выходя из леса и не переставая гореть от стыда и любви, Карл-Йозеф все крутился вокруг этой нелепо-издевательской парочки (Liebe habe, Liebe-habe, Liebehabe). Разве это ничего не объясняло, герр гимназический ментор?
Ментор еще какое-то время преследовал его, возникая то на мосту, то одновременно по обеим сторонам шоссе – и тут, и там – он явно не мог удовлетвориться ответом, поэтому, дойдя до развилки над местом впадения Потока в Речку, Карл-Йозеф решительно рубанул воздух и сказал: «Ладно, ладно, я виноват, я теперь никакой не европеец, я пьяная свинья!» Этого хватило, чтобы ментор наконец отстал. Самокритичность – вот чего он, оказывается, жаждал! Карл-Йозеф свернул направо и, двигаясь вдоль берега Потока вверх, вдруг заговорил с Ромой, ведь это относилось к ней.
Зачем ты пошла за мной, зачем ты бежала по склону вниз, зачем мы были вместе, спрашивал Карл-Йозеф, не рассчитывая на какой-либо ответ. Зачем ты заговорила о луне, требовал правды Карл-Йозеф. Ведь если среди ночи кто-то говорит кому-то о луне, это означает близость, разве не так? Ведь если двое смотрят снизу вверх на луну, значит, между ними возникает что-то большее, верно? Я бы никогда не заговорил о луне с кем-либо, к кому я равнодушен. Я никогда бы не бежал вслед за кем-то, к кому я равнодушен. Рома молчала, у нее не было слов.
А если так, развивал логическую цепочку Карл-Йозеф, значит, я должен был начать то, что начал. Потому что это не могло длиться вечно – эти свидания в отелях и чужих квартирах, тайные шифры, условные знаки. Еще несколько лет такого мучения – и мы провалимся в старость, и будет поздно. Все, чего я добивался, – это лишь ясности. Разве мы не заслужили открытости в отношениях? Если б ты хоть раз, хоть один-единственный раз высказала мне свое хватит, не хочу, я бы отступил и никогда больше не приблизился бы ни на шаг. Но ты же этого не сделала!
Карл-Йозеф был прав: он и в самом деле никогда не слыхал от нее хватит. В то же время он скорее обманывал ее, но прежде всего себя, заявляя, что отступил бы. Вряд ли он уже был на такое способен. Скорее всего, он так и ходил бы за нею, словно побитый пес, и все выпрашивал бы какие-то очередные украинские визы для очередных тайных свиданий. Но в эту минуту, с головой накрытый алкогольной волной, он готов был поверить в свой мужественный отказ. Главное, что Рома не отваживалась ему перечить, следовало воспользоваться ее виноватым молчанием до конца.
Да, я, кажется, сказал тебе худшее из слов, которое ты только могла от меня услышать, еще патетичнее заговорил он чуть погодя, даже камни посыпались из-под его решительных башмаков. Прости, я действительно обидел тебя, это так. Но ты ведь даже не почувствовала обиды – напротив, попросила моей руки. Ты попросила, чтобы я подал тебе свою руку! Карл-Йозеф встал как вкопанный перед сосновым стволом. Ты! Попросила! Чтоб я! Тебе! Руку! Как мне это было понимать, не пояснишь? Сосна, как и Рома, молчала, поэтому он захромал дальше.
Ведь если среди ночи в лесу кто-то подает другому свою руку, спокойнее продолжил он, это ведь означает близость, не так ли? Я могу чего-то не понимать в ваших обычаях, согласен. Вы, например, целуетесь в губы уже при знакомстве, танцуете с чужими партнерами, слишком близко к ним прижимаясь, у вас почти не существует приватности личного пространства, вы дышите друг другу прямо в лицо и ходите в слишком коротких юбках. Но сейчас я о том, что ты подала мне руку! Это нечто совсем иное, это уже не жест, это приглашение.
Карл-Йозеф и здесь был прав только отчасти: вряд ли он имел причины усматривать в просьбе Ромы помочь ей выбраться из грязи какой-то высший метафорический смысл. В глубине души он и сам это прекрасно понимал. Но в запале атаки все аргументы годились – главное, что Рома молчала, главное, что ее не было рядом.
И потому он мог позволить себе еще одну откровенность, а лучше сказать – нахальство. Я немного знаю вашу жизнь, говорил он, скользя по шишкам и хвое, немного знаю, да. Я уверен, что тут есть десятки знакомых тебе женщин и девушек, которые больше всего хотели бы оказаться на твоем месте. В основном они у вас только и мечтают, как бы выскочить на Запад, все эти брачные агентства, профессиональные сводники, модельный бизнес, проституция и так далее. Хорошо, ты не такая – я все еще надеюсь, что ты не такая – вот только я и правда не знаю, какая ты. И чего ты хочешь, я тоже не знаю. Ведь ты подала мне руку, цеплялся он за последнее, что у него оставалось. Рука, рука, поданная ею рука – дальше его аргументы исчерпывались. Он держался за эту руку изо всех сил, а потом устал.
Ибо потом уже начинался сплошной шум в голове: глухое возмущение, неконтролируемый произвол измученного безмерно долгим ожиданием эроса, попытка сближения, перешедшая в пошлость, первая за всю жизнь пощечина, треск шлагбаума, провальное падение куда-то к черту двух ужасно враждебных тел.
Договоримся так: то был не я, и ты была не ты, сказал на прощание Роме Карл-Йозеф Цумбруннен, наконец отпуская ее вместе с ее рукой.
Это прощание случилось незадолго до того, как он дошел до круглосуточной кнайпы на тринадцатом километре – места, где он уже успел побывать в один из предыдущих дней, разведывая окрестности в поисках будущих объектов. В тот раз он запомнил все, что требовалось: алюминиево-пластиковый павильон на помосте (Карл-Йозеф не знал, что согласно традициям здешней страны такие сооружения принято называть поплавками или – более изысканно – аквариумами), залитые цементом и сплошь раздолбанные ступеньки, такая же зацементированная терраса перед входной дверью, куда летом, очевидно, выносят столики – ну и так далее, включая брошенные там и сям на близлежащей территории мангалы, грибки беседок, следы кострищ, переполненные мусором контейнеры. Ничего особенного, решил тогда Карл-Йозеф, повидавший в прошлых своих блужданиях по Восточным Карпатам десятки подобных мест. «Этим людям, – как-то уже писал он в одном из посланий, – особенно нравится устраивать пьянки среди природы, однако это не совсем то, что в нашем мире привыкли называть пикниками. Горные и лесные местности, которые я обошел в последнее время, невероятно замусорены следами таких не в меру веселых посиделок: битое стекло, пустые жестянки, бумага и всяческое старое тряпье не оставляют шансов для нормального переживания окружающей красоты. Трагикомическим образом подобное почти повсюду соседствует с агитационными щитами, с которых в стихотворной форме (!) вас призывают беречь народное достояние. Хотя, с другой стороны, здесь трудно обвинять самих этих людей – система с малых лет приучала их к вседозволенности. Кстати, вот он, весьма показательный парадокс – вседозволенность для рабов!.. Поэтому делом чести новых поколений является преодоление этой инерции».








