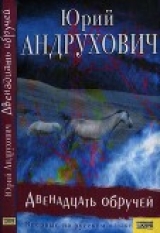
Текст книги "Двенадцать обручей"
Автор книги: Юрий Андрухович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
– На самом деле все может быть намного лучше, чем мы себе представляем.
IV
Завершая

Карл-Йозеф Цумбруннен смотрел на Карла-Йозефа Цумбруннена. Второй из них был телом и лежал на сдвинутых вместе письменных столах, от стоп до пояса укрытый кусками старой мешковины. Первый, напротив, был чем-то иным, более тонким. Этой ночью настал час его высвобождения. Ему было странно видеть себя со стороны, но не в зеркале: собственно говоря, это было ничем иным, как столкновеньем двух главных тайн существования – Смерти с Я.
Карл-Йозеф, тот, что отделился, находился где-то выше – возможно, на потолке. Во всяком случае, недавнее свое тело он видел сверху: начало разложения, первые пятна на коже, последующие явления тоже вполне предсказуемы – гнилостная эмфизема, трупная зелень, отслоение эпидермиса с возникновением пузырей, заполненных сукровицей. Карл-Йозеф все это знал, хоть никогда не изучал патологической анатомии. Но теперь он бесконечно много всего знал и понимал.
Чувствовал ли печаль? Было ли ему вязко в этой темноте, пронизанной лунным сиянием снаружи?
Неизвестно. Есть только уверенность в том, что он не хотел и не мог долго тут зависать – его вызывала Луна. Утром тело должны были отгрузить в Чертополь на судебно-медицинское вскрытие, хотя само вскрытие не могло состояться раньше понедельника, ибо какой в жопу анатом будет вам ковыряться в мертвеце в Святое Воскресенье, да и понедельник под большим сомнением, скорее всего, во вторник или – еще лучше – после Праздников в среду, значит, утром его только должны доставить в холодильную камеру, чтобы остановить процессы сапонификации. Но Карл-Йозеф и так уже сейчас видел, чем оно закончится: бледный свет аргоновых ламп, холодно-металлическое позвякивание острых предметов (холод – это стерильность, а стерильность – это холод!), скрупулезное заполнение протокола в специальном, прошнурованном и скрепленном печатью журнале, монотонная констатация отклонений и потенциальных неизлечимых заболеваний, а также извлечение из вскрытого тела всяческих речных камушков, ряски, пары осиновых потемневших листочков, бледных от слизи личинок и куколок. А потом – это тоже Карл-Йозеф мог ясно разглядеть – циничное и небрежное зашивание. Это когда оторванная кишка наскоро приштуковывается к паху или куда там еще. Карл-Йозеф теперь мог видеть и эти грубые суровые нитки, и цыганскую иголку длиной с полкарандаша, и морговскую, не совсем здравую рассудком санитарку (двадцать девять лет трудового стажа на одном месте!) с расползшимся бюстом, желтыми глазами и тяжкой формалиновой одышкой.
Как фотограф, Карл-Йозеф любил темноту не меньше света.
Но теперь он приобрел множество новых возможностей: видеть, знать, чувствовать. А также – проникать насквозь, ведь его структура с этих пор была тоньше самых тонких структур материи. Поэтому он без усилий вышел вон – через потолок и крышу бывшей гауптвахты. Он приподнялся над ее крышей и теперь смог обозреть ее всю, вместе с двумя часовыми ментами, которые давили на массу в караульной пристройке (разбросанные там и сям казенные шмотки, включенный и добела раскаленный электронагреватель типа казёл, заставленный гранеными стаканами, полупустыми бутылками, объедками и окурками столик, кассетный магнитофон «Весна», два заряженных и прислоненных к стене калашника, два вспотевших во сне мента на одном топчане, только в кальсонах – нет, не гомики, а двоюродные братья, семья – Мыкуляк Иван и Дракуляк Штефан). Они должны были охранять труп до завтрашнего утра. Они его и охраняли.
Карл-Йозеф впервые почувствовал что-то вроде странной болезненной легкости, когда ему удалось – опять же безо всяких усилий – пуститься вверх и достичь так называемой высоты птичьего полета. Он очутился прямо в потоке лунного света, плотного и какого-то даже осязаемого. Месяц на небе еще казался полным, отчего несколько зловещим, хотя на самом деле момент его полноты настал еще в среду, а сейчас он уже шел на спад, и об этом было прекрасно известно всем церковным астрономам. Карлу-Йозефу тоже. Он по-рыбьи извернулся в световой струе и на неопределенную минуту (время для него уже стало чем-то иным) замер. И никаких очков, подумалось ему, никаких биноклей, линз, дополнительных диоптрий. Он видел теперь насквозь и вглубь – на всем открытом его Оку пространстве.
Например, как растет трава, как нефть течет по трубам, как рыба плывет в реках и ручьях, по течению и против. Видел скелеты на дне засыпанных пещер и черепа на дне заваленных колодцев. Или, скажем, неисчислимые TIR-ы, замершие в длиннющих очередях перед пограничными переездами с полуживыми-полузадохшимися пакистанцами (на этот раз он был уверен, что там не бангладешцы, а пакистанцы), которые штабелями лежали, не шевелясь, под полом.
Он также видел тысячи освещенных изнутри церквей – по всей стране.
Карл-Йозеф Цумбруннен описал небольшой круг над долиной Речки и, не колеблясь, взял курс на Трансильванию. Этого нельзя пояснить – это остается только принять как данность. Мертвецы в основном мигрируют на запад. В памяти возникла детская игра в летчика и почему-то – как легко прыгалось в воду, в зеленые-презеленые и теплые речные глубины в окрестностях водяной мельницы.
Но можно ли это назвать памятью?
Он приблизился к Хребту прямо над полониной Дзындзул и – ничто не могло его остановить, даже зов Месяца-Луны – пошел на резкое снижение. Это оказалось сильнее не только ночного светила, но и его самого: не все нити разорваны. Он прошелестел над верхушками припорошенных снегом можжевеловых зарослей, обогнул трамплин и вынырнул прямо перед зданием пансионата. Его тянуло, это было его Место, странный дом с крылечками, террасами и башнями, с десятками окон. Но только два из них светились. И к первому из них Цумбруннен припал, да что там – прилип всем своим существом, ударившись о непробиваемый стеклопакетный холод.
За окном была комната Коломеи Вороныч. Девушка полулежала на застеленной тахте и что-то безустанно записывала в когда-то толстый блокнот, вырывая из него один за другим исписанные листы. Следовала уже сто тринадцатая страница ее письма исчезнувшему другу – тому, который ушел вчера на закате солнца.
«Я знаю, – писала Коля на сто тринадцатой странице, – что Ты раздвоенный, но потому-то и вечный. Ты, который всего лишь одну ночь тому назад еще был тут и классно брал меня [Коля зачеркнула три последних слова] нежно освобождал меня от этого тавра, клейма, клейкого клейнода – я имею в виду мою почившую в Бозе девственность, значит Ты – именно тот, кого я ждала всю жизнь [два последние слова она зачеркнула] не скажу как долго. Но в то же время Ты иной – ггузный, стагый и высый, похожий на хоббита пгестагелый мудозвон [последнее слово зачеркнула] болтун. Потому что, как я теперь уже знаю, Ты существуешь в двух версиях. Молодой – это когда Тебе вечно двадцать семь. Кажется, именно столько было Тому Поэту в ночь его смерти. И старый – это когда Тебе столько, как Тому Поэту было бы сейчас. Это если бы он не умер молодым. Только не говори, что все не так и я снова проехала! Я же видела, как Ты сходил с веранды к Послам Ночи! Они залегли в темных зарослях в ожидании Тебя. Думаешь, меня глючило? [зачеркнуто все предложение] А Ты в последний раз на мене глянул через плечо – то был не Ты! [последние два слова и вопросительный знак зачеркнула], ага, то был тот профессор, на полсекунды он прорезался сквозь Твою оболочку, ибо Ты и он – одно, я знаю. Я думаю, что благодаря этому Ты можешь быть и тут, и на Луне. Потому что на самом деле нам позволено что-то одно: либо тут – либо там. Мы разобщены, правда же? Между прочим, я знаю, что сейчас Ты уже там. Ха! Я видела, как Ты растворился в том гадком [последнее слово зачеркнула] лунном сиянии, как оно уже достало! А потом Послы Ночи тремя здоровенными филинами выпорхнули из своей засады в кустарнике. Ты шел вверх по лунному лучу, а они летели над Тобой и немного сзади, прямо эскорт».
Слово «эскорт» ей пришлось написать с переносом – эскорт. Последние две буквы попали на следующую страницу, а сто тринадцатая была точно так же решительно вырвана и брошена рядом с тахтой на пол – в груду из ста двенадцати ее предшественниц. Карл-Йозеф догадался, что дальше будет о нем.
«Знаешь, – писала она далее, – вот я Тебе пишу, но как я смогу переслать Тебе это письмо? Ты ведь никогда больше не явишься передо мной, это ясно. У Тебя еще так много – непочатый край – непочатых девушек! Непочатый рай девушек! А обычные почтовые услуги, так тут полный капец – сам знаешь, как долго все это длится, когда речь идет о сообщении между нами и Луной. Фактически всю жизнь. Впрочем, мне это фиолетово [одно слово зачеркнуто] не так важно – я все равно допишу это письмо до последних трех точек, потому что я уверена, что оно все равно будет прочитано. А у нас новости. Вчера вечером моя маман с Пепой принесли известие, что тут убили того австрийца-фотографа. Я сейчас все чаще думаю о нем. [Последнее предложение она зачеркнула.] Его уже нет, а я, оказывается, ничего, ничего, ничего о нем не знала! И уже не буду знать, оказывается. Какой он был чувак? Почему он сюда приезжал, что тащило его в нашу сторону? Нет, не так: я не то чтобы думаю о нем, я просто втыкаюсь, потому что он сейчас где-то тут. Например, за этим вот окном. Я зажмуриваюсь, поворачиваю голову к окну, потом считаю до десяти: один – два – три – четыре – пять – шесть – семь – восемь – девять – девять-с-половиной – девять-с-четвертиной – девять-с-ниточкой – девять-с-волосиной – десять! Я открываю глаза – за окном никого и ничего, только ночь. Но он где-то тут. Может, у меня еще просто нет допуска, чтобы его видеть? Зато благодаря ему я поняла, что такое двенадцатый обруч. Это колесо вечности, начало и конец в одном, Альфа и Омега, все мы и каждый из нас…»
Карл-Йозеф Цумбруннен вполне своевременно, на девять-с-волосиной, нырнул в струю ветра, исчезнув из-под ее окна. Понятно, ему не хотелось оказаться обнаруженным. Потому он так и не узнал, что такое двенадцатый обруч. В целом писанное Колей письмо несколько насмешило его своей патетикой, этим вечным свойством молодых и живых. К тому же, вспомнил он, эта девушка слишком много читает фэнтези и слушает Моррисона. Мистика какая-то, решил Карл-Йозеф.
Просто ему уже давно хотелось к другому окну – и вы догадываетесь почему. Так же решительно уткнулся он в него, прикипев лицом.
И оно увидело изнутри тускло освещенную ночною лампой комнату супружеской пары Пепа – Вороныч. Артур и Рома, казалось, спали. Да что там казалось! Спали – и все. Спали, как спят вместе влюбленные люди. То есть так тесно и так вместе, и так близко, и так совокупно дыша, как это делают люди, которые спят вместе по любви. То был неизъяснимо глубокий сон. Карл-Йозеф даже не пытался ее позвать. Включенный ночник свидетельствовал лишь о том, что некоторое время назад они могли заниматься любовью. Большое, во всю оконную раму лицо по ту сторону их комнаты на миг сделалось маской боли. Оказывается, он еще мог это почувствовать.
Разрыв, разрыв. Прощание, утрата, разрыв.
Он изо всех сил оттолкнулся от холодного евроокна. И сразу, резко вспарывая ночной воздух, ввинтился ввысь. И только тогда снова глянул вниз – на молочно-белый от снега и лунных потоков Хребет – когда здание пансионата под ним уменьшилось до бессмысленной родинки на мировой коже.
Ни один пограничный пеленгатор, как водится, не засек его небесных передвижений. Уже на трансильванской стороне Карл-Йозеф впервые понял, кто тут всегда кричит по-птичьи. Ему самому еле удалось выгрести из воздушной коловерти, которая оказалась мощным астрально-энергетическим завихрением. Десятки, если не сотни, душ носились в этой пространственно-временной пучине, без возможности когда-либо из нее выбраться. Вероятней всего, большинство их были обречены оставаться в этой центрифуге вечно. Карл-Йозеф умудрился проскользнуть сквозь безветренную трубу меж двух встречных циклонов, каждый из которых мог бы закрутить его в себе до конца времен.
И уж потом Цумбруннен окончательно лег на свой курс. По левую руку он оставил Сучаву, откуда как раз доносились хоры всенощной службы вперемешку с тромбонными ревами какой-то цыганской свадьбы и маневровыми гудками на станции Сучава-Норд, а по правую – Быстрицу и Пятра-Нямц. Он упрямо держался Карпат, изо всех сил пытаясь никуда не сворачивать от каменистых гряд на хребтах. На трансильванской стороне снега не было совсем, а весна зашла уже так далеко, что, казалось, там внизу вот-вот зацветут сады. Люди пребывали еще ниже, эта высокая страна вообще не принадлежала им. Меж людьми и хребтами залегали леса. Карл-Йозеф не только помнил об этом – он слышал все ручейки в зарослях и видел каждое дерево в отдельности и все деревья разом. Но он мог и не такое даже – ему удавалось слышать и каждый листок на каждом дереве, и как лопаются почки, и как дышит мох, и – что не требовало особенного вслушивания – как под корой нарастают годовые кольца или как стучит сердце у ежа, не только как у волка. Потом он заметил перед собою первые зазубрины Трансильванских Альп, однако, не долетев до них, взял резко на запад. Да, на запад, на запад безусловно – убегая от рассвета.
Перед ним с самого начала раскрывался целый веер возможностей. Он мог, например, выбрать самый короткий путь – над Словакией. Там тоже хватало гор, если ему уж так обязательно необходимо было видеть под собою горы. Он мог взять южнее и петлять над самой словацко-венгерской границей – если б ему хотелось не гор, а известковых склонов и виноградников. В конце концов, он мог бы эту границу пересечь – незаметно не только для часовых, но и для себя самого – и вынырнуть над картографически зеленым Земплином, а там, дрейфуя не столько на юг, сколько на запад, все-таки прибиться к Дунаю чуть выше Будапешта. Собственно, Дуная не было возможности избежать – как в словацком варианте полета, так и в венгерском. А потому и мосты, и баржи, и береговые камыши и заводи все равно ждали впереди.
Однако, если б ему захотелось не кратчайшего, а все-таки самого долгого пути, он мог бы с самого начала пуститься на север и пересечь Польшу. А это означало, что он неминуемо пролетит и надо Львовом. Карл-Йозеф Цумбруннен любил этот город сильнее и честнее большинства его жителей. Сейчас уже можно, не скрывая всей правды, высказать вслух то, что во дни его жизни должно было оставаться тайной: Карл-Йозеф часто видел Львов в своих снах. В тех, где он, исполняя секретные распоряжения неясно-размытых начальников, проникал в какие-то облупленные конспиративные квартиры, а оттуда в замусоренные разным тысячелетним хламом подземелья, ибо выполнял задание найти воду, русло, реку. В последнем таком сне он ее нашел, но это привело к прорыву шлюзов под Оперой, Цумбруннен еще помнил, как отовсюду прибывала пенистая муть, как он стоял в ней по пояс, неспособный пошевелиться, как – ну и что, что рыба – в конце его накрыло с головой, и он захлебнулся.
И все-таки теперь он с самого начала отдалялся от Львова. И никто уже не ответит почему. Возможно, с детства привыкший разрисовывать географические карты, он придумал замкнуть полуэллипс Карпат полуэллипсом собственного полета? Сотворить вокруг центра Европы виртуальный овал имени себя самого?
Возможно и иное. Возможно, это был туннель – его персональный туннель, и он просто не имел выбора.
Все к лучшему в этом лучшем из существований.
Еще той же ночью во Львове режиссер Ярчик Волшебник, пьяный в зюзю, раздавленный и несчастный, каким-то чудом оказался на железнодорожном вокзале, где выковырял из нажопного кармана последнюю мелочь, чтоб оплатить право на вход в платный зал ожидания повышенной комфортности. На самом деле никакой комфортности – даже пониженной – там не водилось, но в то же время безусловным преимуществом было отсутствие ненавистных цыган, которые в последнее время так за него взялись. Ярчик Волшебник плюхнулся всей массой на вокзальную скамейку и попытался осмотреться вокруг в поисках человеческого сочувствия. Наведение резкости в выпученных и мокрых глазах не принесло никакого результата. Но, как только он достал из глубокого бокового початую бутылку «Бальзама Варцабыча», к нему подсел какой-то солдатик. Солдатик оказался дезертиром, ожидающим первую утреннюю электричку дамой на Пасху.
«Это самое, – говорил Ярчик Волшебник дезертиру, пока тот прикладывался к бутылке с темной гадостью, – это, как бы сказать? Приезжаю в пятницу, да? Отснятый материал на кассете, бабки в конверте, да? Ну, как бы полный порядок, да?»
Он уже в сороковой раз рассказывал эту историю. Солдатик почти ничего в ней не рубил, но делал вид, что слушает.
«Это самое, – вещал Волшебник дальше, – я себе такое – ну, поспал, поел, и смотреть кассету, а там ничо! Представляешь, служивый, ничо! Ни-ху-я! Все пропало, служивый! Клип сезона, горячая десятка! Такая эротика – зэ бест! Зэ бест оф, служивый!»
Он переводил дух, глотал из бутылки и вытирал слезы. В течение дня эту историю уже выслушали десятки случайных и не знакомых ему людей. Сначала она была понятной, но чем далее, тем путаней. Вот и теперь ее трудно было уразуметь:
«Тогда я, это самое, ну там конверт, бабло – вот такая была невъебенная пачка, и все зелеными, служивый! И что ты думаешь? Я в конверт, а там, это самое – целая пачка каких-то бумажек, все в говне, целая пачка бумажек, которыми задницы подтирали! Служивый, толстенная такая пачка, двести задниц можно было подтереть, служивый!»
Проверено жизнью: как только Ярчик Волшебник добирался до этого места, его прорывало. В этот раз случилось то же самое – он заревел: «На кассете – пусто, а вместо гонорара говно!»
Солдатик уже давно посылал мохнатого мудака куда подальше, выпивка в бутылке кончилась, а снова и снова слушать, что «это все плащуны, служивый, это все плащуны, нет, ты только это самое – кассета пустая, а вместо гонорара говно», было уже в падлу. А впрочем, он посылал его лишь мысленно: до первой утренней электрички дамой оставалось еще два часа и все равно нехер делать.
Таким образом, здесь и сейчас – последняя для нас возможность увидеть их вблизи.
Например, как пришибленный утратами Волшебник понемногу успокаивается, как его усталость берет свое, как он говорит все тише и неразборчивей, зажевывая целые слова и фразы («гонорар спиздили, австрийца замочили, вся кассета в говне»), и, наконец, как он, словно в яму, проваливается в отчаянье дремотного оцепенения. Солдатик пока что терпит эту голову на своем плече.
Минет несколько минут – и режиссер Ярчик Волшебник, не открывая глаз, увидит, как в платный зал ожидания повышенной комфортности, воспользовавшись моментом, когда все вокруг, включая билетершу и охранников, уснули мертвым сном, со всех сторон проникают полусогнутые вкрадчивые фигуры в драной одежде. Они беззвучно двинутся к нему, при этом щелкая лезвиями своих выкидных ножей. Его ужас подкатится к горлу, он съежится, плащуны занесут над ним ножи. Ярчик Волшебник завопит на весь железнодорожный вокзал станции Львов.
Карл-Йозеф Цумбруннен мог бы услыхать этот вопль, если б ему уж очень того захотелось. Хоть он и удалялся – и не только ото Львова, но и от воспоминаний о Львове. На этот раз он угадал под собой Брашов со стаей воронья, что облепило островерхую башню и крыши Черной Церкви, но, явно распознав в нем свежее астральное тело, тут же учинило душераздирающий переполох во всем подконтрольном пространстве. Поворот в небе над Брашовом привел к тому, что Карл-Йозеф наконец потянулся вдоль южного отрога Трансильванских Альп. Наверное, лунного свечения специально для него добавилось еще больше. Каждую расщелину и каждый скальный выступ он видел с такой ясностью, будто сам их для себя выдумывал. В замках и дворцах в ту ночь развлекались, но все забавы в основном уже катились к завершению. Дамы укутывали в меха свои прозрачно-бледные, обсыпанные лунной мукой, декольтированные плечи, такие же бледные господа раскланивались в ответ, поблескивая медальонами и моноклями. Избранные аристократические сообщества неспешно рассаживались по тряским тарантасам и каруцам, чтобы еще до восхода солнца добраться по своим надпропастным извилистым дорогам домой и, хлебнув на сон грядущий хорошо настоянной крови, завалиться спать в гробах.
Правее Карла-Йозефа оставалась Сигишоара со всеми ее лабиринтами, чуть погодя за контурами цитадели, средневековой аркады от Верхнего города до Нижнего и лютеранской кафедры он узнал Сибиу (ну да, он никогда в жизни там не бывал, но точно также он узнал бы любое здание, улицу, площадь любого на свете города или предместья – в этом теперь состояло особенное преимущество его новых возможностей, поэтому он в уме произнес «Сибиу, Германштадт» и повторил это название еще несколько раз), а потом по резкому выбросу огромной тучи смешанных ядовитых запахов – ну да, нефтехимикалии, и сера, сера, неизбежная сера! – сразу определил, что также справа, но значительно дальше, в каких-то полутора-двух сотнях людских километров, он огибает Тимишоару.
Трансильвания в целом пахла нефтью, да и все на свете пахло ею.
Сигишоара, Тимишоара – оба названия показались ему похожими на заклинания. Это была еще одна нить, пока не разорванная – детская и ребяческая любовь к заклинаниям.
Но, разумеется, не только замки, не только рыночные площади игрушечных немецких местечек, не только шпили и башни. Куда больше было пустоты, а второе место занимали железо и бетон, девяти-, десяти– и двенадцатиэтажные трущобы, завешанные бельевым тряпьем и обтыканные спутниковыми антеннами микрорайоны, далее шли пригородные мусорки, индустриальные свалки, захламленные промышленные территории, пустыри и шахтерские поселки. Всякое на своем месте.
Неподалеку от сербской границы горы перешли в равнину. Карл-Йозеф вздохнул и в последний раз оглянулся на фатальную страну, названную Карпатами.
В ту же, а возможно, и в следующую минуту Артур Пепа и Рома Вороныч проснулись лишь на миг, чтоб встретиться губами. Потом, снова проваливаясь в тот же эпизод, на котором только что была нажата кнопка «пауза», они расплели объятия и друг от друга отвернулись. Часть вторая любого спанья вдвоем – временное отдаление, возвращение в индивидуальную скорлупу со спасительным сигналом со дна заторможенного сознания: это всего лишь середина ночи! Это всего лишь середина жизни!
Вряд ли существует статистика, сколько людских пар во всем мире спит вместе в одно и то же время. При этом еще сложнее узнать, сколько из них спит по любви, сколько в силу привычки, сколько от усталости, сколько по расчету, сколько от отчаянья. И уж совершенно невозможно статистически выяснить, сколько среди них разнополых, а сколько однополых пар. Благодаря Карлу-Йозефу мы узнали, что не только братья-менты Мыкуляк и Дракуляк спали в эту ночь на одном топчане. Мы увидели также Волшебника, уложившего свою кудлатую голову на плечо солдатика-дезертира.
А в чертопольской культучилищной общаге спали в одной кровати Лиля и Марлена. И так вышло не вследствие лесби-шоу для романтического и одинокого мужчины, как сообщали некоторые рекламные объявления. То была сама неизбежность. Сама любовь.
И теперь они лежат, прижавшись тесно-тесно, две совершенно одинаковые девахи, то бишь девчонки или, лучше сказать, тёлки, крашеная блондинка и крашеная брюнетка, только у одной из них сильно подбит глаз и сильно расшатан третий зуб, а у другой – красный рак засоса под левой грудью и целая россыпь синяков на шее и предплечьях.
И ничто их не может разлучить. Разве что только шенгенская виза.
Над Воеводиной Карл-Йозеф Цумбруннен наконец достиг Дуная. Сперва он повернул влево на Новы Сад, но запах грязных бинтов резко отбросил его на север. Всего год назад тут страшно бомбили, поэтому ему не удалось увидеть на дунайском плесе доброй половины ожидаемых мостов. Не лучше обстояло дело и с судоходством: мысль о движущихся корабельных огнях где-то внизу оказалась позорно наивной. Тем не менее Карл-Йозеф все равно решил лететь над самым руслом, все дальше на северо-запад. Он до сих пор сохранял остатки дунайского идеализма из своей недавней жизни, точнее, то была уже лишь память памяти на уровне тончайших клеточных структур его теперешнего тела. Итак, его определенное время тянуло вверх над Дунаем, но уже с самого начала этот путь оказался забит встречными ангелами. Они не то чтобы представляли для него какое-то препятствие – просто следовало всякий раз пояснять, кто такой и откуда. Это было, во-первых, довольно непривычно (как в армии докладывать капралу), а во-вторых, несколько унизительно. Чуть позднее до него дошло, что так будет продолжаться все время, пока он будет тянуться вдоль дунайского русла – то был так называемый Дунайско-Ангельский коридор, место постоянного патрулирования, зона особого внимания. Поэтому Карл-Йозеф резко взял западнее. Это произошло примерно над венгерской границей, дальше лежал Печ, где очередная воронья стая нервным гамом отреагировала на него, заполошно кружась вокруг минаретов. Позднее он поплыл над великой пустотой пушты, где все еще стояла ночь – все время на северо-запад, ну да, он убегал от дневного света, ведь он уже принадлежал, уже почти принадлежал Иному Свету.
Но света земного, электрического тем временем делалось все больше. Чем далее на запад, тем больше появлялось внизу освещенных автотрасс, рельсовых путей, набережных, выщербленный тесак Балатона был весь облеплен жаркой гирляндой береговых прожекторов, фонарей и маяков, дальше за Шопронем уже угадывалось сплошное мерцание, оно приближалось, наезжало на него, словно Западная Цивилизация – ну да, это уже была она, Австрия, неотъемлемая частичка Электро-Световой Империи. Только Нойзидлерское озеро еще поманило его черным удлиненным пятном, и он сумел почувствовать всю соленость его тепловатой воды, весь шелест его камышей, потому что он вообще мог почувствовать этой ночью что угодно. Но уже не так, не так – и это самое печальное.
Он приближался к Вене с юго-востока. Для этого ему не нужны были ни компас, ни астролябия – россыпь цветных огней внизу, очерченных громадной световой дугой с двумя неправильными овалами на концах, свидетельствовал, что под ним Швехат. В такую пору тут еще ничего не происходило – десятки больших и малых самолетов ночевали прямо на летном поле. Правда, уже начинал заходить на посадку UPS6612 из Кельна, в то время как OS3016 из Бангкока опаздывал на двадцать одну минуту. Позднее начиналась настоящая суматоха: Льеж, Копенгаген, Сидней через Куала-Лумпур, а также – черт побери – Одесса через Львов. Вылеты на Будапешт, Стамбул, Афины, Франкфурт. А потом уже ежеминутно.
Какое-то время Карл-Йозеф держался рядом с кельнским, при этом успел заглянуть через иллюминатор в полупустой салон с большой группой индусов в оранжевых тюрбанах (какого дьявола им нужно в Вене в такую рань?!), но, принимая во внимание все более ощутимое посветление восточной части неба у себя за спиной, он вынырнул из-под крыла «боинга» вбок и продолжил свой независимый от каких-либо авиалиний курс.
Кстати, совершенно неверно представлять Карла-Йозефа в виде некого антропоморфного самолета – горизонтальное положение туловища и ног, руки в роли крыльев, голова с пилотом внутри. На самом деле всю свою антропоморфность он оставил еще там, на сдвинутых вместе письменных столах, в помещении бывшей пыточной, а потом гауптвахты, где-то в Восточных Карпатах. На самом деле он был облачком, Каплей в Океане, просто каплею, точкой, частичкой лунного света.
На самом деле он был всем.
Не покидая своего лунного коридора, Карл-Йозеф Цумбруннен добрался до Зиммеринга и дальше полетел над железнодорожной веткой, перешедшей в многорельсовое сплетение железнодорожного депо Кидеринг. По бокам колеи тянулись пустыри, за которыми начиналась маловыразительная застройка. Где-то там, левее, в одном из тех нелепых домов, неподалеку от Курпарка, кажется, проживала Ева-Мария после замужества – но ему даже не пришло в голову увидеть ее спальню, постель, ее саму, послушать, как она дышит во сне. Вместо того, черкнув о территорию Центрального кладбища, он совершенно четко увидел сожжение своего прежнего тела в тамошнем крематории. Это должно было состояться через восемь дней (вызов австрийского консула в Украине, оформление необходимых документов, пресс-конференция посла, авиарейс Киев – Вена со специальным сопровождением, пара-тройка знакомых, собравшихся на процедуру кремирования, далее уже лишь огонь, огонь, огонь) – именно так должно это пройти и завершиться пригоршней пыли, праха, пепла, умевшей когда-то фотографировать и целоваться. Но Карлу-Йозефу не было дела до этой пыли.
Потому что дальше лежал Зюдбангоф, Южный вокзал – пришел его черед. Да, любимый оазис с пальмами, крылатыми львами, бомжами, сумасшедшими, турецко-арабскими таксистами, балканскими проститутками, вокзал для бедных, юго-восточный форпост лучшего из миров. Да, не одну ночь он убил в этих окрестностях, подслеповатый искатель приключений и фотограф, теперь с именем, а тогда живший целым альбомом ночных вокзалов Вены: переполненные мусором урны, десятки деформированных жестянок из-под пива – всегда почему-то «Оттакрингер» и никогда «Ципфер», пластиковые бутылки, бумажные пакеты, коробки, газеты, реклама. Он и сейчас узнал все тех же в залах ожидания – Предрага, Марицу, Деяна, Вилли, Наташу, Исмаила – неужели они так никогда отсюда и не выходили, целых четыре, да где там – почти пять лет?..
Они его даже не почувствовали. Подавать знаки было напрасно. Его разгоняло – все быстрее и быстрее. Он уже проносился над Веной, над Карлспляцем, над горизонтально зависшими в нишах подземного перехода наркоманами, над первыми трамваями на Кольце, над метрополитеновским дном и всем, что глубже. Он уже видел перед собой там, за культурно-исторической клоакой Внутреннего Города, всю северную окраину с ее Венским лесом, зеленым и липким в эту пору года. Ему захотелось упасть на этот лес.
Но где-то в воздушном треугольнике между Святым Штефаном, Мальтийской церковью и Гробницей Капуцинов его властно ударило о невидимый и непроницаемый занавес. И всего ослепило нестерпимо-белой вспышкой. Перед ним встала Световая Стена, из которой хрипловатым джазовым голосом спросили:
– Кто Ты такой? Кто домогается быть впущенным?
Карл-Йозеф непостижимо для себя ответил:
– Я – Его Сиятельство, император Австрии, король Венгрии.
Зрители (а было их, невидимых, сотни тысяч на этом концерте) засвистели и затопали.








